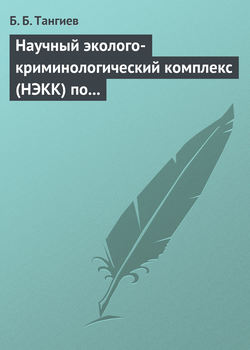Читать книгу Научный эколого-криминологический комплекс (НЭКК) по обеспечению экологической безопасности и противодействию экопреступности - Б. Б. Тангиев - Страница 6
Глава 1. Деятельность Российского государства по противодействию правонарушениям в области охраны окружающей среды: историческая динамика
1.2. Деятельность Советского государства в сфере взаимодействия общества и природы
ОглавлениеВ рамках советского периода деятельности государства по противодействию правонарушениям в области охраны окружающей среды нами выделены четыре этапа. Первый из них (послереволюционный) характеризуется сравнительно небольшой степенью влияния общества на окружающую среду, что было вызвано упадком хозяйственной деятельности и регрессивными явлениями в области урбанизации. Вместе с тем деятели науки, оставшиеся в стране после революционных потрясений, активно включились в решение проблемы предотвращения грядущих негативных воздействий на природу. Их исследования могли бы стать теоретической основой для разработки экологического законодательства.
Среди других функций государства экологическая функция в первые десятилетия существования СССР особо не выделялась. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в конституциях СССР 1924 и 1936 гг. отсутствовали нормы, посвященные роли государства в решении проблемы охраны окружающей среды, прав граждан на здоровую, благоприятную окружающую среду. Жителям страны напрямую предписывалось охранять природу, ее богатства. Это свидетельствует о том, что данная проблема не рассматривалась как заслуживающая особого внимания[61].
Вместе с тем необходимость охраны природных объектов диктовала потребность в формировании соответствующей нормативно-правовой базы. С первых лет установления советской власти был заложен фундамент для правового регулирования экологических отношений. Процесс децентрализации управления землями и другими природными ресурсами с передачей всей полноты власти местным Советам депутатов юридически был оформлен первыми советскими декретами[62], принятыми: в 1918 г. – «О лесах»[63], в 1919 г. – «О сроках охоты и праве на охотничье оружие»[64], «О недрах земли»[65], в 1921 г. – «Об управлении лечебными местностями (курортами) общегосударственного значения»[66] и «Об охране памятников природы, садов и парков»[67], в 1924 г. – «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы»[68] и др. Данные правовые акты были направлены на определение статуса природных объектов, отграничение их от объектов имущественного характера.
Первым же юридическим актом такого рода был Декрет 1917 г. «О земле»[69], который по большей части носил экономический характер, но в то же время уже создавал условия для охраны земель. Статья 2 данного Декрета гласит: «Помещичьи имения, равно как и все земли уездные, монастырские, церковные, переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов»[70]. В следующей статье говорится о том, что «какая бы ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего ныне всему народу, она объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом»[71]. Но интересен тот факт, что нет четко установленной меры наказания. Кроме того, в кодифицированных уголовно-правовых актах «порча конфискуемого имущества» так и не была закреплена. Данное правонарушение очень скоро потеряло свою актуальность. Итак, первое же уголовно-правовое предписание в Советском государстве просуществовало довольно короткий период.
В первые годы существования советской власти уголовно-правовые нормы, регулирующие институт наказания, были разрозненны, носили бессистемный характер. Законодательству, регулирующему охрану природы, были присущи те же пробелы и недостатки, что и раннему советскому законодательству в целом. Степень общественной опасности не зависела от ущерба, причиняемого природной среде. «Оценивая направление уголовной природоохранительной политики двадцатых годов, следует отметить, что оно было определенным шагом назад»[72].
Исследователь истории уголовного законодательства советского периода, которое регулировало отношения по охране природы, Е. В. Виноградова отмечает крайнюю противоречивость норм института уголовного наказания в начальный период существования советского государства. Причиной тому, прежде всего, служила крайне неустойчивая внутренняя политика государства: «…законность заменялась целесообразностью, направленной на удержание и укрепление советской власти… советская власть практически полностью отвергла имперское законодательство»[73].
Вопросы, касающиеся уголовного наказания, да и уголовного права вообще, освещались в различных нормативно-правовых актах, зачастую противоречивших друг другу. Для того чтобы обобщить развививающиеся уголовно-правовые нормы, законодателю потребовалось некоторое время, и уже в декабре 1919 г. были приняты Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Существовали и другие документы. Так, согласно Постановлению СНК РСФСР «О сроках охоты и о праве на охотничье оружие»[74] (май 1919 г.), запрещался данный вид деятельности в весеннее и летнее время, также запрещалось собирание птичьих яиц; торговля свежеубитой дичью до 1 августа под страхом привлечения к ответственности по суду, который (и только он) мог принять решение о конфискации охотничьего оружия у лиц, имеющих свидетельство на право охоты.
Несмотря на то, что система правового регулирования природопользования не имела целостного характера, а была сосредоточена на отдельных объектах природопользования, уже тогда законодатель делал упор на бережное отношение к природе. По Декрету «О земле» все рубки леса без надлежащего разрешения были объявлены преступными. Постановление «О борьбе с лесными пожарами» 1920 г. предусматривало привлечение к суду военного трибунала лиц, умышленно или по неосторожности вызвавших лесной пожар. За эксплуатацию рыбных и звериных угодий, согласно Декрету СНК «Об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане и Белом море», предусматривалось уголовное преследование.
Охрана природы осуществлялась довольно нерезультативными методами. В одной из докладных записок «О нуждах охраны природы в РСФСР», направленной во ВЦИК, подчеркивалось, что «дело охраны природы в РСФСР находится в самом критическом положении»[75].
Первый советский уголовный кодекс – Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.[76] – в регламентации экологических преступлений был более чем шагом назад как по уровню законодательной техники, так и по спектру охраняемых экологических отношений. Только в двух его статьях были указаны составы экологических преступлений[77]: предусматривались суровые санкции за нарушения условий разработки недр, наказуемыми объявлялись охота и рыбная ловля, осуществляемые в недозволенных местах, в неразрешенное время и запрещенными средствами, преследовалась эксплуатация лесов, при которой происходило их «истребление».
Среди историков права ведется дискуссия по данному вопросу; в частности, мнения Н. А. Лопашенко и Г. П. Новоселова, которые полагают, что УК РСФСР 1922 г. «упоминал лишь о двух составах преступлений рассматриваемого вида»[78], расходятся. Первый из упомянутых специалистов утверждает: «Составов экологических преступлений в анализируемом Кодексе было явно больше (нельзя же считать одним составом незаконную охоту и незаконную рыбную ловлю, например), однако недостатком законодательной техники явилось расположение их в двух статьях УК с формулированием одной санкции одновременно для нескольких совершенно разных составов»[79].
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г.[80] составы экологических преступлений были размещены в главе «Преступления против порядка управления», где нарушения постановлений, изданных в интересах охраны лесов, осуществление различного рода запрещенных водных добывающих промыслов, разработка недр, промысел котиков и морских бобров, а затем (с 1928 г.) и незаконная охота рассматривались уже как отдельные составы преступлений.
Хронологические рамки второго, тоталитарного этапа деятельности советского государства в области взаимодействия общества и природы установлены с конца 1920-х до середины 1950-х гг. Он характеризуется расширением хозяйственной деятельности в сфере эксплуатации природных ресурсов и интенсификацией многоаспектного негативного влияния на окружающую среду.
В начале указанного этапа (1930-е гг.) не только в масштабах СССР, но и в союзных республиках появились нормативно-правовые акты (земельно-водные, водно-мелиоративные, лесные кодексы Белорусской, Российской, Туркменской и других республик), регулирующие использование природных ресурсов. Деятельность государства в это время в данной сфере носила, прежде всего, природно-ресурсный характер. Это было обусловлено задачей, стоявшей перед обществом, – использование богатств природы для индустриализации страны. В условиях сложившейся административно-командной системы управления экономикой земли, недра, воды, леса рассматривались в основном как сырье и условия для производства разнообразной продукции. Расточительности, некомплексности их эксплуатации способствовали неграмотное природопользование, отсутствие заинтересованности работников в конечных результатах труда, сведение к минимуму действия механизма товарно-денежных отношений. Немаловажно и то, что богатства природы рассматривались как неисчерпаемые, а отношения с природой – как ее освоение, завоевание. Кроме того, в ходе начавшейся индустриализации в целях достижения хозяйственных результатов государство экономило на содержании очистных сооружений промышленных предприятий. Для сокращения затрат на транспортные и инженерные коммуникации жилые здания строились вплотную к территориям, занимаемым фабриками и заводами, с минимальными санитарно-защитными зонами. Грузовые магистрали прокладывались через жилые районы. Вокруг многих городов и рабочих поселков не были созданы зеленые зоны[81].
Массовая миграция крестьян в города, связанная с интенсивной индустриализацией и кризисом сельского хозяйства, строительство все новых промышленных предприятий без учета экологических требований (очистка сточных вод, деятельность жилищно-коммунального хозяйства, уборка и захоронение бытового мусора) привели к огромной скученности населения в урбанизированных зонах. Только за 1926–1936 гг. количество горожан в РСФСР увеличилось с 16,7 млн чел. до 35,8 млн чел. и их доля в общей численности жителей республики возросла с 18 до 33 %[82].
Вплоть до 1960-х гг. из идеологических соображений проблема охраны природы расценивалась главным образом как санитарная, а не экологическая. Самым пагубным образом сказалась на состоянии окружающей среды имевшая место в течение рассматриваемого этапа нехватка нормативно-правовых актов экологического характера, поскольку данная сфера деятельности государства не считалась приоритетной. Механизм практического решения этой важной проблемы фактически отсутствовал.
В начале 1930-х гг. в процессе формирования административно-командной системы широкое распространение получили репрессивные методы укрепления господства государства над обществом. Прослеживается четкая тенденция к ужесточению норм, обусловливающих преступность и наказуемость деяний. Действия должностных лиц, нарушающих положения об охране природы, квалифицировались по статьям о должностных преступлениях, а ответственность частных лиц за эти деяния не предусматривалась[83].
Третий этап советского периода, названный нами, охватывает три десятилетия, начиная с середины 1950-х гг. В это время «давление» общества на природу, загрязнение окружающей среды и эксплуатацию естественных богатств приняли беспрецедентные масштабы. Заметно проявились признаки значительного истощения природных ресурсов. В поисках выхода из сложной социально-экономической и экологической ситуации руководство страны приняло решение часть полномочий центра передать на уровень союзных республик. Это нашло отражение в развитии нормативно-правовой базы – в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в союзных республиках вступили в действие законы о природопользовании и охране природы, в которых охрана окружающей среды провозглашалась важной государственной задачей.
В Советском Союзе началась разработка нового законодательства, регулирующего природопользование, правовое регулирование которого главным образом реализовывалось с точки зрения экономических интересов, и основное внимание было направлено на размещение и развитие производительных сил страны по экономическим зонам[84]. Земля и ее природные составляющие являлись основным объектом правового регулирования и «брались под защиту закона лишь в той степени, в какой она была экономически выгодна государству»[85].
В связи с этим следует коснуться вопроса места правоохранительной деятельности в свете подходов советских юристов к реализации экологической функции государства как неотъемлемой части комплекса функций государства. Данная проблема рассматривалась с точки зрения задач, которые стояли перед советским государством. Формы реализации функций государства дифференцировались в зависимости от содержания самих функций. Такие формы считались едиными как для деятельности государства в целом, так и для отдельных направлений его деятельности, т. е. функций. Из этого делался вывод о том, что отдельные основные функции государства такого типа «не могут обладать спецификой в отношении форм их осуществления: все функции осуществляются в одних и тех же формах»[86].
Большинством специалистов осуществление функций социалистического государства рассматривалось как практическая деятельность государства, направленная на претворение в жизнь целей государства и решение стоящих перед ним задач[87]. Формы осуществления государственных функций рассматривались как сложное и неоднозначное явление. По данному поводу высказывалось немало мнений – по утверждению В. В. Копейчикова, в те годы в отечественной правовой литературе можно было насчитать до одиннадцати классификаций форм реализации функций государства[88]. Называлось разное их число – три (законодательство, управление и правосудие) или четыре (к уже названным причислялась надзорная деятельность). Имелись подходы, согласно которым такими формами считались осуществление местной государственной власти и т. д.[89] С формами осуществления государственных функций связывались признаки осуществления функций государства как деятельности основных звеньев его механизма: назначение как цель данного вида государственной деятельности; организация органов, выполняющих эту деятельность; способы ее выполнения[90].
Следует отметить, что организационной формой деятельности государства по осуществлению его функций считалось проявление «однородной по своим внешним признакам деятельности органов государства, не влекущей за собой правовых последствий»[91]. Указывалось, что таковыми могут быть: организационно-массовая; культурно- и политико-воспитательная; учетно-статистическая работа государственных органов; вооруженная защита страны от агрессивных действий со стороны ее врагов и т. д.[92]
61
Конституция общенародного государства. М., 1978. С. 226–227.
62
Голиченков А. К. Экологический контроль… С. 15.
63
См.: СУ РСФСР. 1918. № 42. Ст. 522.
64
См.: СУ РСФСР. 1919. № 21. Ст. 256.
65
См.: СУ РСФСР. 1920. № 36. Ст. 171.
66
См.: СУ РСФСР. 1921. № 52. Ст. 311.
67
См.: СУ РСФСР. 1921. № 65. Ст. 492.
68
См.: СУ РСФСР. 1924. № 18. Ст. 179.
69
См.: СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 2.
70
См.: СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 2.
71
См.: СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 3.
72
Жевлаков Э. Н. Экологические преступления и экологическая преступность. М., 1996. С. 8.
73
Виноградова Е. В. Преступления против экологической безопасности: Дис… докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2001. С. 80.
74
СУ РСФСР. 1919. № 21. Ст. 256.
75
Цит. по: Природа. 1981. № 8. С. 14.
76
Цит. по: Источники права. Сер. «Юриспруденция»: Учебное пособие. Вып. 13 / Сост. Р. Л. Хачатуров. Тольятти, 2000. С. 3–40.
77
Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 2001. С. 626.
78
Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 2001. С. 626.
79
Лопашенко Н. А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголов ного кодекса Российской Федерации. СПб., 2002. С. 18.
80
Цит. по: Источники права…. С. 41–84.
81
См.: Соболь И. А. Правовое воздействие на общественные… С. 89.
82
Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. С. 377.
83
Комментарий к УК РСФСР 1960 года / Под ред. М. Д. Шаргородского и Н. А. Беляева. Л., 1962. С. 375, 376.
84
Ерофеев Б. В. Экологическое право России: Учебник для юридических вузов. 6-е изд. М., 2000. С. 81.
85
Ерофеев Б. В. Экологическое право России: Учебник для юридических вузов. 6-е изд. М., 2000. С. 81.
86
Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. М., 1970. С. 184.
87
Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. М., 1970. С. 184.
88
Копейчиков В. В. Механизм советского государства. М., 1968. С. 169.
89
См.: Соболь И. А. Правовое воздействие на общественные… С. 91.
90
Петров Г. М. Сущность советского административного права. Л., 1957. С. 7.
91
Петров Г. М. Сущность советского административного права. Л., 1957. С. 187.
92
Петров Г. М. Сущность советского административного права. Л., 1957. С. 187.