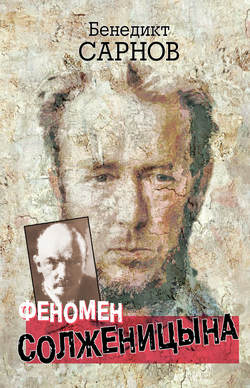Читать книгу Феномен Солженицына - Бенедикт Сарнов - Страница 2
Первые недоумения
ОглавлениеЧетверть века спустя после явления «Ивана Денисовича», в новые, уже «перестроечные» времена я впервые пересек границу «большой зоны». Первой настоящей моей «заграницей» (страны соцлагеря – не в счет) стала Западная Германия.
Город Кельн. Мы стоим с местной дамой (русского происхождения) на каком-то мосту, и я спрашиваю у нее:
– Как называется эта река?
Она спокойно отвечает:
– Эта река называется Рейн.
А вот другая местная дама – на этот раз не русская, а настоящая немка, но прекрасно (она славистка) говорящая по-русски, везет меня на роскошной иномарке вдоль этого самого Рейна.
– А это, – говорит она, – замок нашего графа.
Оглядев очередную средневековую достопримечательность, я спрашиваю:
– А что там сейчас?
Она пожимает плечами:
– Там живет граф.
С такими вот знаниями и представлениями о заграничной жизни я путешествовал по Германии, самостоятельно переезжая из города в город. Добавьте к этому, что по-немецки я знал только несколько слов: «Гитлер капут», «хенде хох», «цурюк» и застрявшее в моем мозгу из школьного учебника – «Анна унд Марта баден».
Этот богатый словарный запас, как вы понимаете, в моем путешествии пригодиться мне никак не мог. Поэтому на перроне каждого нового города меня встречал какой-нибудь русскоязычный немец, державший в руке, чтобы я легко мог его опознать, журнал «Москва».
Весь этот план моего путешествия – от начала и до конца – разработал всю дорогу издали опекавший меня незабвенный Вольфганг Казак.
В городе Майнце я ночевал у профессора-слависта, который лет тридцать тому назад «выбрал свободу», – сел в Восточном Берлине в метро и уехал в Западный.
Вечером мы с ним хорошо посидели: пили пиво, разговаривали. А заполночь, провожая меня в отведенную мне спальню, профессор спросил, не хочу ли я взять у него почитать что-нибудь на ночь.
Я сказал, что да, конечно, с удовольствием, дома я каждый день привык засыпать с книгой, иначе, пожалуй, и не усну. Но воспользоваться его любезным предложением смогу только в том случае, если у него найдется для меня какая-нибудь русская книга. Он сказал:
– Да вот, пожалуйста, только что мне прислали новый том Солженицына – «Март семнадцатого». Хотите?
Я, конечно, хотел.
Надо сказать, что к солженицынским «узлам» я в то время относился уже без всякого интереса. Читать его историческую тягомотину и без того было скучно, а тут ещё это его «языковое расширение»... Но раскрыть самую свежую солженицынскую новинку, которая до Москвы когда ещё дойдет... Да ещё «Март семнадцатого»... О семнадцатом годе я готов был читать всё!
В общем, лег я в мягкую и свежую немецкую постель с томом Солженицына в руках, предвкушая какое-никакое, а все-таки удовольствие.
Раскрыл. Начал читать. И сразу погрузился в сложные отношения государя императора с государыней императрицей. Государь тяжело переживал случившуюся накануне размолвку с женой. А размолвка вышла из-за того, что он, по мнению государыни, недостаточно сурово наказал убийц нежно любимого и глубоко ею почитаемого «старца» (Распутина).
Гнев государыни поначалу был неукротим. Но в последние дни этот её гнев уже слегка поутих, и – государь облегчился.
Так прямо было и написано: «Государь облегчился». В том смысле, что у него стало легче на душе.
Я, конечно, не сомневался, что Александр Исаевич прекрасно знал, в каком значении нынче употребляется этот глагол. Но ему было на это наплевать. Верный владевшей им фанатической идее «языкового расширения», он решил вернуть ему его первоначальный, исконный, прямой смысл.
Понимая всё это, я тем не менее не мог удержаться от улыбки, закрыл книгу и отложил её в сторону. Решил, что авось удастся как-нибудь заснуть и без нее. И – заснул, чему немало способствовала мягкая немецкая постель, накопившаяся за день усталость, а может быть даже и выпитое перед сном пиво.
Всё это, напоминаю, было спустя четверть века после появления «Ивана Денисовича». И к тому времени поводов к тому, чтобы разочароваться в Солженицыне – и в писательских, и в человеческих его качествах – у меня скопилось уже довольно много.
Но первое недоумение случилось совсем скоро.
В октябре 1965 года, когда Александра Исаевича у нас уже не печатали, в «Литературной газете» вдруг появилась его статья.
Называлась она так: «НЕ ОБЫЧАЙ ДЁГТЕМ ЩИ БЕЛИТЬ, НА ТО СМЕТАНА».
Уже само это название показалось безвкусным: искусственным, натужным, по правде говоря, даже каким-то дурацким.
Начиналась она вполне нормально – хотя, может быть, излишне резкой, но, в общем, довольно убедительной полемикой с появившейся накануне в той же «Литературной газете» статьей академика В. В. Виноградова:
Статья академика Виноградова («Литературная газета» от 19 октября с. г.) рождает досадное ощущение: и тоном своим, и неудовлетворительным подбором примеров, и – в противоречие с содержанием – собственным дурным русским языком.
Тон её высокомерен – без надобности и без оснований. Несправедливо истолкованы побуждения старейшего писателя К. И. Чуковского, отдавшего лучшие движения своего таланта прослеживанию жизни нашего языка и поддержке всего живого в нём, будь оно седое или только что рождённое. Тот же обидный тон взят автором и по отношению к Ф. Гладкову, С. Ожегову, Ф. Кузнецову.
Подбор примеров поспешен, поверхностен, лишён стройности. Одни примеры слишком наглядны, слишком школьны для статьи, наметившей себе глубокую и дальнюю цель, другие – несправедливы: Шукшин упрекается за воспроизведение живого диалога, Кетлинская – за употребление прекрасных русских слов «распадок» и «проран», И. Гофф – за изящное обыгрывание ошибки с иностранным неразговорным словом. Главное же: примеры эти все беспорядочно сгружены и не помогают нам усвоить положительную мысль автора – да и есть ли она в статье? – какие же главные пороки и как предлагает он нам преодолеть их в письменной русской речи?
Напротив, своей авторской речью он подаёт нам худой образец. Он не ищет выразительных, ёмких слов и мало озабочен их гибким русским согласованием. Говорить о великом предмете нам бы стараться на уровне этого предмета. Если же «Заметки о стилистике» начинены такими выражениями, как «общесоциальные и эстетико-художественные перспективы», «структурно-стилистические точки зрения», «массовые коммуникации в современной мировой культуре», «в силу значительной интеграции», а для внезапностей устной речи не подыскано лучшего слова, чем «пилюли», – то такие «Заметки» угнетают наше чувство языка, затемняют предмет вместо того чтобы его разъяснить, горчат там, где надо сдобрить.
(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт. Париж. 1983. Стр. 467–468)
Это всё – про дёготь, которым академик Виноградов (и как вскоре выяснится, не он один) не только сам портит, но и других призывает портить наши русские «щи».
А вот какой, втолковывал он, должна стать годная для заправки этих «щей» сметана:
Кто скажет убывь (действие по глаголу), нагромоздка? Обязательно: «убывание», «нагромождение». Кто напишет для сохрану? Нам подай «для сохранения». И приноровка нам не свычна, то ли дело «приноравливание»! И перетаск мебели нам не так надёжен, как «перетаскивание».
Образование существительных склейкой по два, по три вместе («речестрой» Югова, «Литературная газета» от 28 октября с. г.) – тоже ведь не наше. Со взгляду кажется: речестрой! ах, как по-русски! Ан – по-немецки...
И избыток отвлечённых существительных – это тоже не наше, надо искать, как содержать их во фразе поменьше.
Оставалась втуне и чисто русская свобода образования наречий, в которых таится главный задаток краткости нашего языка. Таких, как вперевёрт, вприпорох (о снеге, песке), понять дотонка (во всей тонкости), скакать одвуконь (то есть на одной лошади верхом, а другую ведя для смены рядом).
Мало использовалось преображение глаголов приставками, почти от каждого застыло лишь несколько главных форм, и нас теперь поражает такое простое сочетание, как: он остегнулся (нам понятнее: он застегнулся, попадая петлями на несоответствующие пуговицы). Мы усвоили, что можно на-клонить, от-клонить, при-клонить, но нас почему-то удивляет рас-клонить (ветви); приняв «уклониться», мы чураемся уклонить (кого, что)...
...Мы усвоили «отшатнуться», несколько дичимся формы «отшатнуть», а как хорошо употребить: вышатнуть (кол из земли), пришатнуть (столб к стене).
У нас затвержено «недоумевать», но мы зря бы ощетинились против доумевать (доходить упорным размышлением).
Как коротко: узвать (кого с собой); призевался мне этот телевизор; перемкнуть (сменить замок или перенести его с одной накладки на другую); мой предместник (кто раньше занимал моё место); ветер слистнул бумагу со стола (вместо: порывом ветра бумагу приподняло и снесло со стола); перевильнуть (в споре со стороны на сторону).
Употреби – и, пожалуй, зашумят, что словотворчество, что выдумывают какие-то новые слова. А ведь это только бережный подбор богатства, рассыпанного совсем рядом, совсем под ногами.
(Там же. Стр. 469–471)
Над всеми этими его предложениями можно было бы разве что посмеяться. И даже и не посмеяться, а только лишь усмехнуться, что, кстати сказать, мы (я и два моих соавтора по пародийному цеху) тогда тотчас и сделали:
Давно целился я на Марьину Рощу, да как-то всё дороги не ложились. И то сказать: в Британской энциклопедии про неё ни словом, да и в летописи не в каждой сыщешь, – хотя по пятому веку место это русскому духу и русскому уху гульче звучало, чем по двадцатому Лужники.
Но ленивы и нелюбопытны мы искони. Сидим у «телика», в коем лица перекаженные мреют как бы попьяну, толчемся в человечьей заверти, а нет чтобы присесть на пеньке, без помех подумать: кто она, Марья эта, от кого есть пошла Марьина Роща.
Иные бабы поопрятнее и позаботнее её были. Не статью брала, не розумом даже, – святостью. По пятому веку была она поправеднее, нежели тезка её, Марья Магдалина по первому или сверх того – Марфа Посадница по шестнадцатому. От святости и занемогла.
Охватистую калиту рыжиков – рыжизны редкостной – собрала, изготовила да и поела всласть. Ан сласть-то горечью обернулась. Неделю Марья животом маялась, обеззубела, обезволосела, – однако же пургену, зелья басурманского, принять не схотела.
Давно это было. До´кости растворилась Марья под асфальтом столичным, да и рощу ту извели, а всё хорошо бы историю Марьину насвежо издать в поучение детям нашим.
Негоже нам, русским, корнями своими небречь.
Негоже дегтем щи белить. На то сметана.
(Л. Лазарев, С. Рассадин, Б. Сарнов. Липовые аллеи. Литературные пародии. М. 2007. Стр. 54–55)
Эта наша пародия была, по правде сказать, довольно слабенькая. Солженицынские «убывь», «перетаск», «припорох» мы не то что не сумели перепародировать, но даже не поднялись до того уровня комизма, какой эти его слова-уродцы несли сами по себе.
Но вспомнил я тут её не затем, чтобы похвастаться этой нашей давней пародийной удачей (на самом деле – неудачей), а только лишь для того, чтобы продемонстрировать, с каким добродушным юмором была воспринята нами эта, как тогда можно было предполагать, безобидная и даже милая причуда великого человека.
Так бы оно, наверно, и было, если бы не главная, центральная идея той солженицынской статьи. Именно она более всего меня изумила:
Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе.
Словарный запас неуклонно тощал; ленились выискивать и привлекать достойные русские слова, или стыдились их «грубости», или корили их за неспособность выразить современную высокую тонкую мысль (а неспособность-то была в нетерпеливых авторах). Взамен уроненного наталкивали без удержу иностранных слов, иногда очень хороших (кто кинет камень в «энергию», «нерв», «процесс», «проблему»?), часто совсем никчемных...
Грамматический строй сохранял стойко то, что роднит наш язык с европейскими, но пренебрегал многими исконными своими преимуществами...
Но больше всего блекла наша письменная речь от потери подлинно русского склада («свойства языка для сочетания слов», по Далю), то есть способа управления слов словами, их стыковки, их расположения в обороте, интонационных переходов между ними. Эту третью беду трудно сколько-нибудь изъяснить в тесной газетной статье, но читатель безошибочно ощутит её вкус, сопоставив фразы из какого-нибудь современного литературного документа (хотя бы из статьи академика Виноградова) с той особенной живостью, которая аукает нам почти из каждой русской пословицы, – аукает, намекает, как можно фразы строить, а мы не слышим:
И на мах, да в горсти...
Репьём осеешься, не жито и взойдёт.
В девках сижено – плакано: замуж хожено – выто.
Здравствуй женившись, да не с кем спать!..
Если возьмёт верх подлинно русский склад, то и многие иностранные слова обживутся в нём, как свои, и будут запросто держаться, очень легко. И наоборот, предупреждал Даль, «в не русском обороте речи у слова нашего не только отымаются руки и ноги, а отымается язык: он коснеет и немеет».
Так что самый придирчивый отбор русских слов – это ещё далеко не русская речь. Много важней русский склад – русское построение фразы.
Однако замечательно – и обнадёживает нас! – то, что все указанные пороки, сильно поразив письменную речь, гораздо меньше отразились на устной (тем меньше, чем меньше были говорящие воспитаны на дурной письменной). Это даёт нам ещё не оскудевший источник напоить, освежить, воскресить наши строки. (Да только и склад, и грамматическая свобода устной речи тоже годны не всякие, здесь-то и нужен вкус да вкус!)
Оговоримся, что словарный запас устной речи, хотя и переполняется множеством терминов науки и техники и преходящим жаргоном, он тоже скудеет; приметим за собой, что мы выражаемся малым числом всё повторяющихся слов. Так в убыстрённый век разговорный словарный запас общества становится (не считая терминов) клином, сужающимся во времени. Это тревожно. Нам бы суметь обернуть клин, перекинуть узкую часть назад, а вперёд он пусть расширяется...
Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду...
(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт. Париж. 1983. Стр. 468–472)
Получается, что с петровских времен развитие русского языка пошло НЕ ТУДА, КУДА ЕМУ НАДО БЫЛО ИДТИ.
То есть устная русская речь, быть может, ещё и сохраняла свои живые краски, а вот письменная...
Но ведь именно на этом самом письменном – ущербном – языке, развитие которого после Петра пошло куда-то не туда, была создана ВСЯ ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА! И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и Тургенев, и Достоевский, и Чехов!
– Ну, что скажете? – помню, спросил я про эту солженицынскую статью у заглянувшего в тот день к нам на огонек Бориса Заходера.
– А что тут скажешь? – развел он руками...
Но прежде чем привести этот хорошо мне запомнившийся его ответ полностью, хочу сказать несколько слов о том, что за человек был Боря Заходер, почему именно его реакция на изумившую меня солженицынскую статью была мне особенно интересна.
Помню, пришел он к нам в тот день, когда открылся Двадцать Третий съезд КПСС. Это был первый партийный съезд после снятия Хрущёва, и некоторые наивные люди, на что-то ещё надеявшиеся, с интересом ждали новых важных государственных решений. (Поговаривали о каких-то экономических реформах, предлагаемых тогдашним премьером Косыгиным).
Боря заявился к нам чуть ли не прямо с поезда: только что приехал из Ялты.
– Ну, что слыхать? – спросил он после того, как мы обменялись первыми приветствиями. – Что там у них на съезде?.. Я, правда, на вокзале – по радио – услышал одну фразу. Даже полфразы. И всё понял. Так что ничего нового вы мне, наверно, уже не сообщите.
– И какая же, Боря, это была фраза? – с интересом спросил я, не представляя себе, как по одной случайно услышанной даже не фразе, а полуфразе ему удалось сразу понять, чего нам всем надо ждать от этого их съезда.
– А фраза была такая, – сказал Борис. И с видимым удовольствием процитировал: – «Мы будем и впредь».
Надо сказать, что в полной мере всю глубину этого его высказывания я оценил не сразу. Принял – как остроту. Умную, меткую, точную, но – не более того: чего, мол, от них ждать, будут и впредь делать то, что делали раньше, что делали всегда.
Но в этом отсечении второй половины фразы, в полном отсутствии интереса у услышавшего её Бориса к тому, что последует за первой её половиной, – интереса к тому, что именно будут они делать и впредь, на самом деле заключался смысл гораздо более глубокий, чем даже уже тогда очевидное для меня предвидение, что ни из косыгинских, ни из каких других намечавшихся ими реформ ничего путного у них не выйдет.
Полностью эта ритуальная фраза, наверно, звучала как-нибудь так: «Мы будем и впредь крепить нерушимую дружбу народов нашей страны». Или: «Мы будем и впредь отстаивать дело мира во всем мире».
Оборвав её на половине и – мало того! – поставив точку там, где должно было бы стоять многоточие, Борис превратил эту полуфразу в законченную формулу, которая обрела совершенно новый смысл – не только иронический, но даже жутковатый.
Формула «Мы будем и впредь» – с точкой на конце – означала не только то, что они будут и впредь продолжать гонку вооружений, раздувать пламя холодной войны, поддерживать все бандитские режимы, какие только есть на нашей планете, пестовать и обучать террористов, разрушать экономику страны и издеваться над собственным народом. Ритуальная фраза эта – именно вот в таком, усечённом виде – адекватно выразила самую суть уникальной нашей советской системы. Уникальность, состоящую не столько даже в том, что это была система без обратной связи, сколько в том, что единственным исключением из этого правила, единственным доступным ей проявлением этой самой обратной связи было как бы изначально встроенное в неё устройство, автоматически отбрасывающее любое начинание, несущее в себе угрозу какого бы то ни было – пусть даже не очень значительного – изменения, исправления, улучшения этой самой системы.
А вот совсем другой припомнившийся мне случай.
Зашла как-то у нас с ним речь о едва ли не самой популярной в те времена песне – «Я люблю тебя, жизнь».
Я, как всегда, многословно и, наверно, не слишком вразумительно пытался выразить свое отношение к её тексту. Борис слушал меня, слушал, не соглашался, но вроде и не возражал. И вдруг сказал:
– Я люблю тебя, жизнь, хоть и знаю, что это наивно.
И в этом ироническом перифразе песенной строки («Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно») было и всё, что я так долго и безуспешно пытался выразить, и ещё многое другое: мудрый скепсис человека, знающего истинную цену телячьему оптимизму, грустная уверенность, что рано или поздно жизнь преподнесет каждому неизбежную дозу разнообразных горьких сюрпризов, и даже более того: сознание той невеселой истины, что жизнь, какой бы светлой и радостной она ни была, в самой основе своей – трагична.
Я так подробно остановился на этих вдруг припомнившихся мне эпизодах, потому что в них, как мне кажется, замечательно выразилась всегда восхищавшая меня способность Бориса не только проникать своим мощным ироническим умом в самую суть сложных вещей и явлений, но и выражать свое понимание этой сути с совершенно поразительной простотой, легкостью, свободой и каким-то особым, только ему одному свойственным изяществом.
Вот и сейчас тоже, – задав ему свой вопрос о только что прочитанной солженицынской статье, я ждал, что он ответит на него как-нибудь вот так же: коротко и – убийственно.
И дождался.
– Ну что тут скажешь? – задумавшись, начал он.
И вдруг, оборвав себя, смеясь, процитировал из письма Белинского Гоголю:
– Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов! Что Вы делаете!
К таким обобщениям я был тогда ещё не готов. Да и Борис сказал это, как говорится, в тоне юмора. То есть – в шутку.
Но чем дальше, тем чаще я вспоминал эту заходеровскую шутку, находя в ней всё большую и большую долю правды.
* * *
Во всех тогдашних наших спорах о Солженицыне, – а споры эти теперь вспыхивали все чаще и чаще, – я неизменно его защищал.
Защищал, например, когда «новомирцы» жаловались, что он готов их предать, отдав какой-то очередной свой опус в другой журнал или, не посоветовавшись с ними, в театр «Современник». Тут я прямо на стенку лез: да почему, собственно, он должен считаться с «Новым миром», да хоть бы и с самим Твардовским! Что он – подписал с ними контракт на вечные времена?! Да и не обязан он – упавший к нам с неба – делать разницу между мелкими нашими групповыми разногласиями – «Новым миром» и, скажем, «Молодой гвардией». Оттуда, с того неба, с которого он к нам упал, эта разница не больно видна. Да и, по правде говоря, не так уж и существенна.
Разногласия «Нового мира» с черносотенной «Молодой гвардией» и таким же черносотенным софроновским «Огоньком» или сталинистским кочетовским «Октябрем» были, конечно, совсем не мелкими. Но Солженицыну (да, по правде говоря, в то время уже и мне тоже) довольно было уже одного того, что все они были – советские. А он в то время, что ни день, то дальше и дальше закидывал свой чепчик за нашу советскую мельницу.
Взять хотя бы вот это, одно из самых громких его тогдашних обращений к соотечественникам – знаменитый его призыв к нам ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ:
На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, – но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг – отказаться от работы, как это вдруг – выйти на улицу?
Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории, – тем более не для нас, и вправду – не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло, – видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой...
Так круг – замкнулся? И выхода – действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь само?
Но никогда оно от нас не отлипнет само, если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнёмся хотя б от самой его чувствительной точки.
От – лжи...
...Не каждый день, не на каждое плечо кладёт насилие свою тяжёлую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи – и в этом вся верноподданность.
И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи. Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня...
Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, – не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!..
(Александр Солженицын. Публицистика. Том первый. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 188–189)
Ограничься он этой общей декларацией, и все его единомышленники тотчас бы и легко с ним согласились. Да, да, конечно! Откажемся!..
Но это была только преамбула. А далее у него следовала ясная и четкая, очень конкретная ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ:
Наш путь: ни в чём не поддерживать лжи сознательно. Осознав, где граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), – отступиться от этой гангренной границы!..
Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:
– впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;
– такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;
– живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;
– не приведёт ни устно, ни письменно ни одной «руководящей» цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;
– не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;
– не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;
– не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искажённое обсуждение вопроса;
– тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;
– не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.
Мы перечислили, разумеется, не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться, – взором очищенным легко различит и другие случаи.
Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать...
Это будет нелёгкий путь? – но самый лёгкий из возможных. Нелёгкий выбор для тела, – но единственный для души...
Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи – и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч – и мы не узнаем нашей страны!
Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не даёт дышать – это мы сами себе не даём!
(Там же. Стр. 189–191)
Тут уже и самые ярые его единомышленники, самые восторженные его почитатели – и те зачесали в затылках.
И то сказать, не такая уж это малость пожилому кормильцу семьи остаться без работы, а молодому – быть выброшенному из института: нельзя ведь учиться в советском вузе и не ходить на лекции и не сдавать зачеты и экзамены по основам марксизма-ленинизма.
Даже обожавшая Солженицына Лидия Корнеевна Чуковская, когда зашел тогда у нас с ней разговор на эту тему, и та выразила сомнение в правильности этого его призыва.
– Ну, хорошо, – сказала она. – Допустим, откажутся – не все, но хоть лучшие из лучших – сдавать эти зачеты. Их исключат из институтов. И кто тогда в нашей несчастной стране будет, спустя годы, учить детей в школах? И кто будет лечить – тех же детей, и стариков, да и просто больных, заболевших, скажем, воспалением легких?
Но я и тут защищал его. Говорил, что пророк – он на то и пророк, чтобы призывать к несбыточному, невозможному. Сколько лет прошло со времен библейских десяти заповедей. А люди, как ни в чем не бывало, продолжают убивать друг друга, и мужчины по-прежнему желают жен своих ближних. Никакие заповеди не отвратили их от этого. Так что же, зря, значит, Моисей принес нам с Синая эти свои скрижали?
Хоть и не так страстно и не так уверенно продолжал я его защищать и в спорах, с новой силой вспыхнувших по поводу пущенного им в Самиздат его «Письма вождям Советского Союза».
На самом деле это его «Письмо» меня тоже тогда оттолкнуло.
Оттолкнуло уже самое его начало, в котором он давал понять нашим «вождям», что сохраняет некоторую надежду на успех своего обращения к ним, потому что, как бы там ни было, а ведь все-таки они с ним «одной крови»:
Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен... Не обнадежен, но пытаюсь сказать тут кратко главное: что я считаю спасением и добром для нашего народа, к которому по рождению принадлежите все вы – и я.
Это не оговорка. Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас – тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице – где уродился, там и пригодился, а глубже – из-за несравненных страданий, перенесенных нами.
И это письмо я пишу в предположении, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы – не безнациональны.
(Там же. Стр. 149)
Точно так же, помню, поразило меня в «Теленке», что когда возникло у него намерение написать письмо в правительство, попытаться найти с ними если не общий язык, так хоть компромисс, сомнений насчет того, к кому именно из «них» стоит обратиться, у него не было:
А – кому послать, колебания не было: Суслову! И вот почему. Когда в декабре 1962 года на кремлевской встрече Твардовский представлял меня Хрущёву, – никого из политбюро близко не было, никто не подошел. Но когда в следующий перерыв Твардовский водил меня по фойе и знакомил с писателями, кинематографистами, художниками по своему выбору, – в кинозале подошел к нам высокий, худощавый, с весьма неглупым удлиненным лицом – и уверенно протянул мне руку, очень энергично стал её трясти и говорить что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», и тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал, а Твардовский мне укоризненно вполголоса: «Михаил Андреевич...» Я плечами: «Какой Михаил Андреич?..» Твардовский с двойной укоризной: «Да Су-услов!!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частенько подводит – вот я и не узнал. Но вот загадка: отчего так горячо он меня приветствовал? Ведь при этом и близко не было Хрущёва, никто из политбюро его не видел – значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? Законсервированный в политбюро свободолюбец?..
Это у мертвяка Суслова «весьма неглупое лицо»... Это Суслов – «законсервированный в политбюро свободолюбец»...
Ну, ладно, на всякого мудреца довольно простоты. Ну, купился Александр Исаевич на сусловские похвалы его «Ивану Денисовичу», на радостное трясение Михаилом Андреевичем его руки... Может быть, и в «Письме вождям», когда он выражал надежду, что те, к кому он обращается, «не безнациональны», вспомнилось ему неглупое лицо и пылкое рукопожатие М. А. Суслова.
Но та программа действий, та модель спасения отечества, те, тогда ещё не шибко развернутые, но уже достаточно ясно выраженные идеи насчет того, «как нам обустроить Россию», изложенные в этом его обращении к вождям, отвратили меня даже ещё больше, чем выраженная в его начале надежда на их «небезнациональность»:
...Высшее богатство народов сейчас составляет земля. Земля как простор для расселения. Земля как объём биосферы. Земля как покров глубинных ресурсов. Земля как почва для плодородия. И хотя о плодородии тоже прогнозы мрачные: земельные пространства в среднем по планете и рост плодородия будут исчерпаны к 2000 году, а если удастся с/х производство удвоить (не колхозам, конечно, не нам), – то к 2030 году всё равно плодородие исчерпается, – это в среднем по планете. Однако есть четыре счастливые страны, обильно богатые неосвоенною землёй ещё и сегодня. Это – Россия (я не оговариваюсь, именно – РСФСР), Австралия, Канада и Бразилия. И в том – русская надежда на выигрыш времени и выигрыш спасения: на наших широченных северо-восточных земельных просторах, по нашей же неповоротливости четырёх веков ещё не обезображенных нашими ошибками, мы можем заново строить не безумную пожирающую цивилизацию «прогресса», нет, – безболезненно ставить сразу стабильную экономику и соответственно её требованиям и принципам селить там впервые людей. Эти пространства дают нам надежду не погубить Россию в кризисе западной цивилизации...
Полвека мы занимались: мировой революцией; расширением нашего влияния на Восточную Европу; на другие материки; преобразованием сельского хозяйства по идеологическим принципам; уничтожением помещных классов; искоренением христианской религии и нравственности; эффектной бесполезной космической гонкой; само собой – вооружением, себя и других, кто просит оружия; чем угодно, кроме развития и благовозделания главного богатства нашей страны – Северо-Востока. Но не предстоит нашему народу жить ни в Космосе, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Латинской Америке, а Сибирь и Север – наша надежда и отстойник наш...
Итак, наш выход один: чем быстрей, тем спасительнее – перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодёжи) с далёких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны – на её Северо-Восток.
(Александр Солженицын. Публицистика. В трех томах. Том первый. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 163–167)
Тут сам собою возникал, прямо напрашивался простой вопрос. А ну как молодежь не захочет добром ехать осваивать этот отстойник? Силой, что ли, будем её туда отправлять? Так это мы, вроде, уже проходили...
Всё это в нашем (увы, довольно узком) кругу, конечно, обсуждалось. И образ недавнего нашего кумира не то чтобы потускнел, но изменился, обретя черты не только комические, но и, по правде сказать, отталкивающие.
Говорили мы об этом между собой только в наших кухнях: о том, чтобы выступить с критикой солженицынских идей публично, разумеется, не могло быть и речи – ведь это значило бы присоединиться к государственной, кагэбэшной травле главного борца с ненавистной нам советской властью.
Один из нас, однако, на это все-таки решился.
В 1974 году (вон как давно это было!) Давид Самойлов написал и вскоре опубликовал поэму «Струфиан. Недостоверная повесть», герой которой – Федор Кузьмин (он же – Федор Кузьмич, тот самый старец, легенда о котором так волновала Льва Николаевича Толстого) – являлся перед читателем в роли автора некоего тайного сочинения, которое, как только будет оно завершено, он намеревался повергнуть к стопам самого Государя Императора:
Кузьмин писал. А что писал
И для чего – никто не знал.
А он, под вечный хруст прибоя,
Склонясь над стопкою бумаг,
Который год писал: «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поскольку не был сей трактат
Вручен (читайте нашу повесть),
Мы суть его изложим, то есть
Представим несколько цитат.
«На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не будет девы с коромыслом,
Не будет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом,
И эта духа сухота
Убьет все промыслы, ремёсла;
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута.
Дабы России не остаться
Без колеса и хомута,
Необходимо наше царство
В глухие увести места –
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный».
«Необходимы также меры
Для возвращенья старой веры.
В никонианстве есть порок,
И суть его – замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок».
В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон.
Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.
Не могло быть ни малейших сомнений насчет того, куда было направлено жало этой художественной сатиры. Конечно же, это была пародия – откровенная и довольно злая – на Солженицына, на его «Письмо вождям Советского Союза».
Злая ирония этого самойловского «Струфиана» Солженицына больно задела. И, спустя годы, эту тогдашнюю свою обиду он Самойлову припомнил:
...Всю жизнь, в жажде покоя, остерегался Самойлов печатать стихи с общественным звучанием. Но однажды все-таки не уберегся, заманчиво – стезя общественного поэта, и не опасно: ударить по «Письму вождям» Солженицына: «Дабы России не остаться/Без колеса и хомута,/Необходимо наше царство/В глухие увести места – /В Сибирь, на Север, на Восток...» Ну, и собрал сколько-то благожелательных хихиканий среди московских образованцев...
(А. Солженицын. Давид Самойлов. Из «Литературной коллекции». «Новый мир». 2003, № 6. Стр. 175)
Опубликовал Солженицын этот свой очерк о Самойлове в 2003-м. А написан он был, как о том сообщает нам в его тексте сам автор, в начале 1995-го. Вот, стало быть, как долго (целых тридцать лет!) лелеял Александр Исаевич эту свою обиду. Но самое примечательное в этом «сведении счётов» с уже умершим к тому времени поэтом не злопамятность, не свежесть этой его давней обиды, а упрямое его нежелание видеть и знать правду о том предмете, о котором он взялся писать.
Чтобы показать, как далека от реальности злая реплика Солженицына насчет того, что Самойлов будто бы всю жизнь, «в жажде покоя» уклонялся от сочинения стихов «с общественным звучанием», приведу только одно давнее самойловское стихотворение:
Если вычеркнуть войну,
Что останется? Не густо.
Небогатое искусство
Бередить свою вину.
Что ещё? Самообман,
Позже ставший формой страха.
Мудрость, что своя рубаха
Ближе к телу. И туман.
Нет, не вычеркнуть войну,
Ведь она для поколенья —
Что-то вроде искупленья
За себя и за страну.
Правота её начал,
Быт жестокий и спартанский,
Как бы доблестью гражданской
Нас невольно отмечал.
Если спросят нас юнцы,
Как мы жили, чем мы жили,
Мы помалкиваем или
Кажем раны и рубцы.
Словно может нас спасти
От стыда и от досады
Правота одной десятой,
Низость прочих девяти.
Ведь из наших сорока
Было лишь четыре года,
Где нежданная свобода
Нам, как смерть, была сладка.
Стихотворение это было написано в октябре 1961-го.
Никто из сверстников Самойлова, поэтов военного, фронтового поколения (ни Наровчатов, ни Межиров, ни Луконин, – ни даже Слуцкий!) никакого стыда «за себя и за страну» тогда не чувствовали. А если и чувствовали, в стихах это не выражали. Самойлов был едва ли не единственным (кроме разве одного Коржавина), кто посмел сказать об этом вслух.
Как же мог Солженицын, прочитавший всего Самойлова насквозь и посвятивший ему специальный очерк, этого не заметить? Неужели только неостывшая личная обида ему в этом помешала?
Думаю, что были для этого ещё и другие причины, и со временем я о них, наверно, ещё скажу.
Но это всё – более поздние мои мысли.
А тогда, в 1974-м, я обо всем этом, конечно, не думал.
Нацеленная в Солженицына ирония самойловского «Струфиана» была мне, конечно, близка. Не просто близка! Это были, как писал иногда на докладах своих министров Николай Второй, «мои мысли». Мои, но выраженные с таким блеском, на который я сам, конечно, не был способен.
Но ясно сознавая, что все эти его идеи «спасения Руси» мне не только чужды, но и прямо враждебны, я все-таки не позволял себе думать о Солженицыне совсем уж худо. Что бы там ни было, он все-таки ещё оставался для меня главным символом сопротивления ненавистному мне сталинско-брежневскому режиму.
Помню, однажды, когда мы в какой-то компании обсуждали это самое солженицынское «Письмо вождям», один из самых резких его критиков, с которым я был, в общем, согласен, заключил свою речь такой фразой:
– Короче говоря, если бы у нас сейчас были свободные выборы, за Солженицына я бы голосовать не стал.
На что я тут же отреагировал:
– Ну да, ты бы голосовал за Брежнева.
* * *
Споры о Солженицыне в нашем кругу не утихли и после его «выдворения». Пожалуй, стали даже более ожесточенными. В одном случае, слух о котором уже тогда до меня докатился (тесен, тесен был тогда этот наш маленький круг), дело даже дошло чуть ли не до скандала.
Настоящего скандала не вышло, потому что «скандалист», заваривший всю эту кашу (Д. Самойлов), был хозяином дома, а мишенью, на которую была направлена его словесная атака, – стала главная и самая почетная его гостья, Лидия Корнеевна Чуковская. Оскорбить Лидию Корнеевну Давид, разумеется, не хотел, – слишком глубоко он её любил, ценил и уважал, но в то же время не мог не понимать, что каждое слово той его антисолженицынской инвективы не могло не восприниматься ею как личное оскорбление.
Сам он в своих «Подённых записках» суть инцидента излагает коротко:
Новый год у нас. Крамовы, Игорь Виноградов с женой, Л. К.
Сперва хорошо. Потом я напился. Инцидент с Ал<ександром> Ис<аевичем.
Более подробно рассказывает о случившемся вдова поэта:
На встрече Нового, 1975 года, вызвавшей бурную и гневную реакцию Л. К., спора как такового, в сущности, не было. Солировал в основном Д. С., повторяясь и распаляя себя до резких выражений, особенно неуместных в присутствии Л. К., зная её повышенное, а то и восторженное отношение к Солженицыну.
Л. К. перестала встречать Новый год с 1938 года, с тех пор как арестовали, а затем убили её мужа. И много раз настаивала, что так оно и будет до конца её дней. А тут мы её уговорили нарушить самозапрет и приехать к нам, и она не сразу, но согласилась.
Какая она была нарядная, оживленная, милая, ласковая, с какой изящной простотой держалась и принимала почтительное уважение окружающих. Праздничное очарование Л. К. и общая благорастворенная атмосфера дали первый толчок к тому, что произошло дальше. Д. С. тоже размягчился, но на свой лад, не отвлекаясь от себя: это с какой же стати хорошая, и очень хорошая, Л. К. дарит вниманием всех подряд, а не его одного, когда ему оно – нужнее. И перенаправил воздушные потоки «в сторону Дезика». «То, что тайно живет в подсознанье», непосредственность соединительного чувства вырвалась наружу, не успев облечься в подобающие одежды.
(«Все тот же спор». Неопубликованное письмо Лидии Чуковской Давиду Самойлову. Публикация и подготовка текста Е. Ц. Чуковской. Вступительная статья Г. И. Самойловой–Медведевой. «Новый мир», 2006, № 6)
Что именно вырвалось в тот момент у Давида «из подсознания наружу», из этого объяснения не поймешь. Но кое-что можно понять из той его части, в которой подробно излагается вся предыстория интересующего нас сюжета:
Без этого имени в те годы редко обходилось любое интеллигентское толковище. По какому бы поводу ни собрались, солженицынская тема возникала неизменно, порождая большой накал страстей. Не могли миновать её и Л. К. с Д. С. при своих регулярных встречах. Краткие дневниковые записи Д. С. доносят живое дыхание давно умолкнувших речей:
«Были с Галей у Лидии Корнеевны. Читал ей половину письма Солж<еницы>ну.
Она огорчена, но не может не оценить правоты. Просит лишь подчеркнуть, что я не сомневаюсь в его чувстве чести».
«Приезжала Л. К. Разговоры о Солженицыне. Несмотря на её обожание – рассказ о характере жестком, рациональном. Вилы за шкафом.
С такой властью такой только и может тягаться».
«Приезжала Л. К. Долгий разговор о Солженицыне. «У него характер немецкий».
При всем восхищении этот характер ей чужд».
«Дописал «Струфиана» и читал его несколько раз – Храмову, вечером – Л. К.
Первая её мысль – не печатать.
Потом объективность поборола любовь к А. И.».
(Там же)
Но о том, ЧТО ИМЕННО наговорил ей Давид за тем новогодним столом, и тут – ни полслова.
Кое-что, однако, можно понять из сохранившегося в архиве Л. К. Чуковской обращенного к ней письма Давида от 19 января 1975 года:
Дорогая Лидия Корнеевна!
Простите, что я так огорчил Вас, что испортил Вам вечер, в который искренне хотел Вас развлечь. Мне очень стыдно некоторых слов, которые были произнесены в запале. Я, конечно, не совсем так думаю.
Жаль мне ещё и Ваших глаз, потраченных на письмо мне, и Вашего времени.
Но уж раз так получилось, мне бы хотелось ответить Вам по существу. Надо только собраться с мыслями, потому что вопрос не простой. Друзей моих до конца месяца не будет в городе, поэтому, если Вы не возражаете, я им покажу Ваше письмо вместе с моим ответом. Надеюсь, он будет уже готов и, конечно, сперва прочитан Вами.
Ужасно думать, что тот разговор встанет стеной между нами. Но, видимо, договорить его следует...
Не сердитесь на меня...
Любящий Вас.
(Давид Самойлов – Лидия Чуковская. Переписка. 1971–1990. М. 2004. Стр. 31)
К упоминанию о полученном им письме Л. К., на которое он собирается ответить, в цитируемой книге было сделано такое примечание:
Когда Л. К. была в гостях у Д. Самойлова, между ними возник спор об А. И. Солженицыне. Вернувшись домой, Лидия Корнеевна мысленно продолжила этот спор и послала Самойлову большое письмо. Это письмо не сохранилось.
(Там же. Стр. 32)
На самом деле письмо это сохранилось. Не сохранился оригинал. Но спустя какое-то время после выхода в свет этой «Переписки», составительница книги Елена Цезаревна Чуковская нашла в архиве Лидии Корнеевны черновик этого её большого письма, судя по всему, мало чем отличающийся от оригинала.
Именно этот черновик и был опубликован в «Новом мире». И из этой публикации мы наконец узнали, ЧТО же там на самом деле произошло.
Л. ЧУКОВСКАЯ – Д. САМОЙЛОВУ
15.1.75
Дорогой Давид Самойлович.
Сидя на председательском месте за своим добрым новогодним столом, Вы сказали (цитирую дословно), что А. И. Солженицын:
человек плохой
Пауза
да, самый лучший человек России – человек плохой
Пауза
пло-хой че-ло-век
Пауза
неблагодарность как принцип жизни
Пауза
жил в доме и не разговаривал с хозяйкой дома
Пауза
супермен
Пауза
плебей и хам
Каждый волен говорить и думать о чем угодно, о ком угодно что угодно. В том числе и Вы о Солженицыне. В особенности сейчас, когда он благополучен, превознесен, богат и наконец в безопасности. Теперь уж и выбранить его не грех. Но в Вашей брани одна фраза имеет опорой сведения, исходящие будто бы от меня, а этого я допустить не могу. Неправда, злая неправда.
А<лександр> И<саевич> С<олженицын> лет восемь периодически живал в двух домах – в Переделкине и в городе, – которых я могу считаться хозяйкой. Значит, это у нас на даче и у нас в городе он расположился, как плебей и хам, и это со мною, хозяйкой дома, будто бы не разговаривал?
Вы меня в ту минуту точно по голове стукнули, я потерялась и не ответила, как следовало. А за столом сидели люди, у которых сведений о домашней жизни А. И. С. нет и быть не может. Один из них очень благородно сказал, что ведь и Лев Николаевич и Федор Михайлович тоже были, кто их там знает, хорошие ли люди? Выходило так, будто где-то кем-то уже установлено: А. И. С. человек плохой, неблагодарный, неблагородный, но окажем ему снисхождение: он имеет заслуги.
Обсуждать, плох ли, хорош А. И. С., я не стану. Меня своим появлением в мире и присутствием в моей жизни он одарил несравненно... Хорош ли, плох – молчу. Для меня хорош. Да и не берусь я писать сочинение на тему: «А. И. С. как человек»; я недостаточно глубоко и близко знала его. Но обязана Вам, судье, представить свои показания: «А. И. С. как жилец».
(«Новый мир», 2006, № 6)
«Плохой человек», «плебей и хам»... Вот, значит, какие ужасные слова были произнесены за тем новогодним столом. Вот до какого градуса поднялось в кругу недавних единомышленников отрицание недавнего их общего кумира.
Давид на это большое послание Лидии Корнеевны (к тексту его я ещё не раз буду возвращаться) ответил процитированным выше коротким письмом, в котором выразил сожаление, что огорчил её и испортил ей вечер. А разговор «по существу» отложил на потом («...мне бы хотелось ответить Вам по существу. Надо только собраться с мыслями, потому что вопрос не простой»).
Этот его ответ, который он обещал вместе с её письмом показать друзьям, – а потом, разумеется, и ей, – до нас не дошел. Во всяком случае, в составленном Еленой Цезаревной томе их переписки этого обещанного им ответа я не обнаружил. Но от спора «по существу» он не уклонился, о чем мы можем судить по другому, более раннему его письму на ту же тему:
Д. С. САМОЙЛОВ – Л. К. ЧУКОВСКОЙ
Дорогая Лидия Корнеевна!
Последний наш раздраженный разговор породил во мне многие тяжелые сомнения не только по существу спора (спора по существу быть не может, ибо Вы принимаете всё без всякого сомнения, ибо Вам достаточно подвига, в котором и есть высший смысл), а именно постановкой вопроса.
Можно ли накладывать табу на проблему столь жгучую, как проповедь А. И.? Ведь эта проповедь, учитывая его авторитет, одно из важнейших «намерений об исправленьи Империи Российской». Как же избежать разговора об этом «прожекте»? И можно ли жить, не оценивая его, прежде всего с нравственной стороны?
Вы отказываете человеку, который, по-Вашему, не сделал то-то и то-то, судить план жизни, который предлагает ему, бедняге, герой. Толпа не смеет судить героя. Герой имеет право вести толпу, куда ему угодно. Так ли это? Ведь это то самое, с чем мы сталкиваемся каждый день. С отбиранием права мыслить, с превентивной уверенностью в правоте, с превышенной платой за подвиг. Подвиг, оплаченный такой ценой, не нужен и бессмыслен.
И метод тот же – наш. Кто осмеливается судить о мыслях героя, тот мещанин, «комфортник»...
Человек, однажды совершивший подвиг, приобретает не только права, но и обязанности. Жаль, если нам, сирым, приходится ему об этом напоминать.
Если герой важнее правды, я за правду. Если для утверждения героя можно пожертвовать толпой, я за толпу. Герой для нас, а не мы для героя. Иначе – героя нет. Иначе – кулачный боец, сильная личность, что угодно, но не герой, не тот, кто может быть идеалом, пророком, водителем и т. д. Нет героя без учения...
Считаю необходимым изложить все это.
Д. Самойлов
14/XII 75
Ответа Лидии Корнеевны на это письмо в составленном Еленой Цезаревной томе я тоже не обнаружил. Но легко могу себе представить, каков был бы этот её ответ, поскольку и сам в разговорах с ней не раз возвращался к этой жгучей теме и выслушивал все, – как правило, впрочем, очень мирные – её резоны.
Кое-какие из этих тогдашних наших разговоров я легко мог бы восстановить тут по памяти. Но в этом нет никакой нужды, поскольку в опубликованных недавно дневниковых записях Л. К. о Солженицыне есть прямой, непосредственный отклик на эту её размолвку с Самойловым, прямой её ответ ему уже не только на тему «А. И. С. как жилец», но и «по существу спора»:
28 января 75 г., вторник, Москва. Письмо от Самойлова, извиняющееся по форме и наступательное по содержанию. Хочет продолжать дискуссию. Продолжу, но как мне продолжить братство с ним? Третьего дня он выступал в ЦДЛ (Володя Корнилов не стал бы, даже если б позвали); зал – битком; все в восторге – ещё бы! Он читал: «Выйти из дому при ветре...» – но и антисолженицынскую поэму прочел, и «все» были в восторге. Ох уж эти все! Вешаю себе на стены портреты А. И., целых 3, в ответ.
(Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. М. 2010. Стр. 342–343)
Ответ более чем определенный и как будто исчерпывающий. Но за этой записью – на той же странице! – следует другая, из которой видно, что и у неё с Александром Исаевичем немало идейных разногласий:
24 февраля 75, понедельник, Москва...
Получила длиннейшее письмо от А. И... Просит прочесть сб. «Из-под глыб».
Я его сейчас читаю. Ох, горюшко. Талантливо, умно; есть и молодые таланты; но всё – христианство; всё – православное; и не такое, а вот этакое... Мне же это совсем чуждо, всё, что церковь, – мертво; а Христос для меня воскресает только в стихах Пастернака, Ахматовой, в живописи.
Тут же напечатана статья А. И. «Образованщина» – о нашей интеллигенции, сплошная оплеуха (со ссылкой на меня: «Кого-то пора от интеллигенции отчислить» из «Гнева народа»). Оплеуха заслуженная. Но больно получать и заслуженную оплеуху, а главное – следует ли опять, и опять, и опять зачеркивать категорию людей? (Нация; класс; сословие; интеллигенция.)
Где-то – уж не помню где – кажется, в «Раскаянии и покаянии», что Россия принесла много вреда Польше, но Россия каялась («начиная с Герцена» и пр.), а кто же каялся, кроме Герцена. Аксаков, славянофил, считал его изменником и призывал покаяться. «Вам каяться!» – отвечал Александр Иванович. Тютчев (славянофил) попрекал в стихах кн. Суворова, который отказался подписать адрес Вешателю... Ничего этого Ал. Ис. не знает, вероятно.
Где-то он пишет о мистическом единении нации... Это не для меня...
(Там же. Стр. 343–344)
Себе она все эти недоумения и несогласия разрешает. Но – только себе! Готова немедленно порвать с каждым, кто осмелится произнести вслух хоть слово критики, направленной на её кумира:
6 июня 75. Переделкино. Из главнейших событий – мой полуразрыв с А. Д... Я тогда только что кончила «Теленка» и жила вся в пожаре этой книги и злобных разговоров о ней с окружающими. При мне Лев ещё не осмелился её поносить, но я знала, что всем он её поносит, да и не только он. О, какой это ужас, «все»; интеллигентное стадо или неинтеллигентное! Но – стадо. Подарили стаду гения, а оно мерит его своими мерками. Пока А. И., напрягая все мускулы души и тела, создавал для них же «Архипелаг», они обсуждали его образ жизни, отношения к друзьям, навестил или не навестил в больнице первую жену, вторую жену – не соображая, что он ничей не муж, а «муж судьбы», «пред кем унизились цари», кто вот-вот исчезнет «как тень зари» – а они к нему с мелочью и ерундой. Он тоже делает иногда мелочь и ерунду, а все-таки он – это Он, а они – это Они. Толстой был так велик, что мог позволить себе писать глупости о Шекспире. Его отличие от нас то же, что было у Пушкина от людей того времени: гениальность и мужество. Он как Шаляпин у Ахматовой: «Наша слава и торжество». Но существуют бабы с их обезьяньим умом... Существуют самолюбия. Существуют и люди, которых он в самом деле несправедливо обидел... И Муж Судьбы, поворачивающий историю мира, не всегда прав «пред нашей правдою земною».
(Там же. Стр. 346)
Этот дневник Лидии Корнеевны, наверно, – самое яркое свидетельство того амбивалентного отношения к Солженицыну, какое сложилось тогда в кругу недавних его поклонников и почитателей. В то же время он уникален, потому что в нем эта амбивалентность выявилась не только в разногласиях и спорах вчерашних единомышленников, вдруг ставших, как это часто бывало в истории, яростными идейными противниками, но и в душе и сознании одного человека. И именно этим он для нас особенно интересен.
14 декабря 75, воскресенье, Москва.
Самойлов; позвонил; я просила его прийти... Принес мне письмо – опять об А. И. Чтоб я спокойно прочла. Я будто бы запрещаю спорить. А я не запрещаю им точить лясы, я только не хочу принимать в этом праздном занятии участия. Да, с мыслями А. И. я во многом не согласна; он считает национальной чужеродностью происшедшее, а я не думаю, что дело было в чуждой национальной примеси. Все политические партии России, особенно большевики, как все вообще профессиональные революционеры, чужды культуре и рушат её, не берегут её. Октябрьская революция была торжеством Нечаевства + Марксизм; черт ли в том, что Зиновьев еврей? Жданов и Попков были русские – от этого не легче. Ну вот, но рассуждать без конца об А. И. я не хочу – я прочла одну его страницу... и за неё отдам всю их болтовню со всеми потрохами. Он – художник, и притом русский художник, т. е. писатель, взыскующий правды.
И – тут же:
А. И. сказал в Стокгольме, что введение демократии приведет к межнациональной резне. Так. Но ковыряние в национальном характере и национальных винах – к чему приведет?..
И – рядом:
29 декабря 75 г., понед., Москва.
Люблю А. И., хоть он и напрасно раскрывает скобки еврейских фамилий: его национализм простить ему можно, но скобки ассоциируются с подготовкой дела врачей, а это простить труднее, даже нельзя. Напишу ему.
(Там же. Стр 348)
Чем дальше, тем больше А. И. дает ей поводов для такого рода недоумений. И все чаще возникает у неё желание поспорить с ним, возразить, откровенно высказать ему свое несогласие. («Напишу ему»).
Но когда такое желание, – даже по тому же самому поводу, – возникает у кого-нибудь ещё, она прямо-таки взрывается возмущением и гневом.
И так – все тридцать три года (первая запись о Солженицыне помечена 19 ноября 1962-го, последняя – 8 ноября 1995-го), на протяжении которых велся этот дневник.
Двойственность, пресловутая амбивалентность её отношения к «классику», как она его называет, то и дело прорывается даже не в разных записях, а в одной и той же:
16 апреля 75, среда, Москва.
Да, вот ещё боль: классик. Все больше и больше его здесь разлюбляют, даже ненавидят. Д. С. был только первой ласточкой. Сейчас центр ненависти, болезненной, его старинный «друг». Я еще не читала животное (имеется в виду «Теленок». – Б. С.); уверена, что книга гениальна (потому что классик – с натуры – гений) – но верю, что там есть нечто недопустимое, о чем уже все и орут. (Гений побоку, промахи – вперед.) её, видимо, ещё нельзя было печатать (как нельзя мою Ахматову: люди живы. Нельзя). Кроме того, ведь он полной правды написать не может – ибо те, кто действительно спасал и его, и его книги – хранил, фотографировал, распространял, ежедневно переписывал, – живы...
Надо, конечно, не судя прочесть. Но уже вперед болит сердце, потому что правды написать он не может, это я уже знаю... Очень меня удивило и его интервью: он сказал, что Белль перевозил рукописи на Запад. Но ведь все точки общения Белля известны – здешние – как же так?
За последние недели я одолела «Глыбы» и «Континент». Конечно, это счастье, что мысль возрождается. Я ему написала огромное письмо, после которого он внутренне, наверное, порвет со мной, – о моем неприятии религиозности и упора на национальный вопрос. Русский и есть русский, как елка и есть елка, и нечего об этом кричать. Превращение русских обратно в евреев я считаю вредным психозом. За это он меня проклянет: он подчеркивает свое уважение именно к уезжающим «на родину» евреям.
Скорблю, что между ним и А. Д. не только спор, но тень. Говорят, он, в «животном», рассказал о колебаниях А. Д. насчет отъезда... Пересказывать частные разговоры... можно ли?
(Там же. Стр. 344–345)
Иногда эта «амбивалентность» принимает формы прямо-таки комические. Вот (это уже после возвращения Солженицына на Родину) она откликается на одно из тогдашних его публичных выступлений (видела по телевизору):
23 февраля 1995 г
К сожалению, Ал. Ис. о Чечне сказал совершенно мельком и не сердечно. «Большой дом» – т. е. Россия! – горит, страна погибает, и по сравнению с разрушением большого дома ужас в маленьком (т. е. в Чечне) не так важен. Он не прав. Россия, огромная Россия, уничтожает маленькую Чечню, и это позор, это напоминает позорную Финскую войну и тяжело скажется на нравственности русского народа. Грозный уже сметен с лица земли и многие села. Ельцин, Грачев, Степанков торжествуют и делают Ковалева и Юшенкова изменниками родины. Этим сильно понижается нравственный дух народа, об очищении и подъеме которого так заботятся А. И. С., Струве и пр., и пр... На каком уровне – насильников и злодеев! – вернутся оттуда наши юноши. Что будет с их нравственностью?.. Я не знаю, бандит ли Дудаев, но вокруг него сплотился весь чеченский народ, обороняющийся от чужеземцев... И все это из-за газопровода, о котором можно было договориться без всякой войны.
Месяц спустя она вновь возвращается к этой больной теме:
22. IV. 95 ...
В Чечне бойня продолжается... А. И. продолжает молчать. Из современных событий занят только земством и недостатками нашей системы выборов. А что бойня в Чечне есть не возвышение, а унижение русского духа, об этом не говорит. (По телевизору он выступает раз в 2 недели).
(Там же. Стр. 414–415)
Золотые слова!
Но вот те же самые золотые слова осмелилась вымолвить Ольга Чайковская (очень тогда известная наша журналистка):
12 мая 95.
Выходка Ольги Георг. Чайковской против А. И. С. Она как-то звонила мне с вопросом: куда адресовать ему письмо? Хочет написать ему письмо о Чечне – так куда, и дойдет ли? Я сказала: пишите в Представительство и непременно дойдет. Потом наш разговор пошел совсем в другую сторону – о Ел. Серг. Грековой, о здоровье, о сборнике 500 русских писателей и пр. Адреса почтового на Козицком я не знала – она утром позвонила, чтоб узнать адрес – Люше. Л. ей приветливо сообщила.
И вдруг по «Свободе» – её рассказ об ужасах в Чечне, творимых там нашими войсками и ОМОНом. И все это почему-то адресовано Солженицыну! Как будто он этого не знает, и как будто он причастен к творимым там ужасам!
Это письмо следовало адресовать Грачеву и Ерину. А при чем тут Солженицын? Она ставит ему в пример Короленко. Но, при полном уважении к Короленко, Солженицын никогда не притворялся в уважении к советской интеллигенции... Солженицын любит крестьян, верует в их красоту и силу, проповедует земство... Это его вера и его право – заниматься тем, чем ему (а не О. Г.) хочется и непременно тем, чего требует от него (сам помалкивая) аэропортовский дом... Почему, в самом деле, требовать единомыслия? Ведь не требует же А. И. С., чтобы О. Г. Чайковская писала непременно о земстве... Он занят другим делом. (Он решает свои задачи по очереди. Как сам считает нужным. Ему 76 лет – его поздно учить.)
(Там же. Стр. 417–418)
Это уже прямо безумие какое-то! Забыла она, что ли, что только что (и трех недель не прошло!) сама предъявляла Александру Исаевичу те же претензии, по поводу которых теперь негодует?
Такой вот плюрализм в одной голове. А плюрализм в одной голове, – как метко было сказано однажды, – это шизофрения...
На самом деле эти взаимоисключающие высказывания Лидии Корнеевны, этот её «плюрализм в одной голове» отнюдь не свидетельствует о раздвоении личности. Скорее напротив.
Как говорит Полоний в «Гамлете», в этом безумии есть своя система. В данном случае – очень жесткая, предельно логичная и последовательная система ценностей.
Лидия Корнеевна была бескомпромиссна до нетерпимости. Это было главное, определяющее свойство её личности. Оно проявлялось и в большом, и в малом. Иосиф Бродский вспоминал, что когда они (молодежь) собирались у Анны Андреевны, обстановка была всегда самая непринужденная. Хозяйка сразу же отряжала кого-нибудь за бутылкой водки и, не жеманясь, пила вместе со всеми. Но стоило только на горизонте появиться Лидии Корнеевне, как водка тотчас исчезала со стола, на всех лицах «воцарялось партикулярное выражение, и вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом».
Мне в это очень легко поверить.
Помню, однажды Лидия Корнеевна пригласила меня и моего приятеля Макса Бременера посетить её. Мы с Максом жили тогда в Переделкинском Доме творчества, так что идти нам было недалеко: дача Корнея Ивановича – прямо напротив ворот этого Дома.
Но на нашем пути к Лидии Корнеевне вдруг возникло неожиданное препятствие.
На пороге стоял Корней Иванович, одетый и снаряженный для гуляния.
– Вот молодцы, что пришли! – радостно встретил он нас. – Как раз вовремя.
Думаю, что радость его была неподдельна: он любил гулять в окружении людей, охотно слушающих его рассказы.
Я, честно говоря, уже готов был пренебречь приглашением Лидии Корнеевны, отложить наш визит к ней до другого раза. И не только потому, что не хотелось обижать старика: гулять с Корнеем Ивановичем, по правде говоря, мне было интереснее, чем слушать редакторские замечания Лидии Корнеевны о детских рассказах моего друга Макса.
Но Макс, в отличие от меня, не дрогнул.
– Собственно, мы пришли к Лидии Корнеевне... – мужественно возвестил он.
– Понимаю! – тем же радостным, ликующим, певучим своим голосом прервал его Корней Иванович. – Вы боитесь Ли-идочку! Пра-авильно. Я и сам её боюсь!.. Идите, идите к ней!
И он удалился, помахав нам на прощание рукой.
Это, конечно, была шутка. Но – и не совсем шутка.
Бескомпромиссность Лидии Корнеевны часто делала общение с ней нелегким. Вот, пожалуй, самый красноречивый пример: коротенькая запись в «Дневнике» Корнея Ивановича (30-го января 1968-го года):
Лида величава и полна боевого задора. Люда Стефанчук сказала за ужином, что один из рассказов Солженицына (которого она обожает) понравился ей меньше других. Лида сказала железным голосом:
– Так не говорят о великих писателях.
И выразила столько нетерпимости к отзыву Люды, что та, оставшись наедине с Кларой, заплакала.
(Корней Чуковский. Собрание сочинений. Том тринадцатый. Дневник. 1936–1969. М. 2007. Стр. 456)
ТАК НЕ ГОВОРЯТ О ВЕЛИКИХ ПИСАТЕЛЯХ!
Эта её реплика всё объясняет.
В том, что Александр Исаевич Солженицын – ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ, у неё не было ни малейших сомнений. Уверенность в том, что он – ГЕНИЙ, никогда её не покидала.
6 апреля 76, Москва, вторник.
В эфире – единоборство гения, Солженицына, со всем миром.
9 мая 76. Понедельник.
Сейчас я купаюсь в океане благоуханной русской речи: читаю III том «Архипелага». Перед этим все мелко. Это книга книг. «Игру эту боги затеяли». Тут, в этом жанре («научно-художественном», как говорил и писал когда-то Маршак), он несравним ни с кем и бесспорен, вне зависимости от ошибок мыслей и обобщений. (Завирается насчет XIX века.) Читаю с наслаждением как великое совершенство. В его языке... есть нечто ахматовское, пушкинское – мощь. И какой гениальный путь – путь гениального человека, которому всё по плечу: и книга, и жизнь...
...Да, я понимаю, что классик не может не верить в Провидение, судьбу, Бога.
(Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. М. 2010. Стр. 350)
Конечно, и гений может «завираться». Даже Толстой, – гений из гениев, величайший из великих, – и тот «завирался». При случае можно и гению указать на «завиральность» некоторых его идей. Но – ни на секунду не забывая при этом, С КЕМ говоришь, КОМУ смеешь высказывать свои претензии.
И она не забывает:
...К интеллигенции он жесток, а главное – он не понимает её. Образованщина! И все тут...
Солженицын говорит мельком о том, что до Нобелевской его поддержала «тоненькая пленка». Я не знаю всего состава этой пленки, но те, кого я знаю, – сплошь интеллигенты...
У такой огромины, как он, и заблуждения огромны. Огромный человек, талант огромный. Для того чтобы стать гением, ему не хватает только интеллигентности!
13/XI 95, понедельник. Читаю публицистику Солженицына. Удивительная книга! Столько ума, пророчеств, и столько безумия и злости не по адресу. Написано все насквозь превосходно, дивишься языку, синтаксису, емкости слов – и привкусу безвкусицы и безумия. Ну почему, например, А. И. утверждает, будто русский и украинский народы понесли наибольшие потери в войне против фашизма? А Белоруссия – не понесла? Ведь на неё первую накинулись гитлеровские войска. И таких «почему» очень много, хотя много и ошеломительных правд.
И настойчивые призывы к «национальному сознанию», «национальному возрождению» рядом с проклятиями – заслуженным и незаслуженным – по адресу интеллигенции. Как будто без интеллигенции возможно какое бы то ни было сознание. Интеллигенция и есть сознание... Что такое Россия и русское национальное самосознание без Державина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Фета, без Достоевского и Чехова, Герцена, без Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака?..
«Образованщина» – «образованщиной», но интеллигенция и самого Солженицына вынесла, выпестовала, подвергая себя смертельной опасности – и самого Солженицына. Человек он благодарный и благородный – воспел своих спасителей в дополнениях к «Теленку», – но мыслитель? А что был Самиздат – разве не национальное самосознание России? – интеллигентной России – и Сахаров? при всех его политических неточностях? Я не знаю, был ли Сахаров верующим и православным (сомневаюсь!), но человеком великой нравственности был он, а не Шафаревич. И почему, в чем русский народ показал себя истинным христианином? Только в идеале, в поговорках, в любви некоторой его части к церквам? А как же католики – итальянцы, французы, – они разве не христиане – потому что не православные?
(Там же. Стр. 421–423)
Чем дальше, – тем больше возникает у неё таких недоумений, тем чаще появляется желание возразить ему, поспорить. Но конечный вывод – хорошо нам знакомый по Ленину, по знаменитой его статье о Толстом: как художник – велик, а как мыслитель – смешон.
У неё, впрочем, эта старая ленинская формула перевернута, два составляющих её определения поменялись местами: да, как мыслитель А. И. действительно уязвим, но художник – великий.
Какой бы вздор ни нес Александр Исаевич и как бы ни была велика степень её несогласия с ним, он даже и в публицистике своей остается для неё великим художником:
Каждое слово – драгоценный камень...
У такой огромины, как он, и заблуждения огромны. Огромный человек, талант огромный.
Написано все насквозь превосходно, дивишься языку, синтаксису, емкости слов...
(Там же)
Даже в публицистических своих статьях он оставался для неё великим писателем. А уж о художественных его произведениях и говорить нечего.
Прочитав «Ивана Денисовича», опаленная этим огнем, упавшим на нас с неба, она сразу и навсегда поверила, что в русскую литературу пришел ещё один гений. Ещё один, как некогда говорилось о Толстом, ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ.
Я тоже был опален этим огнем. Но к таким высоким определениям изначально был не готов. А вскоре, когда после «Ивана Денисовича» нам постепенно стали открываться другие рассказы, повести, романы Александра Исаевича, с каждым новым таким открытием всё больше появлялось у меня сомнений в его праве на этот высокий титул.
* * *
Положение Солженицына в официальной советской литературе изначально было довольно-таки неопределенным. Чем дальше, тем оно становилось все более и более шатким.
Длилась эта неопределенность недолго.
После «Ивана Денисовича» в легальной советской печати ему удалось опубликовать ещё только четыре рассказа: «Матренин двор» («Новый мир», 1963, № 1), «Случай на станции Кречетовка» (там же), «Для пользы дела» («Новый мир», 1963, № 7) и «Захар-Калита» («Новый мир», 1966, № 1).
Последние два особого интереса у меня не вызвали. По правде говоря, показались даже (и не мне одному) довольно бледными.
Я понимал, что дал их в журнал и согласился опубликовать Александр Исаевич не от хорошей жизни. Скорее всего, он тут даже сделал некоторую уступку Твардовскому, которому важно было показать, что Солженицын остается действующим, печатающимся советским писателем и, – мало того, – что место и положение его в советской литературе связано не только с лагерной темой. Вот он и уговорил его дать для печати «хоть что-нибудь». А если ничего такого в запасе у него нет, так даже и попробовать специально написать что-нибудь более или менее безобидное.
Рассказ «Для пользы дела» совсем безобидным не был. Он даже как будто подтверждал уже заявленную Солженицыным, не совсем обычную для официозной советской литературы гражданскую позицию автора. Но и по стилистике, да и по смыслу был вполне советским.
Что касается рассказа «Захар-Калита», так это именно он стал поводом для – хоть и не злой, но все-таки довольно ядовитой нашей пародии на Солженицына, которую я уже цитировал.
В общем, два эти рассказа слегка поколебали уже утвердившийся было статус Солженицына как Великого Писателя Земли Русской.
Поколебали, но – не слишком, поскольку два других его рассказа, явившиеся на свет после «Ивана Денисовича» («Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка»), этот его статус вроде как подтвердили.
Таков был общий глас.
Но у меня и на этот счет возникли – уже тогда – кое-какие сомнения.
В рассказе «Матренин двор» меня немного смутила очевидная, сразу бросающаяся в глаза его очерковость. Я бы даже сказал – документальность. Которую автор не только не скрывал, но даже несколько демонстративно выпячивал.
На сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что идет к Мурому и Казани, ещё с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стёклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? из графика вышел?
Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.
Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.
Да я.
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 442)
Это – самое начало рассказа.
Даже и не начало, а только ещё зачин.
Но уже этим своим зачином автор сразу дает нам понять, что собирается рассказать не вымышленную, а подлинную историю. Что все, о чем пойдет речь в этом его рассказе, было на самом деле. И было именно так, как он сейчас нам об этом расскажет.
А начало рассказа – настоящее его начало, – уже не просто очерковое, а откровенно автобиографическое.
На обсуждении «Ракового корпуса» кто-то из выступающих говорил, что образ Костоглотова слишком автобиографичен. Что слишком уж коротка, почти незаметна дистанция между автором и этим его героем, отчего образ несколько теряет в своей художественной убедительности.
Солженицын не оставил эти упреки без ответа:
Здесь, в профессиональной аудитории нетрудно убедить вас, что Костоглотов – не автор. Я старался всемерно от него отдалиться, – если дистанция не удалась, – буду ещё работать.
(Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 186)
Но в «Матрёне» он даже и не думает скрывать, что герой-рассказчик этого его повествования – не кто иной, как он сам. Никакого зазора, никакой, даже самой малой дистанции нет между ним и этим его персонажем.
Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад – просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять...
За год до того по сю сторону Уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло – учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.
Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облоно и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Всё же я подошёл к окошечку робко, поклонился и попросил:
– Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.
Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была – все ведь просятся в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко – Высокое Поле. От одного названия веселела душа. Название не лгало... Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше – когда ниоткуда не слышно радио и всё в мире молчит.
Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из областного города.
Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом всё ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт».
Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 442–443)
И дальше – на протяжении всего этого своего короткого повествования – ни на шаг не отступает он от такой же строгой документальности:
На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздём по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.
А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубили – торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свёл под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического Труда.
Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался посёлок – однообразные худо штукатуренные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остекленными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.
Над посёлком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь посёлок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо-дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами.
(Там же)
Не знаю, как там оно было на самом деле, но сдается мне, что даже фамилия председателя колхоза, который свел под корень изрядно гектаров леса и этим подвигом добыл себе звание Героя Социалистического Труда (Горшков) – не выдуманная, а настоящая, подлинная. Что же касается главной героини повествования, то её фамилию он изменил. (В жизни она была Захарова, а в рассказе стала Григорьева). Но имя – сохранил. И не только имя, но даже и отчество: Матрена Васильевна. Свое же отчество видоизменил, но – не слишком далеко уйдя от реальности: обращаясь к нему, Матрена Васильевна называет его не «Исаич», а – «Игнатич».
По всем этим своим, сразу бросающимся в глаза, жанровым признакам (да и не только по ним) этот рассказ Солженицына как нельзя лучше подходил под старое жанровое определение – физиологический очерк.
Термин этот возник в 40-х годах позапрошлого века. В Литературной энциклопедии о нем сказано так:
Построенный на наблюдении, точном («дагерротипном») воспроизведении фактов, он сыграл важную роль в развитии русской литературы.
(Краткая Литературная Энциклопедия. Том седьмой. М. 1972. Стр. 951)
Именно вот таким, построенным на наблюдении, на точном – «дагерротипном» (по-нашему, по-современному говоря – «фотографическом») воспроизведении фактов, и был, как мне тогда показалось, рассказ Солженицына «Матренин двор».
Эта естественная замена устаревшего определения («дагерротипное») на современное («фотографическое») вроде как ничего не меняла. Но в наше время – у художников, да и у литераторов тоже, – оно обрело отчетливо уничижительный оттенок. Чуть ли даже не стало антонимом по отношению к таким понятиям, как живопись, искусство. С такой вот презрительной интонацией и произносили:
– Ну, это фотография...
То есть – не живопись, не настоящее искусство, а нечто этим понятиям противостоящее, противоположное.
Тому, что «Матренин двор» Солженицына я почти готов был счесть фотографией именно вот в таком, пренебрежительном смысле, немало способствовало то обстоятельство, что впервые я его прочел в рукописи (машинописи), к которой были приложены фотки. На одной еле различима была маленькая, совсем крохотная фигурка Матрены Васильевны, стоящей около сарайчика, примыкающего к довольно большому и как будто бы даже ладному дому.
В рассказе дом этот был описан так:
...с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепою, по два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий – восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепа, посереди от старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 444)
Приложенная к рукописи фотография подтверждала документальную точность этого описания. Ясно был виден на ней и теремок, обрамлявший и украшавший чердачное окно. И восемнадцать венцов сруба, которые при желании можно было бы пересчитать, чтобы убедиться, что было их там ровно восемнадцать. Только вот хозяйку этого дома на той фотографии разглядеть было нельзя. Крохотная её фигура была там оставлена словно бы только для того, чтобы дотошный зритель мог воочию представить себе высоту её дома.
Но на другой фотке, приложенной к той же рукописи, Матрена Васильевна была взята объективом уже крупно, так что не только всю фигуру её можно было хорошо разглядеть, но и лицо, суровость которого смягчала смутная, невнятная полуулыбка.
Это была, наверно, та самая улыбка, о которой в рассказе сказано, что он долго и тщетно пытался уловить её объективом своего только что купленного фотоаппарата:
Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно суровое.
Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.
(Там же. Стр. 447)
Эта нескрываемая и даже нарочито, демонстративно подчеркиваемая автором «фотографичность», конечно, не должна была стать поводом для разочарования в Солженицыне-художнике. А что касается такой же нескрываемой, подчеркнутой ориентации автора на «физиологический очерк», так тут и говорить нечего. Достаточно вспомнить, что к этому жанру в свое время относили «Записки охотника» Тургенева. Один из лучших рассказов этого тургеневского цикла («Хорь и Калиныч»), явившийся – ещё до того как цикл стал книгой – на страницах «Современника», именно так был воспринят, понят и оценен – и редакцией, и критикой.
И немудрено.
Вспомним начало этого тургеневского рассказа:
Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст...
(И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Том третий. М. 1979. Стр. 7)
Воспользовавшись местным, диалектным словечком («площадя»), Тургенев делает к нему специальное примечание, сноску:
«Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов.
(Там же)
В беллетристике такие примечания не приняты, и сноской этой Тургенев тоже как бы указывает нам на этнографический, то есть скорее даже научный, нежели художественный характер этого своего очерка.
Все это, однако, не помешало – ни современникам, ни потомкам – числить тургеневского «Хоря и Калиныча» в ряду самых выдающихся шедевров классической русской художественной прозы.
Что же в таком случае помешало мне отнести и солженицынский «Матренин двор» к тому же разряду?
Написан он был мастерски:
Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.
Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась.
– Та-ак, – раздельно говорила жена председателя. – Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!
Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку – как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.
– Ну что ж, – тянула она. – Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединёна. – И тут же спешно исправлялась: – Ко´му часу приходить-то?
– И вилы свои бери! – наставляла председательша и уходила, шурша твёрдой юбкой.
– Во как! – пеняла Матрёна вслед. – И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..
И размышляла потом весь вечер:
– Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждёшь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, по себе работали, так никакого звуку не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.
Всё же поутру она уходила со своими вилами.
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 449–450)
Одна только эта короткая фраза – не фраза даже, полуфраза: «...как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу» – рисует Матрену ярче и говорит о ней больше, чем могли бы сказать любые многословные авторские описания и размышления.
Но и не только Матрёна, характер которой автор и раньше и потом исследует подробно, но и эта на миг мелькнувшая и ни разу уже больше не появившаяся на страницах рассказа председательша, вылепленная одной описательной фразой («коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная») и двумя вложенными автором в её уста репликами, стоит перед нами, как живая.
Или – вот такая «фотография», с явным уклоном в этнографию, как будто даже ещё более отчетливым, чем у Тургенева:
Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, – все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навытяжку, сняв шапки.
Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный, искони заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач ещё с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.
Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие. И над гробом плакали так:
– Ах, нянькя-нянькя! Ах, лёлька-лёлька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты её ломала? И зачем ты нас не послушала?
Так плачи сестёр были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрёну горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)
Мужнина родня – Матрёнины золовки, сестры Ефима и Фаддея, и ещё племянницы разные приходили и плакали так:
– Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь они на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чём. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла – не думала! И что же ты нас не слушалась?..
(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти её мы не виноваты, а насчёт избы ещё поговорим!)
(Там же. Стр. 463)
Нет, это не фотография. Это – живопись. Тонкая, искусная, психологически точная и проницательная.
Стало быть, не «дагерротипность», не «фотографичность» новой для меня солженицынской прозы вызвала мою холодность к этому его «физиологическому очерку», а что-то другое. И я точно знал – что именно.
Главной причиной моего неприятия этого солженицынского рассказа был его финал:
Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалеку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне умершую...
Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно...
И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.
И только тут – из этих неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок.
В самом деле! – ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче – выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него – и потом зарезать и иметь сало. А она не имела...
Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.
Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.
Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...
Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша.
(Там же. Стр. 467)
Финал этот прямо-таки поразил меня.
Прежде всего – своим смыслом, никак, ну никак из им самим вылепленного образа не вытекающим.
Неодобрительные отзывы золовки о покойнице, конечно, могли его раздражить, вызвать резкое несогласие и желание их оспорить. Но обоснованность по крайней мере некоторых из этих её осуждений и упреков нельзя было не признать:
Кроме Матрёны и меня, жили в избе ещё: кошка, мыши и тараканы.
Кошка была немолода, а главное – колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырёх ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её о пол не был кошаче-мягок, как у всех, а – сильный одновременный удар трёх ног: туп! – такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвертую.
Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, ещё по хорошей жизни, оклеил Матрёнину избу рифлёными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали – и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между брёвнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанию, а достать не могла.
Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печки и кухоньку от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухоньке по ночам кишели, и, если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку, – пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились...
По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, – редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршанье их – была их жизнь...
Я со всем свыкся, что было в избе Матрёны.
(Там же. Стр. 445–446)
Не только в своих взаимоотношениях с тараканами, но и в еде, которую готовила ему Матрёна, жилец её был так же неприхотлив и небрезглив:
Матрёна вставала в четыре-пять утра... Топила русскую печь, ходила доить козу (все животы её были – одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трёх чугунках: один чугунок – мне, один – себе, один – козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе – мелкую, а мне – с куриное яйцо. Крупной же картошки огород её песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, – крупной не давал... Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:
– Доброе утро, Матрёна Васильевна!
И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки...
– М-м-мм... также и вам!
И немного погодя:
– А завтрак вам приспе-ел.
Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: картовь необлупленная, или суп картонный (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою – как самой дешёвой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на нёбе, дёснах и вызывало изжогу.
Но не Матрёны в том была вина: не было в Торфопродукте и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный...
Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов она сама же меня предупреждала: «Не умемши, не варёмши – как утрафишь?»
(Там же. Стр. 446–447)
В том, что завтраки, которая готовила своему жильцу Матрёна Васильевна, были так убоги, она, конечно, не виновата. Неоткуда было ей взять ни масла, ни маргарина, ни другой крупы, кроме ячневой. А вот в том, что огород её с довоенных лет неудобренный, засаживался только лишь картошкой, была не чья-нибудь, а только лишь её вина. Так же, как и в том, что эта самая картошка у неё неизменно урождалась только мелкая. У соседей-то небось была крупная. Да и не только картошка, наверно, произрастала на их огородах, но и огурчики, и капустка. Почему же у неё одной из года в год только картошка, картошка, картошка?
И почему приготовленная ею еда была то недосолена, то пригорала, оставляя на деснах у едока налеты и вызывая изжогу? И почему постоянно попадались в этой нехитрой её стряпне то кусочки торфа, то волос, то тараканья ножка? Неужели всё это потому, что была она праведница?
По Солженицыну получается именно так. И высказано это у него с той же категоричностью и прямотой, с какой уже – не им – было выражено однажды:
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.
(Лк. 10: 38. 39. 40. 41)
Матрёна, – прямо дает нам понять автор «Матрёнина двора», – подобно евангельской Марии, «избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Потому-то – «не умемши, не варёмши», – и не может потрафить своему жильцу. Потому и огородом своим занимается спустя рукава. Потому и поросенка не выкармливает:
...Поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче – выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него – и потом зарезать и иметь сало. А она не имела...
Перечисляя те черты и свойства Матрёниного характера, на которых строится его утверждение, что она и есть тот праведник, без которого не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша, Солженицын, увлёкшись, даже слегка заговаривается:
Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни...
Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев...
По-глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти.
Где уж ей, в её убогой и страшной жизни, было гнаться за нарядами, да ещё такими, которые призваны украшать злодеев. Но по-глупому бесплатно на других действительно работала. Что было, то было. Только ведь брала она свои вилы и послушно шла копнить сено по приказу «как бы военной» председательши не потому, что была она праведница, а потому, что по самой своей природе она – раба.
Но не только смыслом своим, который я не мог принять, с которым не мог согласиться, отвратил меня финал этого солженицынского рассказа.
Больше, чем смыслом, он оттолкнул меня тем, что этот чуждый мне и неприемлемый для меня смысл автором рассказа мне навязывался. К живой ткани рассказа он был пришит, что называется, белыми нитками, и потому рассказ вышел, как любили говорить в таких случаях герои Зощенко, «маловысокохудожественный».
Так, во всяком случае, мне тогда казалось.
Ну и, конечно, ещё и потому я остался холоден к этому солженицынскому рассказу, что героиня его, – что скрывать! – была не близка мне.
Я мог – вчуже – сочувствовать ей, но не в силах был ей сопереживать.
Иное дело – «Случай на станции Кречетовка».
* * *
Герой этого солженицынского рассказа молоденький лейтенант Вася Зотов был не просто близок мне. Мы были с ним одного рода-племени, одной, как принято было у нас тогда говорить, группы крови.
Наверно, каждый человек может отнести к себе ставшие крылатыми слова, брошенные в мир Антуаном де Сент-Экзюпери: «Я родом из страны моего детства...».
С героем солженицынского рассказа Васей Зотовым я был в кровном родстве, потому что мы с ним были родом из одной и той же страны.
Страна эта называлась не Россия, и даже не Советский Союз.
Назвать её, вероятно, можно было бы по-разному, но у меня для неё было свое название, которое – в то самое время, когда я впервые прочел этот солженицынский рассказ, – стало заглавием небольшой книжки, которую я тогда писал (уже почти дописал).
Книжка называлась «Страна Гайдара».
Напечатать её в полном виде я не смог. Но в сильно сокращенном и даже несколько обглоданном варианте мне все-таки удалось включить её в мою книгу «Рифмуется с правдой», вышедшую в 1967 году в московском издательстве «Советский писатель».
Героями её, – помимо главного её героя Аркадия Гайдара, – стали молодые поэты, – и те, что погибли – кто на Финской, а кто на главной, большой нашей войне, – и те, что выжили, уцелели, – стихи которых только-только начали тогда пробиваться в печать. И едва ли не в каждом из них возникал образ той удивительной, теперь уже не существующей (а может быть, никогда и не существовавшей?) страны, из которой каждый из них был родом:
Мы были новою страной.
Еще не признанной, но сущей.
Гражданской сказочной войной
Она прорвалась в мир грядущий...
(Н. Коржавин)
С чего начиналось, чем бредило детство?
Какие мы сны получили в наследство?
Летели тачанки, и кони храпели,
И гордые песни казнимые пели,
Хоть было обидно стоять, умирая,
У самого входа, в преддверии рая.
Еще бы немного напора такого –
И снято проклятие с рода людского.
Последняя буря, последняя свалка –
И в ней ни врага и ни друга не жалко.
(Он же)
Девятнадцатый год рожденья –
двадцать два в сорок первом году –
принимаю без возраженья,
как планиду и как звезду.
Выхожу двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в свой решительный, и последний,
и предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства.
Потому что некуда деться...
(Борис Слуцкий)
И, захлебнувшись «Интернационалом»,
Я упаду на высохшие травы...
(Павел Коган)
Мир яблоком, созревшим на оконце,
Казался нам... На выпуклых боках
– Где Родина – там красный цвет от солнца,
А остальное – зелено пока...
(Николай Майоров)
Только советская нация будет,
И только советской расы люди!
(Михаил Кульчицкий)
Но если все ж когда-нибудь
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженье
Ни пошатнуло шар земной,
Я все равно паду на той,
На той единственной Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
(Булат Окуджава)
Коржавин, Слуцкий, Павел Коган, Майоров, Кульчицкий, Булат...
Все они стали героями той моей маленькой книжки. А в последней её главе – в эпилоге – к ним неожиданно добавился ещё один: Александр Солженицын.
Казалось бы, тут мне надо поправиться: все-таки не сам Солженицын, а его герой. Но позже выяснилось, что и сам автор тоже мог бы стать одним из её героев, только я об этом тогда ещё не знал.
Но в том, что герой солженицынского рассказа «Случай на станции Кречетовка» Василий Зотов тоже был родом из «Страны Гайдара», у меня не было и не могло быть ни малейших сомнений.
По складу души, по мироощущению ничем, – ну просто ничем! – не отличается он от гайдаровских мальчиков – Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова. И чувствует он совсем, как они. И мысли у него те же. И даже облекает он эти свои мысли почти в те же самые слова:
Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочёл свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нём оттуда строчки. И теперь, шёл ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру Мичуринска или телегой в прикреплённый сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов, – Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои:
Наши сёла в огне и в дыму города...
И сверлит и сверлит в исступленьи
Мысль одна: да когда же? когда же?! Когда
Остановим мы их наступленье?!
И еще так, кажется, было:
Если Ленина дело падёт в эти дни —
Для чего мне останется жить?
Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь – сколько он сможет помочь Революции. Но как ни просился он на первую линию огня – присох в линейной комендатуре.
Уцелеть для себя – не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребёнка – и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы ещё был жив, – он знал, что ушёл бы пешком через Кяхту в Китай, или в Индию, или за океан – но для того только ушёл бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу.
Так он стоял в сумерках под лив, хлёст, толчки ветра за окнами и, сжавшись, повторял стихи того лейтенанта.
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 487–488)
«Его маленькая жизнь значила лишь – сколько он сможет помочь Революции». Заметьте – не Родине в смертельно опасный для неё час, а – Революции. И мысли Зотова о том, что если бы немцы дошли до Байкала, а он чудом был ещё жив, то ушёл бы пешком через Кяхту в Китай или в Индию, чтобы потом – с оружием в руках – вернуться в СССР и в Европу, – они, эти его мысли, прямо перекликаются с ныне знаменитыми, а тогда ещё мало кому известными строчками Павла Когана:
Но мы ещё дойдем до Ганга,
Но мы ещё умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя!
Да и сам он, этот «бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами», стихи которого, «никем не проверенные, откровенные», как-то уж очень похож на Павла Когана. Если это и не сам Павел, так уж точно – его двойник.
Но это – только начало. Главное впереди. Чем пристальнее вглядываемся мы в фигуру Васи Зотова, чем полнее душа его распахивается перед нами, тем яснее, тем несомненнее для нас становится, что прожил он свою короткую жизнь совсем не в той стране, в какой жил, например, другой персонаж того же рассказа – Игорь Дементьевич Тверитинов.
Если судить по именам, отчествам и фамилиям, оба они – русские. Но в сущности перед нами – «дети разных народов», жители не то что разных стран, а прямо-таки обитатели двух разных, бесконечно далеких миров.
Семейную фотографию, которую показывает ему Игорь Дементьевич, Вася разглядывает так, словно это фотография – хотел сказать иностранца, – нет, не иностранца даже, а жителя давным-давно затонувшей какой-нибудь Атлантиды:
...Своё невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову всё же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством.
– Ну что-нибудь! Что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось?
– Ну только разве... фотокарточки. Семьи.
– Покажите! – не потребовал, а попросил лейтенант.
У Тверитинова слегка поднялись брови. Он ещё улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой и из того же кармана гимнастёрки (другой у него не застёгивался, не было пуговицы) вынул плоский свёрток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки девять на двенадцать...
На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду и, наверно, ранней весной, потому что листочки ещё были крохотные, а глубина деревьев сквозистая, снята была девочка лет четырнадцати в полосатеньком сереньком платьице с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое – на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всём снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не весёлый, а щемящий...
На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверно высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-преумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца.
И вообще все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть.
(Там же. Стр. 514–515)
Людям, прожившим жизнь в одной стране, какая-нибудь важная, тем более роковая дата говорит одно и то же. И только жителю страны с совсем иной исторической судьбой такая дата ничего не скажет. Вот, скажем, год 1939-й: для поляка или француза – это национальная катастрофа, а для нас – пакт с Гитлером, суливший надежду, что в ближайшем будущем большая война нам не грозит.
Для нас роковыми были другие даты: 1937-й, 1941-й...
Вот об одной из них ненароком и зашла речь у Васи Зотова с Игорем Дементьевичем Тверитиновым:
– Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают. К тому же я так одет... Да и вообще у нас вопросы задавать опасно.
– В военное время, конечно.
– Да оно и до войны уже было.
– Ну, не замечал!
– Было, – чуть сощурился Тверитинов. – После тридцать седьмого...
– А что тридцать седьмой? – удивился Зотов. – А что было в тридцать седьмом? Испанская война?
(Там же. Стр. 510)
Тверитинов дипломатично молчит. Но, спустя некоторое время, Зотов сам возвращается к теме «тридцать седьмого года». Оживленно рассказывая, как пытался обмануть военкомат и, несмотря на плохое здоровье, все-таки попасть на фронт, он мимоходом роняет:
– У меня опыт ещё с тридцать седьмого...
Тверитинов на эту реплику опять реагирует по-своему:
– А что вы упомянули о тридцать седьмом?
Но Зотов и тут не понимает, казалось бы, каждому его соотечественнику хорошо знакомый страшный подтекст этого простого вопроса:
– Ну, вы же помните обстановку тех лет! – горячо рассказывал Вася. – Идёт испанская война! Фашисты – в Университетском городке. Интербригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку, – нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачёты, экзамены – учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне! Но в газетах ничего такого нет. Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль – это мальчишество, да и пограничники. И вот я – к начальнику четвёртой части военкомата, третьей части, второй части, первой части: пошлите меня в Испанию! Смеются: ты с ума сошёл, там никого наших нет, что ты будешь делать?.. Вы знаете, я вижу, как вы любите курить, забирайте-ка эту пачку всю себе! Я всё равно для угощения держу. И на квартире ещё есть. Нет уж, пожалуйста, положите её в вещмешок, завяжите, тогда поверю!.. Табачок теперь – «проходное свидетельство», пригодится вам в пути... Да, и вдруг, понимаете, читаю в «Красной звезде», а я все газеты сплошь читал, цитируют французского журналиста, который, между прочим, пишет: «Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон». А я – дотошный. Выпросил в библиотеке этот номер, подождал ещё дня три, не будет ли редакционного опровержения. Его нет. Тогда иду к самому военкому и говорю: «Вот, читайте. Опровержения не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком!» А военком как хлопнет по столу: «Вы – не провоцируйте меня! Кто вас подослал? Надо будет – позовём. Кру-гом!»
И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. Смеховые бороздки опять легли по его лицу. Очень непринуждённо ему стало с этим артистом и хотелось рассказать ещё о приезде испанских моряков, и как он держал к ним ответную речь по-испански...
(Там же. Стр. 517)
Эта трещина непонимания, возникшая между Васей Зотовым и его случайным знакомцем Игорем Дементьевичем Тверитиновым, в один – роковой для Тверитинова – миг превратится в пропасть.
– Это, считай, уже под Сталинградом.
– Под Сталинградом, – кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил. – Позвольте... Сталинград... А как он назывался раньше?
И – всё оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек – не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!
Однако он сумел себя сдержать. Подобрался. Поправил очки. Сказал почти спокойно:
– Раньше он назывался Царицын.
(Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.)
– Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына.
(Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал...).
Враждебное слово это – «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова, как штык.
(Там же. Стр. 519)
Случайная обмолвка эта – в том и состоит главный сюжетный узел рассказа – стоила Тверитинову жизни.
– Вы... я... – сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверитинова, – ... я пока по другому делу... – Он особенно явственно выговаривал сейчас «о». – А вы здесь присядьте, пожалуйста. Пока. Подождите.
Дико выглядела голова Тверитинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею.
– Вы меня здесь оставите? Но, Василь Васильич, я тут поезд пропущу! Уж разрешите, я пойду на перрон.
– Нет-нет... Вы останетесь здесь... – спешил к двери Зотов.
И Тверитинов понял:
– Вы – задерживаете меня?! – вскрикнул он. – Товарищ лейтенант, но за что?! Но дайте же мне догнать мой эшелон!
И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развёрнутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком впереклон.
Зотову невольно пришлось оглянуться и ещё раз – последний раз в жизни – увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении.
– Что вы делаете! Что вы делаете! – кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. – Ведь этого не исправишь!!
Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой тёмной тени, и потолок уже давил ему на голову.
– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, – сильно окая, уговаривал Зотов... – Надо будет только выяснить один вопросик...
И ушёл...
Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал:
– Этот состав задержите ещё.
В кабинете он сел за стол и писал.
«Оперативный пункт ТО НКВД.
Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной...»
– Собирайся! – сказал он Гуськову. – Возьми бойца и отвезешь его в Мичуринск.
(Там же. Стр. 523)
Это сюжетная развязка рассказа.
А вот – его конец:
Прошло несколько дней, миновали и праздники.
Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице.
Всё сделано было, кажется, так, как надо.
Так, да не так...
Хотелось убедиться, что он-таки переодетый диверсант или уж освобождён давно. Зотов позвонил в Мичуринск, в оперативный пункт.
– А вот я посылал вам первого ноября задержанного, Тверитинова. Вы не скажете – что с ним выяснилось?
– Разбираются! – твёрдо ответили в телефон...
И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его ещё позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным.
Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай:
– А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.
– А почему вы спрашиваете? – нахмурился следователь значительно.
– Да просто так... интересно... чем кончилось?
– Разберутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает.
(Там же. Стр. 524)
Хорошо знакомая каждому, кто жил в то время, эта зловещая формула («У нас брака не бывает») не оставляет уже совсем никаких сомнений насчет того, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СОТВОРИЛ славный и чистый душой Вася Зотов, истово верящий в непреложность лозунгов, которым надлежало следовать каждому гражданину «Страны Гайдара». И ни тени сомнения не возникло у него в правильности этих священных лозунгов. Разве только вот это:
Всё сделано было, кажется, так, как надо.
Так, да не так...
Да ещё самая последняя, заключающая рассказ строка:
Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...
* * *
К той небольшой, полностью тогда так и не напечатанной моей книжке о «Стране Гайдара», чтобы не оставалось совсем уже никаких сомнений насчет истинного её смысла, я выбрал такой эпиграф:
Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я её знаю; тебе эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства.
(Герцен. Сыну моему Александру)
Эпиграф этот, как мне казалось, яснее ясного должен был сказать читателю, что вся эта моя книжка – не что иное, как декларация о разрыве со «Страной Гайдара», громогласное заявление о моем (не только моем, конечно) выходе из её гражданства.
О том же – с ещё большей прямотой – говорили написанные, а иногда даже и проникавшие в печать стихи героев этой моей книжки, имена которых я тут уже называл.
Иные из них говорили об этом с иронией, с добродушной и беззлобной насмешкой:
Сейчас поверят в это разве?
Лет двадцать пять тому назад,
Что политически я развит,
Мне выдал справку детский сад...
Меня и нынче брат мой дразнит,
Он этой справки не забыл...
Но политически я развит
Действительно в те годы был.
Я с глубочайшим интересом
Журнал «Прожектор» раскрывал.
Я кулака с тупым обрезом,
Улегшись на пол, рисовал.
Я, помню, не жалел под праздник
Ни черной туши, ни белил,
Весь мир на белых и на красных
Безоговорочно делил.
Задорный, тощий, низкий ростом,
Я весело маршировал,
И в каждом человеке толстом
Буржуя я подозревал...
Я знал про домны Приазовья
И что опять бастует Рим...
Да, я к друзьям пылал любовью
И был к врагам непримирим.
(Евгений Винокуров)
Но большинству из них было не до иронии и не до смеха:
Всем лозунгам я верил до конца
и молчаливо следовал за ними,
как шли в огонь во Сына, во Отца,
во голубя Святого Духа имя.
И если в прах рассыпалась скала,
и бездна разверзается, немая,
и ежели ошибочка была –
вину и на себя я принимаю.
(Борис Слуцкий)
Скала, на которой зиждились те лозунги, которым была подчинена вся его жизнь, рассыпалась в прах, обрушилась в бездну. Это он сознает и готов даже принять на себя вину за все, что, следуя этим лозунгам, они натворили.
Но совсем разорвать свою связь с этой в прах рассыпавшейся скалой все-таки не может. Да и не хочет.
Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
а для меня распался и потек...
Но верен я строительной программе...
Прижат к стене, вися на волоске,
я строю на плывущем под ногами,
на уходящем из-под ног песке.
(Он же)
Не только ему, всем им разрыв с этой рухнувшей в бездну «скалой» дался нелегко.
– Помнишь, как мы жили в детском доме? Это ужасно, ты ничего не помнишь... Один раз воспитатели хватились – в столовой нет корок от мандаринов. Оказывается, старшие не едят, оставляют младшим. (Все с большим возбуждением, с тоской.) А помнишь? В коллективе плохое настроение, трубить общее собрание! Помнишь, как ты упала, у тебя было сотрясение мозга, в день нашей годовщины. Совет решает: отставить праздник! Не может быть в одном доме горе и радость. Дежурство по тишине. Бюллетень здоровья каждые три часа. Четырнадцать дней без памяти! Первые слова: «Хочу клюкву». Сообщение по радио: «Хочет клюкву». Все друг друга поздравляют. Постановление: десять процентов заработка на подарок врачу. Встреча под оркестр. Помнишь, каждый месяц день рождения. Ляля, Лена, Леля, Лиля, Лида – все, все вместе, какая разница! Говорят, у нас нет родителей. Мы дети войны, мы дети всего народа... Вынесли знамена. Мы стоим под знаменами... Неужели этого больше никогда не будет в нашей жизни? Неужели никогда?..
(Александр Володин. Старшая сестра).
Так говорит главная героиня этой володинской пьесы Надя, обращаясь к младшей своей сестре Лиде.
И ей вторит героиня другой пьесы того же Володина:
– Помню, только меня в пионеры приняли, бегу один раз по коридору в детдоме, вдруг слышу, по радио «Интернационал» играют. Наверно, откуда-нибудь торжественную часть передавали. Так, верите, я остановилась, подняла салют и стою одна в темноте. И что-то чувствую... У меня и сейчас такое бывает. Редко, но бывает...
(Александр Володин. Фабричная девчонка).
Не только, значит, Булат Окуджава ностальгировал по своему гайдаровскому прошлому. Ностальгировали все. Лишь один из них – уже тогда – прямо и недвусмысленно объявил, что рвет с этим своим прошлым навсегда. Решительно и бесповоротно:
Седина в волосах. Ходишь быстро. Но дышишь неровно.
Всё в морщинах лицо – только губы прямы и тверды.
Танька! Танечка! Таня! Татьяна! Татьяна Петровна,
Неужели вот эта усталая женщина – ты?
Ну, а как же твоя комсомольская юная ярость,
Что бурлила всегда, клокотала, как пламень, в тебе! —
Презиравшая даже любовь, отрицавшая старость,
Принимавшая смерть как случайную гибель в борьбе.
О, твое комсомольство! Без мебелей всяких квартира,
Где нельзя отдыхать – можно только мечтать и гореть.
Даже смерть отнеся к проявлениям старого мира,
Что теперь неминуемо скоро должны отмереть...
...Старый мир не погиб. А погибли друзья и подруги,
Весом тел не влияя ничуть на вращенье Земли.
Только тундра – цвела, только выли колымские вьюги,
И под мат блатарей невозвратные годы ушли...
Так чего же ты хочешь?..
Но мир был жесток и запутан.
Лишь твое комсомольство светило сквозь мутную тьму.
Прежним смыслом своим, прочной памятью... Вот потому-то,
Сбросив лагерный ватник, ты снова рванулась к нему.
Ты сама заявляешь, что в жизни не все ещё гладко.
И что Сталин – подлец, но нельзя ж это прямо в печать.
Было б красное знамя... Нельзя обобщать недостатки.
Перед сонмом врагов мы не вправе от боли кричать.
Я с тобой не согласен. Я спорю. И я тебя донял.
Ты кричишь: «Ренегат!» – но я доводы сыплю опять.
Но внезапно я спор обрываю. Я сдался. Я понял —
Что борьбе отдала ты и то, что нельзя ей отдать.
Всё: возможность любви, мысль и чувство, надежду и совесть, —
Всю себя без остатка... А можно ли жить без себя?
...И на этом кончается длинная грустная повесть.
Я ее написал, ненавидя, страдая, любя.
Я ее написал, озабочен грядущей судьбою.
Потому что я прошлому отдал немалую дань.
Я ее написал, непрерывной терзаемый болью,
Нелегко от себя отрывать омертвевшую ткань.
(Н. Коржавин)
Поэма Коржавина «Танька», из которой я выбрал эти отрывки, была написана в 1957-м и ходила тогда в «Самиздате». А напечатать её типографским способом автору удалось только двадцать лет спустя, и не в СССР, а за границей, в эмигрантском издательстве «Посев», считавшемся у нас тогда самым антисоветским из всех зарубежных антисоветских изданий. А в СССР она явилась на свет и того позже – в 1992-м.
Во всех этих печатных изданиях последняя её строка была слегка переиначена. В рукописном, самиздатовском варианте было: «Нелегко от себя отрывать омертвевшую ткань». А в печати слово «нелегко» исчезло. Стало: «Мне пришлось от себя отрывать омертвевшую ткань».
Замену эту произвел не редактор, и не цензор, а сам автор.
Кто-то из его образованных друзей объяснил ему, что омертвевшая ткань, – именно потому, что она омертвевшая, от живой отрывается как раз легко, без всякой боли.
По медицине оно, наверное, так. Но к той «омертвевшей ткани», о которой говорит в своей поэме Коржавин, это соображение неприменимо. У него ведь там речь идет совсем о другой, немедицинской «омертвевшей ткани». И поэтому произведенная им замена ослабила не только поэтическую выразительность этой завершающей поэму строки, но и смазала, слегка даже пригасила резкость выраженной в ней жизненной правды.
Все это я тут вспомнил и так подробно на этом остановился по ассоциации с рассказом Солженицына «Случай на станции Кречетовка». И тут сразу надо сказать, что ассоциация эта – скорее по контрасту, нежели по сходству или по смежности.
Сходство тут, конечно, тоже велико, и к природе этого сходства нам, наверно, ещё придется вернуться. Но сейчас остановлюсь на контрасте.
Солженицын, как мы теперь уже знаем, тому прошлому, о котором говорит в своей поэме Коржавин, тоже «отдал немалую дань».
В рассказе «Случай на станции Кречетовка» это почти не ощущалось. На героя этого своего рассказа автор смотрит со стороны, изучающим, холодно анализирующим взглядом. Но уже при первом чтении отметил я в нем один эпизод, – даже не эпизод, а деталь, подробность, ещё один небольшой, но важный для автора штрих к портрету этого его героя, – в котором мне померещилось что-то личное, едва ли даже не автобиографическое:
...Как-то неловко было признаться Вале и лейтенантам, его сменщикам, что было-таки у него вечернее чтение, была книга – единственная захваченная в какой-то библиотеке в суматошных путях этого года и возимая с собой в вещмешке.
Книга эта была – синий толстенький первый том «Капитала» на шершавой рыжеватой бумаге тридцатых годов.
Все студенческие пять лет мечтал он прочесть заветную эту книгу, и не раз брал её в институтской библиотеке, и пытался конспектировать, и держал по семестру, по году – но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены. И, не кончив одной страницы конспекта, он сдавал книгу, когда шёл с июньской обходной. И даже когда проходили политэкономию, самое время было читать «Капитал» – преподаватель отговаривал: «Утонете!», советовал нажимать на учебник Лапидуса, на конспекты лекций. И, действительно, только-только успевали.
Но вот теперь, осенью сорок первого, в зареве огромной тревоги, Вася Зотов мог здесь, в дыре, найти время для «Капитала». Так он и делал – в часы, свободные от службы, от всевобуча и заданий райкома партии. На квартире у Авдеевых, в зальце, уставленном филодендронами и алоэ, он садился за шаткий маленький столик и при керосиновой лампе (не на все дома посёлка хватало мощности дизельного движка), поглаживая грубую бумагу рукой, читал: первый раз – для охвата, второй раз – для разметки, третий раз – конспектируя и стараясь всё окончательно уложить в голове. И чем мрачней были сводки с фронта, тем упрямей нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что, когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти – он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке.
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 498–499)
При всей отстраненности этого взгляда, при некоторой даже его ироничности показалось мне тогда, что автор этого отрывка и сам не без нежности вспоминает этот синий толстенький том, что он, может быть, даже и сам когда-то вот так же бережно, любовно оглаживал грубую, шершавую бумагу его пожелтевших страниц.
Это было всего лишь ощущение, ничем не подтвержденное. Да и чем я мог бы его подтвердить?
Но подтверждение нашлось.
Нашлось оно, спустя годы, когда случилось мне прочесть книжку воспоминаний о Солженицыне его первой жены – Натальи Алексеевны Решетовской:
Он говорит о том, что видит смысл своей жизни в служении пером интересам мировой революции. Не всё ему нравится сегодня. Союз с Англией и США. Распущен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн. В армии погоны. Во всём этом он видит отход от идеалов революции. Он советует мне покупать произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Может статься и так, заявляет он, что после войны они исчезнут из продажи и с библиотечных полок. За всё это придется вести после войны борьбу. Он к ней готов.
(Н. Решетовская. В споре со временем)
Об отходе от идеалов революции в то время думали и говорили многие. Да и как тогда можно было об этом не думать и не говорить?
Но за предположением Солженицына, что после войны книги Маркса, Энгельса и Ленина, быть может, «исчезнут из продажи и с полок библиотек», – то есть ОКАЖУТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ, – таился не только этот, очевидный для всех, а куда более глубокий и страшный смысл, суть которого мало кто решился бы тогда сформулировать так прямо. Предположение это означало, что формула «отход от идеалов революции» – не более, чем деликатный эвфемизм. На самом же деле то, что происходит (уже произошло!) в нашей стране, – не что иное, как КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ.
Это убеждение сложилось у него ещё до войны, в середине 30-х, когда он – девятнадцатилетний – вместе со всей страной жадно следил за ходом больших московских судебных процессов:
В те годы красный цвет дробился радугой,
И жаром переливчатых его полос обваренный,
Я недоумевал речам Смирнова, Радека,
Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.
Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то,
Что правды ни следа
В судебных строках нет,
И я метался:
Что?
Когда?
Сломало Революции хребет?
Делил их камер немоту – и наконец
В затылок свой я принял их свинец.
(Александр Солженицын. Дороженька)
Стихи, – что говорить! – неуклюжие до крайности. (Стихи вообще – не его стихия). Но не о поэзии я веду тут речь.
Самое поразительное в этой неуклюжей, но безусловно искренней стихотворной тираде – последняя, заключающая её строка, в которой автор выражает готовность принять в свой затылок пулю, назначавшуюся Ивану Никитичу Смирнову, Николаю Ивановичу Бухарину и даже циничному болтуну Радеку. Вот, значит, как сильна и глубока была его преданность идеалам той Революции, которую совершили эти старые большевики и которой сломал хребет Сталин.
Ты и все почти, – писал он в одном из своих фронтовых писем жене, – думают о будущем в разрезе своей личной жизни и личного счастья. А я давно не умею мыслить иначе, как: что я могу сделать для ленинизма, как мне строить для этого свою жизнь.
(«Такая война не может быть вничью»: Из фронтовых писем А. Солженицына жене Наталье Решетовской. Сын отечества. 1992, № 25. 19 июня. Стр. 8–9)
А вот – из другого его фронтового письма:
Мы стоим на границах 1941 года. На границах войны Отечественной и войны революционной.
(Н. Решетовская. В споре со временем).
Это его «неумение мыслить иначе» как в пределах постоянно гложущей его мысли о том, что он может сделать для ленинизма, в то время значит для него даже больше, чем главная его любовь – литература:
Он даже пишет Коке (и сообщает мне об этом), что если Федин убедит его в отсутствии у него литературного таланта, он круто порвёт с литературой («вырву сердце из груди, растопчу 15 лет своей жизни»), перейдет на истфак, но свой вклад в ленинизм всё равно сделает.
(Там же)
В начале 60-х, когда он писал свой рассказ «Случай на станции Кречетовка», все это для него (как для Коржавина, когда тот в 1957-м писал свою «Таньку») была уже – омертвевшая ткань. Но в отличие от Коржавина, который отрывал её от себя «ненавидя, страдая, любя», «непрерывной терзаемый болью», он эту «омертвевшую ткань», – если судить по этому его рассказу, – сбросил с себя легко и безболезненно.
Суть рассказа в том, что герой его, – добрый малый, честный, чистый душой, человечный, искренне сочувствующий попавшему в беду симпатичному ему человеку и всеми силами старающийся ему помочь, кончает тем, что по глупому и совершенно вздорному поводу задерживает его и под конвоем отправляет в руки палачей, на верную гибель. И поступает он так, не подчиняясь приказу, а по собственной инициативе. И не потому, что он тупой, послушный службист, или перестраховщик, а потому, что ВСЕМ ЛОЗУНГАМ ОН ВЕРИТ ДО КОНЦА. Не нравственная глухота, не какой-нибудь там душевный изъян делает его соучастником палачей, а верность идее мировой революции, без служения которой он не мыслит своей жизни.
Все его мысли и чувства, все его реакции, вся вдруг вспыхнувшая в нем, вообще-то совсем ему не свойственная подозрительность исходят из этой его истовой веры. Из той системы представлений, в пределах которой он только и умеет мыслить и рассуждать:
Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие...
Да не офицер ли он переодетый?..
То же и с коржавинской Танькой.
Она тоже становится доносчицей и соучастницей палачей только лишь потому, что ВСЕМ ЛОЗУНГАМ ВЕРИТ ДО КОНЦА, умеет жить, мыслить и чувствовать только в пределах привычных ей словесных схем и понятий. Её гипнотизируют другие слова, другие партийные лозунги. Лозунги бывали разные. Но ситуация, заставляющая хороших и чистых людей становиться соучастниками палачей, доносчиками и предателями, оставалась неизменной:
Танька, Танечка, Таня! Такое печальное дело!
Как же ты допустила, что вышла такая беда?
Ты же их не любила, ведь ты же другого хотела.
Почему ж ты молчишь? Почему ж ты молчала тогда?..
Зло во имя добра! Кто придумал нелепость такую!
Даже в страшные дни, даже в самой кровавой борьбе
Если зло поощрять, то оно на земле торжествует –
Не во имя чего-то, а просто само по себе...
Все мы смертные люди. И мы проявляемся страстью.
В нас, как сила земная, течет неуемная кровь.
Ты любовь отрицала для более полного счастья.
А была ль в твоей жизни хотя бы однажды любовь?
Никогда. Ты всегда презирала пустые романы.
Вышла замуж. (Уступка – что сделаешь: сила земли)
За хорошего парня... И жили без всяких туманов.
Вместе книги читали, а после и дети пошли.
Над детьми ты дрожала... А впрочем – звучит как легенда –
Раз потом тебе нравился очень без всяких причин,
Вопреки очевидности, – худенький, интеллигентный
Из бухаринских мальчиков красный профессор один.
Ты за правые взгляды ругала его непрестанно.
Улыбаясь, он слушал бессвязных речей твоих жар.
А потом отвечал: «Упрощаете вещи, Татьяна!»
И глядел на тебя. Ещё больше тебя обожал.
Ты ругала его. Но звучали слова как признанья.
И с годами бы вышел, наверно, из этого толк.
Он в политизолятор попал. От тебя показаний
Самых точных и ясных партийный потребовал долг.
Дело партии свято. Тут личные чувства не к месту.
Это сущность. А чувства, как мелочь, сомни и убей.
Ты про все рассказала задумчиво, скорбно и честно.
Глядя в хмурые лица ведущих дознанье людей.
Коллизия – та же, что в солженицынском «Случае на станции Кречетовка». Но, в отличие от Солженицына, автор этого отрывка не отрицает своего кровного родства со своей героиней. Да, он теперь уже не такой, как она. Но он ни на секунду не забывает, что тоже был таким. Потому и терзается, потому и с болью отрывает от себя эту омертвевшую ткань.
Этот запутанный клубок разноречивых чувств («Я ее написал, ненавидя, страдая, любя...») яснее ясного говорит, что он и за собой признает вину за то, что случилось с его героиней, со страной, со всеми нами.
Как Слуцкий:
И ежели ошибочка была,
Вину и на себя я принимаю.
Солженицын никакой вины за собой не чувствует. Всю вину за случившееся он целиком перекладывает на своего героя, словно сам таким никогда не был.
Особенно ясно это проявилось в другом, более значительном его произведении, в одном из эпизодов которого мы опять сталкиваемся с той же коллизией, с тем же сюжетным мотивом:
Рубин снова стал ходить, всё так же безнадёжно отмеривая заплёванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени.
И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания – скрываемые, палящие.
...Как-то вызвали его в парткабинет Тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода: он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодёжь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молнии» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.
Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошёл в парткабинет с той открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» – и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стрижеными волосами, повязанными красной косынкой:
«Здравствуй, товарищ Пахтина! Ты вызывала меня?»
«Здравствуй, товарищ Рубин, – пожала она ему руку. – Садись».
Он сел.
Ещё в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, жёлтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего.
Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенных красных и деловых чёрных тонах.
Женщина стеснённо, как-то потухло, поговорила с Лёвой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими. И вдруг, откинувшись, сказала твёрдо:
«Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!»
Лёва был поражён. Как? Он ли не отдаёт партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?
Нет! Этого мало.
Но что ж ещё?!
Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на «вы» – и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать всё, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате: правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, теперь скрывает это от партии?..
И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...
Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна – потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твёрдую тропу...
«Я не знаю. Никогда он троцкистом не был», – отвечал язык Лёвки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по-взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, – запирательство было уже ненужным.
Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться... перед Партией?! Как можно не открыться... Партии?! Партия не карает, она – наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...
Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Лёвку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?! – он не мог утаиться и солгать в этой чёрно-красной исповедальне.
Рубин открыл – когда, где состоял брат, что делал.
И смолкла женщина-проповедник.
А вежливый гость в жёлтых полуботинках сказал:
«Значит, если я правильно вас понял...» – и прочёл с листа записанное.
«Теперь подпишитесь. Вот здесь».
Лёвка отпрянул:
«Кто вы?? Вы – не Партия!»
«Почему не партия? – обиделся гость. – Я тоже член партии. Я – следователь ГПУ».
(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 433–435)
Это ночное бдение Льва Рубина, эти мучительные, терзающие его душу воспоминания напоминают знаменитое пушкинское:
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья;
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Разница лишь в том, что Пушкин все эти саморазоблачения адресует СЕБЕ, а Солженицын отдает их своему герою.
Тут, конечно, можно сказать, что одно дело поэзия и совсем другое – проза.
Поэзия (лирика) по самой своей природе тяготеет к исповедальности, а в эпическом жанре автор всегда отдает самое свое сокровенное кому-то из своих героев.
Но тут все дело в том, – КОМУ.
Было бы, наверно, естественнее, да и честнее, если бы эти воспоминания и саморазоблачения Солженицын отдал другому своему герою – Глебу Нержину.
Его близость автору, – даже не близость, а кровное с ним родство, – не вызывает сомнений.
На обсуждении «Ракового корпуса» Солженицына (я уже упоминал об этом) упрекали в том, что герой этой его повести Костоглотов слишком автобиографичен, слишком уж коротка, почти незаметна дистанция между этим героем повести и её автором. Солженицын отвечал, что при желании легко мог бы убедить собравшихся, что Костоглотов – не автор.
Может, оно и так.
Но если бы на том обсуждении речь шла не о «Раковом корпусе», а о романе «В круге первом», и если бы упрек этот относился не к образу Костоглотова, а к образу Нержина, отвести этот упрек было бы гораздо труднее. В сущности, это было бы даже невозможно, потому что Нержин – alter ego автора, его «второе я», – чего он, автор, даже и не старается скрыть. Можно даже сказать, что он на этом настаивает.
Но все свои революционные иллюзии, всю свою пламенную веру в конечное торжество мировой революции, ради чего, как ему казалось, только и стоило жить, он отдал Рубину. Что же касается Нержина, то предполагается, что он эти свои иллюзии, – если они у него были, – уже давно изжил. А скорее всего никаких таких иллюзий у него никогда даже и не было. Так что, если вышла «ошибочка», то вина за эту «ошибочку» лежит на Рубине. А Нержин – чист, как голубь, и ни терзаться, ни каяться ему решительно не в чем.
Дни и ночи напролет, урывая каждую лишнюю минутку от основных своих обязанностей, которыми он почти открыто пренебрегает, Нержин обдумывает и записывает какие-то тайные, – предполагается, что крамольные, – свои мысли. О том, ЧТО это были за мысли, в романе говорится глухо. Но теперь мы уже знаем, что на самом деле там, на той Марфинской Шарашке, Солженицын начал работать над давно, ещё в юности задуманным им романом «Люби Революцию». Предполагалось, что в будущем составится у него даже целый цикл романов под этим заглавием. Из чего мы можем заключить, что со своей верой в Мировую Революцию он тоже расставался не легко и не просто.
* * *
Всё это не тогдашние, а сегодняшние, – во всяком случае, более поздние – мои мысли. Полвека назад, читая рассказ Солженицына «Случай на станции Кречетовка», я ни о чем таком даже и не думал. Просто восхищался этим его рассказом. Не так безоговорочно, как «Иваном Денисовичем», но – восхищался. И, как я теперь понимаю, не зря.
В полной мере я тогда этого ещё не понимал, но почувствовал, что этим своим рассказом, самим его сюжетом Солженицын прикоснулся к чему-то очень важному, быть может, самому важному в природе сталинщины.
Много лет спустя случилось мне прочесть книгу неизвестного мне автора Романа Редлиха «Сталинщина как духовный феномен. Очерки большевизмоведения». (Frаnkfurt/Main, 1971).
Не всё в этой книге было мне близко, но имя автора я запомнил, и когда спустя какое-то время наткнулся на подписанную этим именем журнальную статью, читал её уже с повышенным интересом.
Статья была как будто уже на другую тему, – не о Сталине и сталинщине, а о Достоевском. Но одно мимоходом брошенное в ней рассуждение автора вызвало у меня целый поток ассоциаций – и литературных, и жизненных, – главной из которых была ассоциация с давно уже не вспоминавшимся мною рассказом Солженицына «Случай на станции Кречетовка».
Верховенщина и смердяковщина, однако, пустяк по сравнению со сталинщиной. И Достоевский только предчувствовал путь, который Россия прошла не в воображении писателя, а в реальном историческом бытии... Сталинский фикционализм на службе активной несвободы, сталинская «самая демократическая в мире» конституция на службе ежовского террора ведут дальше, чем тайное общество Петра Верховенского. А расправа с соратниками Ленина страшней, чем убийство Шатова.
(Р. Редлих. Неоконченный Достоевский // Грани. 1971)
Прямую ассоциацию с солженицынским «Случаем на станции Кречетовка» вызвал у меня не столько общий смысл этого рассуждения, сколько вот эта последняя, заключающая его фраза.
Сразу мелькнула мысль, что о поступке героя этого рассказа, пожалуй, даже с большим основанием, чем о расправе Сталина с соратниками Ленина, можно сказать, что он страшнее, чем убийство Шатова.
Но натолкнула меня тогда на эту мысль ещё и другая, тоже тут же у меня возникшая и тоже прямая ассоциация, – уже не литературная, а жизненная.
* * *
В разгар ежовщины был арестован Лев Давидович Ландау.
Он ещё не был тогда одним из столпов отечественной физики, академиком, Героем Социалистического труда, лауреатом Нобелевской, Ленинской и нескольких Сталинских премий. Всё это ждало его впереди. А тогда, в 1938-м, ему было двадцать девять лет, и был он всего-навсего сотрудником института физических проблем АН СССР. Не рядовым, а заметным, подающим большие надежды, но все-таки всего лишь сотрудником. А директором этого института был Петр Леонидович Капица, который и до того уже не раз напрямую обращался к Сталину, заступаясь за арестованных коллег.
Во время очередной массовой чистки Ленинграда (прежнюю столицу и «колыбель революции» многократно очищали от «бывших», от «зиновьевцев» и т. п.) был арестован Владимир Александрович Фок, тогда ещё член-корреспондент АН, но имевший уже прочную мировую известность. На следующее утро (12 февраля 1937 г., в разгар небывалого террора) Капица пишет... письмо Сталину, в котором, кратко характеризуя Фока как известного ученого, приводит четыре довода, объясняющие, почему с учеными вообще так обращаться нельзя...
Это было время, когда уже недопустимо было вступаться за арестованного. Сам такой поступок делал человека подозрительной, если не преступной, личностью. Господствовал тезис: «Органы не ошибаются». Но поразительным образом это письмо подействовало немедленно. В течение трех дней! (значит, Сталин сразу прочел его) Фок был доставлен из Ленинграда прямо в кабинет главного чекиста того времени Ежова (вообразите его реакцию на вопрос вошедшего Фока: «С кем имею честь говорить?»). Фок тут же был выпущен на свободу из страшного дома на Лубянке.
(Е. Л. Фейнберг. Эпоха и личность. Физики. М. 2003. Стр. 397–398)
За Ландау Петру Леонидовичу хлопотать было труднее, чем за Фока. И не только потому, что Лев Давидович не был тогда ни членом-корреспондентом, ни ученым с мировым именем. Тут были трудности ещё и другого рода. О главной из них речь впереди, а что касается других, не главных, но тоже существенных, то о них достаточно прямо сказано в письме, которое П. Л. Капица в тот же день, когда тот был арестован, написал и отправил Сталину.
28 апреля 1938, Москва
Товарищ Сталин!
Сегодня утром арестовали научного сотрудника Института Л. Д. Ландау. Несмотря на свои 29 лет, он вместе с Фоком – самые крупные физики-теоретики у нас в Союзе...
Нет сомнения, что утрата Ландау как ученого для нашего института, как для советской, так и для мировой науки не пройдет незаметно и будет сильно чувствоваться. Конечно, ученость и талантливость, как бы велики они ни были, не дают право человеку нарушать законы своей страны, и, если Ландау виноват, он должен ответить. Но я очень прошу Вас, ввиду его исключительной талантливости, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно. Также, мне кажется, следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задира и забияка, любит искать у других ошибки и, когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Этим он нажил много врагов.
У нас в институте с ним было нелегко, хотя он поддавался уговорам и становился лучше. Я прощал ему его выходки ввиду его исключительной даровитости. Но при всех своих недостатках в характере мне очень трудно поверить, что Ландау был способен на что-либо нечестное.
Ландау молод, ему представляется ещё многое сделать в науке. Никто, как другой ученый, обо всем этом написать не может, поэтому я и пишу Вам.
П. Капица
(Там же. Стр. 398–399)
Про Ландау пишет он осторожнее, чем про Фока. Что-то, может быть, знает, а если не знает, то догадывается.
А разница между делом Фока и делом Ландау была немалая.
У Фока никакого дела, в сущности, не было. Его «замели» в одной из массовых чисток Ленинграда. А у Ландау было свое, персональное дело, и весьма серьезное.
Когда «дело» это было обнародовано (а случилось это совсем недавно), в нем был обнаружен совершенно поразительный по тем временам документ: антисталинская листовка.
Текст её даже и сегодня потрясает своей резкой откровенностью:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи!
Великое дело Октябрьской революции предано... Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь...
Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот?! Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает её в легкую добычу озверелого немецкого фашизма...
Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны избивать только заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах...
Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности.
Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику.
Да здравствует 1 Мая – день борьбы за социализм!
Московский комитет Антифашистской рабочей партии.
(Там же. Стр. 391–392)
Никакой такой партии в действительности не существовало. Была крохотная группа заговорщиков-интеллигентов. (Даже и слово «группа» тут не совсем подходит: оно из лексикона следователей). Неизвестно, кто в эту «группу» входил. Неизвестно даже, кто сочинил эту листовку, во всяком случае, – не Ландау. Но к составлению и распространению её он был причастен:
...в апреле 1938 г., после страшного мартовского Пленума ЦК, призвавшего к ещё большему «повышению бдительности», к Дау приходит Корец и говорит, что надо выпустить антисталинскую листовку и распространить её во время первомайской демонстрации. Согласен ли Дау просмотреть приготовленный текст и дать советы? И Дау соглашается, поставив лишь одно условие: он не должен знать имен участников этого предприятия. Это условие легко понять. Дау всегда боялся боли и, видимо, опасался, что под пытками может назвать эти имена. Листовку он просмотрел. Сделал замечания, и она была передана для размножения... 28 апреля Ландау, Корец, а заодно и друг Ландау Румер были арестованы.
(Там же. Стр. 391)
В каком объеме и в какой форме обо всём этом доложили Сталину, неизвестно. Но что-то, видимо, доложили, потому что на письмо Капицы в защиту Ландау он отреагировал совсем не так, как в случае с Фоком. Можно даже сказать, что никак не отреагировал.
Капица ждал год.
Казалось, было очевидно, что дело это тухлое: вызволить Ландау из тюрьмы ему не удастся.
Но он на этом не успокоился и год спустя отправил на самый верх второе письмо, адресовав его уже не Сталину, а Молотову.
Товарищ Молотов!
За последнее время... мне удалось найти ряд новых явлений, которые, возможно, прояснят одну из наиболее загадочных областей современной физики. Но... мне нужна помощь теоретика. У нас в Союзе той областью теории, которая мне нужна, владел в полном совершенстве Ландау, но беда в том, что он уже год как арестован.
Я все надеялся, что его отпустят, ... не могу поверить, что Ландау государственный преступник... Правда, у Ландау очень резкий язык и, злоупотребляя им, при своём уме он нажил много врагов... Но при всем его плохом характере, с которым и мне приходилось считаться, я никогда не замечал за ним каких-либо нечестных поступков.
Конечно, говоря все это, я вмешиваюсь не в свое дело, так как это область компетенции НКВД. Но все же я думаю, что я должен отметить следующее как ненормальное.
1. Ландау год как сидит, а следствие ещё не закончено, срок для следствия ненормально длинный.
2. Мне, как директору учреждения, где он работал, ничего не известно, в чем его обвиняют.
3. Ландау дохлого здоровья, и если его зря заморят, то это будет очень стыдно для нас, советских людей.
Поэтому обращаюсь к Вам с просьбами:
1. Нельзя ли обратить особое внимание НКВД на ускорение дела Ландау.
2. Если это нельзя, то, может быть, можно использовать голову Ландау для научной работы, пока он сидит в Бутырках. Говорят, с инженерами так поступают.
П. Капица
(Там же. Стр. 400–401)
На это письмо реакция последовала немедленно. Капицу пригласили на Лубянку, где его принял и имел с ним беседу заместитель наркома НКВД Меркулов. Он предложил Петру Леонидовичу лично ознакомиться с материалами дела Ландау. Но тот от этого решительно отказался. Во-первых, потому что понимал, что на Лубянке из подследственного могли выбить любые признания, – это тогда ни для кого уже не было тайной. А во-вторых, потому, что вообще не хотел втягиваться в дискуссию о виновности Ландау.
Эта его тактика оказалась правильной: Ландау выпустили. Решение, разумеется, принял Сталин. Но чтобы это не выглядело проявлением слабости, уступкой настырному ученому, выдали Капице арестанта, за которого он хлопотал, под его личную ответственность, под расписку:
Народному комиссару внутренних дел СССР тов. Л. П. Берия
26 апреля 1939, Москва
Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство.
Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности против советской власти в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД.
П. Капица
(Там же. Стр. 402)
История по тем временам уникальная. Но не эта её уникальность заставила меня к ней обратиться.
Есть в этой удивительной истории одна подробность, которая роднит её с сюжетом рассказа Солженицына «Случай на станции Кречетовка»:
Кто-то выдал. Подозрение участников группы пало на одного её члена К., которого я не назову, поскольку, во-первых, оно не доказано (ниже, на другом примере, я покажу, к каким ужасным последствиям могут приводить такие недостоверные подозрения). Во-вторых, этот человек, когда началась война, добровольно пошел на фронт (подозревающие думают – чтобы смертью искупить свою вину) и погиб. Основанием для подозрения служит лишь то, что именно ему знавший его с детства Корец передал текст, чтобы тот со своими друзьями (рвущимися, по словам К., к действиям) размножили её на гектографе, изготовленном ими любительски (что и было сделано, хотя качество, по словам Кореца, было плохое – большей частью брак).
(Там же. Стр. 391)
Ситуация вполне банальная, и я не придал бы ей никакого значения, если бы не одно обстоятельство.
Имя человека, который сообщил «органам» об отпечатанной на гектографе антисталинской листовке, автор книги, из которой я почерпнул все эти сведения (Е. Л. Фейнберг), не называет. И правильно делает. Но от меня Евгений Львович, с которым я был хорошо и даже близко знаком, это имя не утаил. Это был, как он доверительно мне сообщил, тот самый молодой поэт, образ которого в рассказе Солженицына мелькнул на мгновенье в портрете «бледнолицего лейтенанта с распадающимися волосами», стихи которого, «никем не проверенные, откровенные» («Если Ленина дело падёт в эти дни – для чего мне останется жить?»), произвели такое сильное впечатление на другого лейтенанта, главного героя рассказа – Василия Зотова.
Первая моя реакция, когда я это услышал, была: «Нет! Не может быть! Не мог! Никак не мог такой человек стать доносчиком!»
Но, подумав, я вынужден был признать, что такое допущение, при всей его чудовищности, быть может, и не совсем безосновательно.
Предположение, что в первые же дни войны он добровольцем ушел на фронт, чтобы смертью искупить свою вину, – это, конечно, полная ерунда.
Свою гибель в неизбежной грядущей войне с немецким фашизмом он – как и многие его сверстники – предрекал задолго до того, как эта война на нас обрушилась:
В те годы в праздники возили
Нас по Москве грузовики,
Где рядом с узником Бразилии
Художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
Как нынче, разные враги).
На перечищенных, охрипших
Врезались в строгие века
Империализм, Антанта, рикши,
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее...
И доносчиком в точном смысле этого слова он, конечно, быть не мог.
Но считать, что его товарищи, сочинившие антисталинскую листовку, были арестованы правильно, что их нельзя было не арестовать, и даже стать виновником (быть может, невольным) их ареста, – вполне мог.
Насчет Сталина, надо думать, у него, как и у них, тоже уже не было никаких иллюзий. (А иначе – как мог бы он оказаться в этой группе заговорщиков?) Но к исторической роли Сталина, к тому кровавому пути, по которому Сталин повел страну, относился не так, как они:
Я понимаю все. И я не спорю.
Железный век идет высоким трактом.
Я говорю: «Да здравствует история!» –
И головою падаю под трактор.
Уже одни только эти его строки в какой-то мере объясняют, почему, как это ни чудовищно, я готов поверить, что этот чистый и благородный юноша все-таки мог выдать своих товарищей, отдать их в руки палачей.
Но были и другие, ещё более жуткие, в которых он вспоминал, как яростным, ненавидящим взглядом провожал расфуфыренных жен ответственных работников – «Их путь от Горта до ТЭЖЭ», и, как о чем-то само собой разумеющемся, заключал:
В тридцать седьмом мы к стенке ставили мужей.
Кровавый кошмар тридцать седьмого года, стало быть, представлялся ему суровым, но справедливым возмездием, постигшим предателей-перерожденцев и, худо ли, хорошо, но спасшим Революцию от термидора.
Прав, прав был автор вспомнившихся мне «очерков большевизмоведения», сказавший, что верховенщина и смердяковщина – пустяк по сравнению со сталинщиной, а расправа с соратниками Ленина страшней, чем убийство Шатова.
Убийством Шатова Петруша Верховенский повязал кровью жалкую кучку одержимых бесовщиной своих сподвижников, «наших». А Сталин повязал кровью половину страны.
«Сейчас, – сказала Ахматова, когда началась волна реабилитаций, – две России посмотрят друг другу в глаза: та, что сажала – той, что сидела». И это – не преувеличение: на каждого арестованного был свой доносчик, свой следователь, свой вертухай.
Вот и простодушный герой солженицынского рассказа, у которого тридцать седьмой год вызывает ассоциацию лишь с гражданской войной в Испании, тоже оказался повязанным той большой кровью.
* * *
На самом деле в то, что Зотов и слыхом не слыхал про тридцать седьмой год, не то что трудно, а прямо-таки невозможно поверить.
Перечитаем ещё раз эту – самую уязвимую – сцену солженицынского рассказа:
– Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают... У нас вопросы задавать опасно.
– В военное время, конечно.
– Да оно и до войны уже было.
– Ну, не замечал!
– Было, – чуть сощурился Тверитинов. – После тридцать седьмого...
– А что тридцать седьмой? – удивился Зотов. – А что было в тридцать седьмом? Испанская война?
По правде говоря, и в реплику Тверитинова, с которой завязался этот диалог, не очень-то верится. Трудно представить, чтобы человек, только что вышедший из окружения, в разговоре с помощником военного коменданта стал всуе поминать ту страшную, черную дату.
Но реплика эта нужна Солженицыну, чтобы вызвать ответную реплику Зотова. А весь этот короткий диалог, – чтобы показать, в каких разных, не сообщающихся мирах жили в предвоенные годы эти два человека.
Но если реплика Тверитинова лишь слегка отдает некоторой искусственностью, подстроенностью, то ответная реплика Зотова кажется совсем уж неправдоподобной.
Могло ли такое быть, чтобы Зотов в свои девятнадцать-двадцать лет (лейтенанту в 1941 году не могло быть меньше), не замечал, что и до войны – после тридцать седьмого – «оно уже было».
Мне в тридцать седьмом было не шестнадцать лет, как Васе Зотову, а – десять. Но и я прекрасно помню, как нам велели замазывать чернилами в наших школьных учебниках портреты канувших в бездну недавних вождей, а потом – и маршалов: Тухачевского, Блюхера, Егорова. Помню свистящим шепотком произносившееся жуткое слово «троцкист» и неизменно следующее за ним, ещё более жуткое – «расстрел». Помню как, одержимые шпиономанией, мы старательно выискивали на рисунках, украшавших заднюю страничку наших школьных тетрадок, притаившиеся там буквы, из которых должен был сложиться вредительский лозунг: «Долой Сталина!»
Может быть, все это происходило только в столице? А до той глухой провинции, где до войны жил Василий Зотов («В Москве довелось ему побывать только один раз за всю его жизнь – на экскурсии. В Иванове он, правда, бывал. Но тоже не так уж часто...»), эта волна не докатилась?
Нет, этой шпиономанией, как лесным пожаром, была тогда охвачена вся наша огромная страна.
Вот как вспоминает об этом уже не московский, каким был я, а сухумский мальчик. Ему в том роковом году было не десять, как мне, а – восемь лет:
...Я вдруг вспомнил про тетрадь, на обложке которой был изображен вещий Олег, прощающийся со своим конем. В школе ребята шепотом говорили, что на этой обложке прячется хорошо замаскированный вредительский лозунг...
Погружаясь в сладостную жуть, я стал исследовать рисунок на обложке тетради. Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий своего коня перед тем, как расстаться с ним навеки. Под рисунком в два столбика, с переносом на последнюю страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
Через несколько минут я обнаружил букву Д, искусно замаскированную в виде стремени.
«Ну и негодяи, ну и хитрецы!» – подумал я с жуткой радостью и стал продолжать исследование. Через некоторое время я решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву О...
Я пошел дальше. Через некоторое время мое внимание привлекла подозрительно приподнятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Её можно было принять за букву Г. Правда, перекладина получалась длиннее и толще самого столбика, на котором она держалась. Очень уж уродливая буква получалась. Эта уродливость буквы как-то меня расстраивала. После некоторых колебаний я решил не включать её в собрание букв. Мне даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он её выпрямил, а не держал полусогнутой, как будто его собираются ковать...
(Фазиль Искандер. Школьный вальс, или Энергия стыда)
В этой (автобиографической) повести Искандера рассказ ведется от первого лица, и у нас есть все основания предполагать (даже не сомневаться), что всё, о чем тут рассказывает автор, с ним было на самом деле.
Но я не могу не вспомнить тут ещё один рассказ того же автора, в котором атмосфера истерической шпиономании, охватившей в те годы страну, передана с ещё большей выразительностью и наглядностью:
Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей...
И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания...
И вдруг впереди на приморском пустыре, у самого выхода на улицу, Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу же понял, что там что-то случилось. Он подбежал к толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояло несколько подростков.
– Вредители! Вредители! – слышалось то и дело. Один из подростков держал в руке кусок плотной белой бумаги величиной с открытку. Все старались заглянуть в нее. Чик тоже просунулся и заглянул. На бумаге отчетливо тушью был выведен торпедообразный предмет, который часто рисуют в общественных уборных. А под ним написаны оскорбительные слова.
– Я иду с моря, а это здесь валяется, – говорил мальчик, державший в руке эту бумагу.
– Пацаны, вон вредитель! – вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, и Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью странного возбуждения... Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Он был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя: «Вредитель! Вредитель!» – они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них. Самые смелые пытались к нему гадливо притронуться, как бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не приснился. Этот человек был так похож на плакаты с изображением вредителей, что Чик сразу поверил: он, он подбросил эту подлую, самодельную открытку!
Особенно подозрительны были шляпа и портфель, туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отравляющими веществами. Ребята все гуще и гуще его окружали, и ему все чаще приходилось затравленно озираться, все короче делались его передышки.
– Нельзя! – вдруг раздался громовой голос дяди Коли. Все остолбенели, а Чик обернулся на своего забытого дядю. Он со страшной решительностью приближался к толпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его решительностью, молча расступились, давая ему дорогу. Он подошел к этому человеку и, слегка загородив его, ласково сказал:
– Иди, мамочка, иди...
– Спасибо, товарищ, – сказал человек дрогнувшим голосом. Его рыхлые щеки покрылись мучной белизной. – Я... я ничего не понимаю.
Ребята снова зашумели.
– Удушу мать! – крикнул дядя, обернувшись к толпе. Это было его любимое ругательство...
– А почему они консервы отравляют? А почему подбрасывают вот это? – загалдели ребята.
Чик почувствовал себя в сложном положении.
– Это мой дядя! Он не понимает, он сумасшедший! – стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда.
– Ат!! (Прочь! – на его жаргоне) – вдруг заорал он на Чика, стряхивая его руку и глядя на Чика бешеными, неузнающими глазами.
Почувствовав, что дело пахнет хорошей затрещиной, Чик отошел...
– Какие консервы? Я ничего не понимаю! Я приехал в командировку, остановился в гостинице «Рица», в двенадцатом номере, – самим голосом пытаясь успокоить толпу, говорил человек.
– Дурачки, дурачки, – односложно успокаивал его дядя.
Вдруг он что-то вспомнил. Он бросил удочку, вытащил из кармана блокнот и красный карандаш. С блаженной улыбкой он нанес на листик несколько волнистых линий и, вырвав его из блокнота, бодро вручил растерянному человеку.
– Справка, справка, – сказал дядя и, махнув рукой, показал, что владелец этой справки теперь может беспрепятственно гулять по городу. Дядя иногда выдавал людям такие самодельные справки или деньги. Видимо, он заметил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он помогал им, когда находил нужным.
Человек посмотрел на листик, ничего не понимая. Все же он торопливо положил его во внутренний карман пиджака...
– Сумасшедшие, – сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмышленышам.
– Вот именно какое-то сумасшествие, – подтвердил человек и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить. До конца квартала было недалеко, и Чик подумал, что если этот человек, как только завернет за угол, даст стрекача, значит, он действительно вредитель. А если просто так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и подглядывать за ним почему-то было неохота.
(Фазиль Искандер. Рассказы про Чика)
С сумасшедшим дядей Чика мы уже встречались в других рассказах того же цикла, и мы знаем, что он действительно сумасшедший, – сомневаться в этом у нас нет никаких оснований. Но в описанной ситуации именно он, – только он один – реагирует на происходящее как нормальный человек. Именно он, сумасшедший, оказывается единственным нормальным в этом безумном мире истерической шпиономании.
Эта простая мысль возникает у нас, конечно, не так уж непроизвольно. Она безусловно входит в авторский замысел. Но она так органично, так естественно вытекает из самой художественной плоти рассказа, что у нас не возникает и тени сомнения в предельной достоверности не только описанной в рассказе ситуации, но и каждой её подробности и детали.
На сей раз, – в отличие от повести «Школьный вальс, или Энергия стыда» – повествование ведется от третьего лица: дело, стало быть, происходит не с автором, а с его героем, Чиком. И хотя «Рассказы о Чике» тоже явно автобиографические, автор тем самым не скрывает от нас, что есть в них, – в каждом из них, – какая-то толика художественного вымысла.
Но вымысел этот не разрушает, а, напротив, укрепляет силу заложенной в этом рассказе художественной правды.
В рассказе Солженицына происходит обратное.
Бросается в глаза искусственность, подогнанность некоторых его подробностей и деталей. В том числе и самой важной из них, без которой не было бы и самого рассказа: трудно представить себе, чтобы человек возраста Тверитинова не помнил, что Сталинград до переименования звался Царицыном.
В достоверность этой подробности не верил и восхитившийся этим рассказом Солженицына Твардовский:
...В этот именно месяц написалась у меня легко «Кочетовка» – прямо для журнала, первый раз в жизни. (Истинный случай 1941 года с моим приятелем Лёней Власовым, когда он комендантствовал на ст. Кочетовка, с той же подробностью, что проезжий именно забыл, из чего Сталинград переименован, – и чему никто поверить не мог, начиная с А. Т. А по-моему, для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой пришлёпки.)
(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 47)
С точки зрения жизненной правды, правды факта, может, оно и так.
Иное дело – правда художественная.
Как было однажды замечено (не могу сейчас вспомнить, кем):
У Гоголя прочтешь: «Открылась дверь, и вошел чёрт». И веришь.
А у Павленко (или Панферова, или Бабаевского, или Бубеннова, – имя же им легион) читаешь: «Открылась дверь, и вошел секретарь райкома». И – не веришь.
Такая вот коварная вещь, эта самая художественная правда.
* * *
Уверяя нас (да и себя тоже), что «для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой пришлёпки», как переименование Царицына в Сталинград, Солженицын не делал, что называется, хорошую мину при плохой игре. Можно не сомневаться, что он в это верил. Нельзя, однако, не признать, что презрительное словечко «пришлёпка» в этом контексте звучит диковато.
Когда Ахматова очутилась в Париже, кто-то из эмигрантов первой волны спросил у неё, почему она в поздних своих стихах Петербург называет Ленинградом. На этот, конечно же, не без ехидства заданный вопрос Анна Андреевна хладнокровно ответила: «Потому что он так называется».
Сталинград, конечно, – не Ленинград. Но и он переименован был очень рано, почти в то же время, что Ленинград – в 1925-м. Ну, а кроме того, столько трубили тогда об огромных заслугах Сталина во время обороны Царицына, намертво связав эти два имени!
Игнорируя это обстоятельство, не считаясь с ним, Солженицын словно бы играет в поддавки, максимально облегчая себе свою художественную задачу. Потому-то и чувствуется здесь некоторая «фальшивинка». Ну, а уж что касается простодушно наивного неведения его героя о том, чем был для страны тридцать седьмой год, то это уже не просто «фальшивинка», а самая что ни на есть настоящая – и довольно грубая – фальшивая нота.
В покорившем нас «Одном дне Ивана Денисовича» ничего даже отдаленно напоминающего эту «игру в поддавки» не было и в помине.
Но однажды и по поводу «Ивана Денисовича» Солженицыну был высказан такой же, – и даже не такой же, а тот же самый упрек:
Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене – у вахты. «Вы не имеете права» и т. д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг – фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие, были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не дает себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не дает себе труда об этом подумать. Наконец он прошел следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И все-таки ни о чем не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или четырнадцать лет сдавал в солдаты бездумно, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не думает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы – такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по разверстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году...
(В. Т. Шаламов – А. И. Солженицыну. Ноябрь 1962. Варлам Шаламов. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственное дело. М. 2004. Стр. 646–647)
Высказав Солженицыну этот упрек и отметив при этом, что нетипичность фигуры кавторанга – «единственная фальшь», которую он заметил в его повести, Варлам Тихонович тут же обнаруживает в ней ещё одну, даже больнее его задевшую:
Еще одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нем нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря – и заключенных, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги, внутренней её жизни определялась, в конечном счете, блатарями...
Блатарей в Вашем лагере нет!
(Там же. Стр. 648)
Чуть раньше он уже проронил:
Это лагерь «легкий», не совсем настоящий... В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря – лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот – невероятно для настоящего лагеря – кота давно бы съели.
(Там же. Стр. 642)
Но это было брошено вскользь, мимоходом.
А тут – как покатилось.
Один упрек следует за другим, и весь этот поток упреков складывается в картину тотальной, сплошной – уже не фальши, а прямой лжи:
Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами.
Кот!
Махорку меряют стаканом!
Не таскают к следователю.
Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.
Не бьют.
Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да ещё набитом! Да ещё и подушка есть! Работают в тепле.
Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время.
Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.
(Там же. Стр. 648)
Тут поражает сразу бросающееся в глаза противоречие между только что брошенным замечанием Шаламова о том, что нетипичность фигуры кавторанга для 51-го года – единственная фальшивинка, которую он углядел в солженицынской повести, и этим потоком уже не частных, а куда более серьезных упреков (даже не упреков – обвинений). Противоречие это прямо-таки разительно.
Но ещё более разительно противоречие между этим перечнем жизненных реалий, немыслимых, невозможных в настоящем лагере, – и комплиментарным (не просто комплиментарным – восторженным!) началом того же шаламовского письма:
Дорогой Александр Исаевич!
Я две ночи не спал – читал повесть, перечитывал, вспоминал... Повесть – как стихи – в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного – ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед – все, что идет с недомолвками, в обход, в обман– приносило, приносит и принесет только вред.
Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы), ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.
Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей.
Повесть очень хороша... Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя её сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди, ибо лагерь – школа отрицательная – даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть), не смогут оценить эту повесть во всей её глубине, тонкости, верности...
Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это – лагерь с точки зрения лагерного «работяги» – который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это – не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом...
Столь тонкая высокохудожественная работа мне ещё не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем – и в интересе к «красилям», и в любознательности, и природном цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать, умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие – все это черты народа, людей деревни...
Повесть эта для внимательного читателя – откровение в каждой фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, перечувствованного – первое слово о том, о чем все говорят, но ещё никто ничего не написал...
Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.
(Там же. Стр. 642–649)
С. Я. Маршак всякий раз, когда речь заходила о том, как надлежит разговаривать – устно ли, письменно ли – с автором только что прочитанной его вещи, неизменно повторял:
– Сперва не забудьте сказать ему все хорошее, что только можете, и только уж потом приступайте к критике.
Не уверен, что В. Т. Шаламов знал об этом правиле хорошего литературного тона. А если бы даже и знал, не такой он был человек, чтобы им руководствоваться.
Ну, а уж в этом его письме ему и вовсе не до того было, чтобы думать о такте и тактике высказывания. Слишком силен был душевный порыв, вызванный в нем этой повестью, чтобы, откликаясь на неё, он мог помнить о каких-то литературных приличиях. Нет, можно не сомневаться, что все эти его восторги шли от сердца.
Но самое интересное в этом его восторженном отклике то, что восторгался он в нем не столько даже талантливостью этой потрясшей его повести, сколько исключительной её правдивостью. Правдивостью в каждой её подробности, в каждой детали:
В повести все достоверно...
Я не буду перечислять всех художественных подробностей, свидетельствующих об этом, Вы их знаете сами.
Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи (ощущение), когда глотает кружок колбасы – высшее блаженство, а и более глубоких вещей: и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой и т. д. Это – глубоко верно. Это – одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трех лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую все-таки ждешь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу – так выживу, а нет – не спасешь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.
Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только невыжатую тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести – сотни – других не новых, не точных вовсе нет.
Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли не мыслимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке – это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», все это уместно, точно и – необходимо...
Пересчет бесконечный – все это верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятерки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаенная надежда, что украли мало – верна, точна...
Разговор Цезаря Марковича с кавторангом и с москвичом очень уловлен хорошо. Передать разговор об Эйзенштейне – не чужеродная для Шухова мысль...
Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое не жадный Шухов отдает Алешке. Мы – заработаем. Он – удачлив. На!..
Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас – разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к Русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам, – очень верна...
Великолепно насчет лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще...
Горячая баланда! Десять минут жизни заключенного за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствие еды. Это – всеобщий гипнотический закон...
Минута перед разводом – очень хороша.
Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавался на руки, всегда в чаю...
«Шмон» утренний и вечерний – великолепен».
Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады одна за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Вот как!..
Письмо. Очень тонко, очень верно.
Насчет «красилей» – ярче картины не бывало.
Всё в повести этой верно, все правда.
(Там же. Стр. 642–652)
Из уст лагерника с таким опытом и таким стажем, как Варлам Тихонович Шаламов, все эти похвалы дорогого стоят.
Но как всё это уживается с тем его саркастическим вздохом: «Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время»?
Уживается, потому что в этой картине «облегченного», «ненастоящего» лагеря нет фальши. Солженицын не «лакирует действительность», не уклоняется от страшной правды. Просто у него и у Шаламова – разный лагерный опыт. И тот лагерь, который знал Шаламов, как тут же и выясняется, тоже не обойден автором «Одного дня»:
Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь – Ижма Шухова – пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днем и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срока, пока не выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не весят». На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь в/н надзиратели (надзиратель на Ижме – бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари и блатная мораль определяет поведение и заключенных, и начальства... Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы – это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Все это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере.
(Там же. Стр. 642–643)
Нет, в «Иване Денисовиче» Солженицын в «поддавки» не играл. И на этой его «игре», которой был подпорчен (не испорчен, а только подпорчен!) рассказ «Случай на станции Кречетовка», наверно, не стоило бы останавливаться так надолго (ну, случился такой грех, с кем не бывает), если бы эта «игра в поддавки» не оказалась чуть ли не главным свойством его творческого метода.
Добро бы ещё, если бы это проявилось лишь годы спустя, в провальных его «узлах», которые вряд ли смогли одолеть даже самые пламенные его поклонники. Но то-то и горе, что этот изъян его художественного мышления с очевидностью выразился даже в лучших, самых значительных его художественных творениях, которыми мы зачитывались, которыми восхищались.
Я имею в виду открывшийся нам после «Ивана Денисовича» его большой роман «В круге первом», и явившуюся вслед за ним – и тоже покорившую нас тогда – его повесть «Раковый корпус».
* * *
Когда Александр Исаевич пренебрежительно сказал мне о своём романе «В круге первом», который я тогда только что прочел: «Вы читали киндер-вариант», я, естественно, предположил, что «киндер» – это значит первоначальный, самый ранний, а потому и несовершенный вариант романа. Лишь годы спустя я узнал, что дело обстояло ровно наоборот. Самым ранним, первоначальным вариантом романа был как раз «взрослый», первый его вариант. А «киндер» – облегченный, переработанный с таким расчётом, чтобы его можно было, если и не опубликовать, так хоть открыто предлагать редакции.
Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» – перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, верней – разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.
И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь – а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.
написан –1955–1958
искажён – 1964
восстановлен – 1968
(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 5)
Я многого ждал от этого нового, полного варианта «Круга». Но с особенным чувством предвкушал, как буду читать переделанные, «усовершенные» автором сталинские его главы.
Читая сравнительно недавно опубликованные дневники Л. К. Чуковской, я наткнулся в них на такую запись:
11 июля 1968. Внезапно явился классик...
Переделывает главы о Сталине в «Круге». (Я их и так любила)
(Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. М. 2010. Стр. 297)
Прочитав это, я вспомнил постоянные тогдашние наши (мои с Лидией Корнеевной) разговоры.
В отличие от неё, мне эти солженицынские главы о Сталине показались слабыми, – я бы даже сказал, беспомощными.
То, что Лидия Корнеевна вовсе не считала, что их стоит переделывать (любила их и такими), меня не удивляло. Она тогда (как, впрочем, и потом тоже) была в восторге от всего, написанного Солженицыным, восхищалась – буквально! – каждой его строкой.
Я тоже был покорен его большим романом – вот этим самым «киндер-вариантом». Что же касается глав о Сталине, – как и некоторых других, тоже показавшихся мне слабыми и даже провальными, – то я их ему прощал, утешая себя тем, что даже Л. Н. Толстой, и тот в «Войне и мире» не справился с Наполеоном. А весть о том, что Александр Исаевич решил эти главы переработать (узнал я об этом скорее всего от той же Лидии Корнеевны), дала мне повод только лишний раз восхититься общим тогдашним нашим кумиром: «Вот молодец! Сам, значит, почувствовал, что со Сталиным у него вышло не совсем ладно!»
Я не сомневался, что, читая новый, полный, «усовершенный» вариант «Круга» (когда-нибудь же я его прочту!), мне уже не придется испытывать то чувство неловкости и даже стыда, какое я испытал, читая эти главы в «киндер-варианте».
Но вышло так, что когда полный вариант «Круга» стал мне – всем нам – наконец доступен, читать я его не стал. (О том, почему так случилось, расскажу позднее).
И вот сейчас он передо мной, этот «Круг-96», в самом полном, текстологически самом выверенном и авторизованном варианте. И я, наконец, читаю эти переработанные, переписанные, «усовершенные» автором сталинские главы:
На оттоманке лежал человек, чьё изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толчёным кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зёрен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолётов, заснято на киноплёнку, – как ничьё никогда за три миллиарда лет существования земной коры...
Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших дёснах арестантов. По этому имени во множестве были переназваны города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли – и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.
А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными), уже редеющими (изображали густыми) волосами; с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшею кожной сумочкой на шее (их не рисовали вовсе); с тёмными неровными зубами, частью уклонёнными назад, в рот, пропахший листовым табаком; с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах.
К тому ж он чувствовал себя сегодня неважно: и устал, и переел в эти юбилейные дни, в животе была тяжесть каменная, и отрыгалось тухло...
(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 86)
Опять все та же, уже хорошо знакомая нам «игра в поддавки». И в самом откровенном, обнаженном варианте.
Начинается она – а потом и продолжается – с утомительно однообразного подчеркивания карикатурно уродливой внешности вождя и злорадного любования его старческой немощью:
...о чем думал он, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого, свисающего носа?
(Там же. Стр. 115)
Вот они, вот они все здесь, на полках, без переплётов, в брошюрах двадцатых годов, – захлебнувшиеся, расстрелянные, отравленные, сожжённые, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъятые, преданные анафеме, апокрифические – здесь они выстроились все! Каждую ночь они предлагают ему свои страницы, трясут бородёнками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок: «Мы предупреждали!», «Нужно было иначе!»... Их победитель, в мундире генералиссимуса, с низко-покатым назад лбом питекантропа, неуверенно брёл мимо полок и пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов...
...Заломили, почти отняться готовы были ноги. Тяжёлыми волнами било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась – и он совсем забыл, зачем подошёл к этим полкам? о чём он только что думал?
Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками.
Это была собачья старость...
(Там же. Стр. 126)
Другой краской, посредством которой Солженицын, как ему это, видимо, представляется, ещё больше приближается к решению поставленной им перед собой художественной задачи, становится неистребимый кавзказский (грузинский) акцент вождя.
Акцент – любой: украинский, грузинский, немецкий, – это, вообще-то, самый легкий способ индивидуализировать речь персонажа. И пользуются им с самыми разными целями. Чаще для того, чтобы придать персонажу комические черты, высмеять или даже разоблачить его. Но нередко – и с противоположной целью: чтобы сделать изображаемую фигуру привлекательной, не лишенной некоторого своеобразного обаяния.
Именно с этой целью легкий грузинский акцент эксплуатировал, изображая вождя, знаменитый сталинский «двойник» Михаил Геловани. И Сталин не возражал. Ему, вероятно, это даже нравилось. До тех пор, пока его не сыграл, обойдясь без всякого акцента, Алексей Денисович Дикий.
Рассказывали, что Сталин не только принял, одобрил и поощрил его смелое актерское решение, но даже удостоил аудиенции.
Был накрыт маленький столик, на котором утвердилась бутылка хорошего конька и скромная закуска. Как рассказывали, совсем скромная: лимон, ещё какие-то мелочи.
Чокнулись, выпили, закусили.
Сталин сказал:
– Как вам удалось так замечательно меня сыграть? Ведь мы с вами до сегодняшнего дня ни разу не встречались.
– А я играл не вас, – будто бы ответил Алексей Денисович.
– ???
– Я играл представление народа о вожде.
И Сталину такой ответ будто бы очень понравился.
История эта «пошла в народ», разумеется, со слов Дикого, и не исключено, что, рассказывая о своей встрече с вождем, Алексей Денисович кое-что и приукрасил. А может быть, это – легенда, миф. Может быть, ничего такого вовсе даже и не было.
Но скорее всего – было. Уж очень это похоже на Сталина. На его отношение к «образу вождя»:
Приемный сын Сталина, Артем Сергеев, вспоминал, что вождь сердился на своего родного сына Василия, так как тот использовал его фамилию.
– Но я тоже Сталин, – говорил Василий.
– Нет, ты не Сталин, – гневно возразил его отец. – Ты не Сталин, и я не Сталин. Сталин – это советская власть! Сталин – это то, что пишут о нем в газетах и каким его изображают на портретах. Это не ты, и даже не я!
(Симон Себаг Монтефиоре. Сталин. Двор Красного монарха. М. 2005. Стр. 15)
Как бы то ни было, Дикого Сталин обласкал. За созданный им небанальный «образ вождя» не только наградил его двумя Сталинскими премиями, но даже на время заменил им своего любимца Геловани.
Это объяснить совсем уже легко.
«Мы, русские люди старшего поколения, – сказал Сталин в день победы над Японией, – сорок лет ждали этого дня». И в самой тональности этой реплики чувствуется, что ему нравилось не только сознавать себя, но и выглядеть в глазах народа не нацменом каким-нибудь, а именно вот таким «русским человеком старшего поколения».
Все это, впрочем, не помешало ему вскоре буркнуть про Дикого, что «с таким брюхом нельзя играть вождя», и вернуть на роль своего неизменного «двойника» все того же Геловани с его грузинским акцентом.
Все это я к тому, что использование и даже эксплуатация национального акцента как некой выразительной художественной краски – не только в кино и театре, но и в художественной прозе – вещь вполне законная. Весь вопрос в том, как ею, этой художественной краской, пользоваться.
Взять, скажем, знаменитую реплику Сталина об Ахматовой.
Узнав о её встрече с Исайей Берлином, вождь будто бы сказал:
– Оказывается, наша монахиня принимает у себя иностранных шпионов.
Вставляя её в художественную ткань своего повествования, писатель может воспроизвести её по-разному. Скажем, вот так, как я тут сейчас её записал. А может при этом, чтобы придать ей большую характерность, подчеркнуть в ней грузинский акцент, с которым она была произнесена. Для этого довольно в одном только её слове изменить всего лишь одну букву: вместо «монахиня» написать – «монахыня».
А можно и всю фразу записать, скажем, так:
– Аказываэтся наша манахыня прынымаэт у сэбя инастранных шьпиёнов.
Можно, конечно. Но каждый мало-мальски профессиональный литератор по этому пути не пойдет, понимая, что путь этот в самой своей основе – антихудожественный.
Солженицын, пренебрегая азбукой художественного вкуса и такта, без колебаний вступает именно на этот путь.
Сталин у него разговаривает так:
– А шьто ты придпринимайшь па линии безопасности партийных кадров?
(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 118)
– Слюшай, – спросил он в раздумьи, – а шьто? Дэла по террору идут? Нэ прекращаются?..
(Там же. Стр. 119)
– Харашё, харашё... Значит, ты считайшь – нэдовольные ещё есть в народе?
(Там же. Стр. 119)
– Ты праваславный?.. А ну, пэрэкрестысь! Умейшь?.. Маладэц!
(Там же. Стр. 125)
– Ёсь Сарионыч! Вы сегодня на полтретьего Абакумову назначали. Будете принимать? Нет?..
– Пасмотрым, – устало ответил Сталин и моргнул. – Нэ знаю...
(Там же. Стр. 91)
– Зачэм мне эти передатчики? Квартырных варов ловить?
(Там же. Стр. 48)
– Ладна... Ыды пока, Саша...
(Там же. Стр. 92)
Тут коробит не столько даже вопиющее дурновкусие этих речевых характеристик, сколько исходящий от них густой аромат ксенофобии. Чувствуется, что автору тут важно не просто унизить Сталина, не только ещё ниже «опустить» его, но и наглядно продемонстрировать его нерусскость, жирно подчеркнуть, что он, Сталин, – нацмен, чечмек, «Гуталин», как его называли в народе.
К теме солженицынской ксенофобии мне ещё не раз придется обращаться. Пока же хочу отметить только одно: не Сталина я тут защищаю, а – достоинство литературы.
Есть предел, ниже которого художник, давая волю самым низменным своим чувствам, не должен опускаться.
* * *
Чуть ли не при первой же своей встрече с Солженицыным К. И. Чуковский сказал ему:
– Вам теперь не о чем беспокоиться. Ведь вы уже прочно заняли в русской литературе второе место после Толстого.
Александр Исаевич принял это как должное. Он и сам мерил себя этой мерой. Но, сознавая себя вторым после Толстого (а может быть, даже и не «после», а где-то с ним рядом), он не мог не думать о том, что должен быть равен Толстому и в его умении проникать в душу любого из своих героев, в самые тайные глубины его психики.
К Сталину это относилось даже в большей мере, чем к кому другому из его персонажей. Кого-кого, но уж его-то он просто обязан был показать не только извне, но и изнутри. Не сделав этого, просто невозможно было понять, – а тем более показать, – ЧТО ТАКОЕ СТАЛИН.
Посмотрим же, как он справляется с этой – им же самим поставленной перед собою задачей:
...Он перелистывал книжечку в коричневом твердом переплете. Он с удовольствием смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый наизусть, и опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто – она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи, но редким крупным толстым шрифтом, так что и малограмотный, и старый могли без утомления её читать. На переплёте было выдавлено и позолочено: «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография».
Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо. Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было.) Полководец революции застал на фронте толчею, растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. (Верно. Верно.) Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вёл мудрый и испытанный Вождь – Великий Сталин. (Да, народу повезло.) Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума. (Без ложной скромности – всё это правда.) Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. (Скромность – это очень верно.)...
Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие...
Семидесятилетие праздновал так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остеклели – мог начаться настоящий праздник. 21-го в Большом театре было торжественное чествование, выступали Мао, Долорес и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Ещё потом – узкий банкет. Пили старые вина испанских погребов, когда-то присланные за оружие. Потом отдельно с Лаврентием – кахетинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический приём. 23-го смотрел о себе вторую серию «Сталинградской битвы» и «Незабываемый 1919-й».
Хотя и утомив, произведения эти ему очень понравились. Теперь всё более и более правдиво вырисовывается его роль не только в Отечественной, но и в Гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. И экран и сцена показывали теперь, как часто он серьёзно предупреждал и поправлял слишком опрометчивого, поверхностного Ленина...
(Там же. Стр. 86–88)
Тут не так даже важно, что Сталин в этом отрывке предстает перед нами тупым самовлюбленным болваном. Это, кстати сказать, полностью соответствует представлению Солженицына о том, каким был он в действительности и к чему, в конце концов, свелась его роль в создании нашего государства. Его точка зрения на этот счет кардинально отличается от общепринятой, о чем можно судить хотя бы по такому его высказыванию:
И в тюремные и в предтюремные годы я тоже считал, что Сталин придал роковое направление советской государственности. Но вот Сталин тихо умер – и уж так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям, так это унылую тупость, самодурство, самовосхваление.
(Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Том первый. М. 1989. Стр. 605)
Чтобы убедиться в том, что это совсем не так, не надо быть ни историком, ни политологом, ни экономистом. Вот уже двадцать лет, как развалился, распался Советский Союз. Это было событие поистине гигантского исторического масштаба. В сущности, это ведь был распад не Советского Союза, а четырехсотлетней Российской империи, окончательный крах которой большевики задержали на семьдесят лет.
В России утвердился новый политический строй. Сменилась форма собственности. Да мало ли, что ещё произошло за минувшие после смерти Сталина годы. НО СТРАНА ПО-ПРЕЖНЕМУ БАРАХТАЕТСЯ В КОЛЕЕ, ПРОЛОЖЕННОЙ СТАЛИНЫМ. И одному только Богу известно, когда ещё она сумеет – и сумеет ли? – из этой колеи выкарабкаться.
Но, – повторю ещё раз, – для оценки сталинских глав солженицынского романа всё это особого значения не имеет. Тут важно другое: насколько достоверно, убедительно сумел он эту свою концепцию выразить, воплотить в живой художественный образ.
В то самое время, когда до меня дошел уже ходивший в Самиздате роман Солженицына «В круге первом», случилось мне прочесть другой роман, одним из героев которого, – можно даже сказать, главным его героем, – тоже был Сталин.
Это был роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».
До публикации этого – впоследствии знаменитого – романа тогда было ещё далеко. А в Самиздат, – в отличие от Солженицына, – Анатолий Наумович его не пустил. Но он уже тогда – обдуманно, избирательно, но всё же довольно широко – давал его читать. Дал и мне.
Но слух об этом его романе докатился до меня задолго до того, как мне случилось его прочесть. Докатился в таком контексте:
– Толя-то Рыбаков совсем спятил! – сказал мне один из наших общих знакомых. – У меня, говорит, Сталин написан лучше, чем у Солженицына.
Услышав это, я, признаться, тоже подумал: да, закружилась головка у Анатолия Наумовича!
Но, прочитав рукопись, вынужден был признать: да, верно... Что правда, то правда. У него Сталин действительно написан лучше.
«Лучше», «хуже», – это, конечно, были не те слова, которые в этом случае следовало бы употребить. Не в том тут было дело, что у Рыбакова Сталин был «лучше написан», чем солженицынский, а в том, что он был не в пример достовернее, художественно убедительнее солженицынского:
Сталин встал с кресла; где-то над головой летала пчела, гудела и гудела над самым ухом. Сталин отмахнулся от неё, она отлетела, села на стол, поползла к пепельнице, он прихлопнул её томом Ключевского.
– Подлость, – сказал по-грузински, – подлость! – снова усаживаясь в кресло и возвращаясь к мыслям о тех временах, о подлой брошюре Авеля Енукидзе.
В этой брошюре Енукидзе вздумал вдруг рассказывать о подпольной типографии, которая существовала в Баку под кличкой «Нина».
Типография подчинялась Ленину, переписка шла через Крупскую, руководили типографией Красин, Енукидзе и Кецховели. Больше ни один человек, как пишет Авель, о ней не знал, следовательно, не знал и ОН, Сталин. ЕМУ, Сталину, о ней даже не говорили.
Красина, этого инженера-электрика на службе у Ротшильдов и Манташевых, можно понять: Ленин приказал ему соблюдать максимальную конспирацию. На него ОН не в обиде: Красин давно умер. И Кецховели умер. И не эта маленькая типография решала судьбы революции. Так обстояло дело тогда.
По-другому обстоит дело сейчас. ОН не нуждается в бакинских, тифлисских, закавказских лаврах. ЕМУ нужна истинная история партии, а истинная история партии только та, которая служит интересам и авторитету её руководства.
Если ОН не знал о существовании в Баку, рядом с ним, подпольной типографии, то как можно теперь утверждать, что ОН руководил партией в России? Если ОН руководил партией, значит, он не мог не знать о существовании типографии. Отрицать это – значит отрицать его роль как первого помощника Ленина. Неужели этого не понимает товарищ Авель Енукидзе? Не может не понимать. Зачем же выпустил брошюру, из которой явствует, что товарищ Сталин не имел никакого отношения к типографии «Нина»? Зачем это понадобилось товарищу Енукидзе?..
Эту подлую провокационную брошюру надо разнести в пух и прах. Авель, конечно, начнет отрекаться, плакаться, каяться, а кающийся человек – политически конченый человек. Существует ли он после этого физически, уже никого не интересует, кроме родных и близких. Родные и близкие переживут.
Кому поручить написать об этой брошюре? Лучше кому-нибудь из старых бакинцев. Но кто остался из старых бакинцев?
Орджоникидзе бывал в Баку, работал в Балахнинском районе на нефтяных промыслах Шамси Асадулаева – фельдшером в приемном покое, небольшом домике на окраине Романов. ОН хорошо помнит этот домик: две комнаты, в одной Серго жил, в другой вел прием. Хорошая была явочная квартира, удобная, мало ли кто ходит к фельдшеру. Проработал там Серго, наверно, с год, потом бывал в Баку наездами. Настоящий свидетель, хороший свидетель, но отговорится занятостью, к тому же друг Авеля Енукидзе, разве станет свидетельствовать против друга...
Остается Киров. До революции он в Баку не бывал, но после революции пять лет был хозяином Азербайджана, имел доступ ко всем архивам, хорошо изучил историю бакинской партийной организации, человек грамотный, дотошный. Вот ему бы ответить на брошюрку Енукидзе, ему бы своим авторитетом опровергнуть ненужную партии версию и, наоборот, поддержать версию, укрепляющую авторитет партийного руководства. На словах он превозносит товарища Сталина – слов мало. Именно поэтому он и вызвал Кирова в Сочи, пусть поработает рядом, пусть покажет, каков он сейчас.
(Анатолий Рыбаков. Дети Арбата)
Разговор с приехавшим по его вызову в Сочи Кировым об этой злосчастной брошюрке Авеля Енукидзе Сталин заводит словно бы мимоходом, невзначай. Начинает издалека, – сперва о воспоминаниях Крупской, в которых она будто бы преувеличила роль Плеханова. Потом – о статье Поспелова в «Правде», исправившей эту политическую ошибку Надежды Константиновны. И вот, наконец, подбирается к главному:
Сталин усмехнулся:
– Всех потянуло на мемуары. Вот и Авель Енукидзе туда же.
Из этой же папки, снова обернувшись к журнальному столику, Сталин достал брошюру Енукидзе, показал её Кирову.
– Читал?
Киров читал брошюру Енукидзе и понимал, что´ в ней не устраивает Сталина. На минуту у него шевельнулось желание сказать, что не читал, и тем уйти от разговора. Но тогда Сталин предложит прочитать и от разговора все равно не уйти.
– Да... Просматривал... Она мне попадалась...
Сталин уловил уклончивость ответа.
– «Попадалась», «просматривал», – повторил он. – Так вот, из этой брошюры получается, что о существовании типографии «Нина» знали только три человека: Красин, Енукидзе и Кецховели. Откуда Авелю Енукидзе это известно?
– Он был одним из руководителей типографии.
– Вот именно, «одним из»... Были ещё Красин, Кецховели. И Кецховели не скрывал от меня её деятельности. Но Красина и Кецховели нет в живых. В живых только Авель Енукидзе, однако тот факт, что он живой, ещё не дает ему права представлять историю типографии так, как ему хочется, а не так, как оно было в действительности.
– По-видимому, Енукидзе не знал о том, что вы были в курсе дела, – сказал Киров, – вероятно, он был убежден, что ленинская директива выполняется точно.
– Какая директива? – насторожился Сталин.
– Директива о том, что никто, кроме Красина, Енукидзе, Кецховели и наборщиков, не должен знать о типографии.
– Откуда ты знаешь об этой директиве?
– Это факт общеизвестный.
– Что значит «общеизвестный»? Это выдумал Енукидзе, и все поверили. Типография действительно подчинялась заграничному центру. Но из чего следует, что я ничего не знал о ней? Зачем это понадобилось товарищу Енукидзе? Это понадобилось для того, чтобы доказать, что нынешнее руководство ЦК не является прямым наследником Ленина, что до революции Ленин опирался не на нынешних руководителей партии, а на других людей, более того, он этим людям доверял, а нынешним руководителям не доверял. На чью мельницу льет воду товарищ Енукидзе?..
– Я думаю, вы несколько сгущаете краски, – нахмурился Киров, – просто не дело Енукидзе писать такие брошюры, он не историк и не писатель. Я сомневаюсь, что он хочет дискредитировать партийное руководство. Он честный, искренний человек и любит вас.
Сталин исподлобья, в упор смотрел на Кирова, глаза его были желтые, тигриные. Все больше раздражаясь, а потому говоря с сильным акцентом, он сказал:
– Честность, искренность, любовь – это не политические категории. В политике есть только одно: политический расчёт.
Разговор становился тягостным. Со Сталиным в последнее время вообще стало трудно разговаривать, а когда он раздражался, особенно.
– Можно поправить товарища Енукидзе, – примирительно сказал Киров, – указать на его некомпетентность в вопросах истории.
– Да, – подхватил Сталин, – если бы это написал какой-нибудь историк, его мог бы поправить другой историк. Но это написал член ЦК, один из виднейших руководителей страны. Поправить его следует на том же уровне. – Он в упор смотрел на Кирова. – Ты пять лет возглавлял бакинскую партийную организацию, твое выступление было бы наиболее авторитетным.
Киров был поражен. Такого ещё не бывало. Он, член Политбюро, должен публично засвидетельствовать, что Сталин был руководителем типографии «Нина», о существовании которой даже не знал, тут Енукидзе прав. Почему такое предложение делается ему? Проверяется лояльность? Она достаточно проверена, и если надо проверить ещё раз, то не на таком примере.
– Я никогда не занимался историей, – сказал Киров, – и не в курсе данного конкретного вопроса. Кроме того, в тот период, о котором идет речь, я не был в Баку.
– Ну что ж, – спокойно ответил Сталин, – как говорится: на нет и суда нет. Я надеюсь, что в партии найдутся товарищи, способные ответить Авелю Енукидзе.
(Там же)
Солженицынский «портрет» Сталина явно проигрывает в сравнении с этим – реалистически точным, психологически достоверным. Собственно, у Солженицына это даже и не портрет, а карикатура. И к тому же выдержанная в том, хорошо нам знакомом, эстетическом каноне, в каком на страницах «Правды» или «Крокодила» знаменитые советские карикатуристы (Кукрыниксы, Борис Ефимов) изображали империалистов, сионистов и всяких иных наших заклятых классовых врагов (с «кляплым, свисающим носом», «с низко-покатым назад лбом питекантропа»).
Картина получается странная, отчасти даже загадочная.
Анатолий Рыбаков в моих – да и не только моих – глазах был не более, чем беллетристом средней руки. А Солженицын... «Великим Писателем Земли Русской», как некогда Толстого, его тогда ещё не называли. Но к этому было уже близко.
Как же могло случиться, что там, где «беллетрист средней руки» добился столь очевидного и несомненного успеха, «Великого Писателя Земли Русской» постигла такая же очевидная и несомненная неудача? Можно даже выразиться ещё резче: такой очевидный и несомненный провал?
Но может быть, это вовсе и не было провалом? Может быть, Солженицын сделал со своим Сталиным именно то, чего добивался? Решал – и решил! – именно ту художественную задачу, которую перед собой поставил?
Да, конечно, карикатура – такой же законный жанр, как портрет, и в принципе такое художественное решение тоже возможно. Но – не в романе же, где эта плакатная стилистика разрывает ткань реалистического повествования!
Кто-нибудь наверняка тут скажет, что для такой фигуры, как Сталин, можно сделать исключение даже и в романе. (Как сделал это Л. Н. Толстой со своим Наполеоном).
Но то-то и беда, что у Солженицына, – даже в самых крупных, самых художественно значимых его книгах, – такое плакатное решение стало не исключением из правила, а – правилом.
* * *
Ярче всего это выявилось в фигуре одного из центральных персонажей повести Солженицына «Раковый корпус» – Русанова.
О художественной неубедительности этого образа на обсуждении «Ракового корпуса» (первой его части, вторая тогда ещё не была написана) говорили все. Не только те, кто – по долгу службы – склонен был отнестись к этой солженицынской повести настороженно, но и самые пылкие её защитники.
Ю. Карякин:
Есть у меня одно-единственное внутреннее несогласие с автором, которое мне трудно сформулировать. Я вижу человека Солженицына, который не может простить Русанову все, что тот совершил. Камю при получении Нобелевской премии сказал, что высшее искусство не прокурорно. Человека можно повернуть и так и этак. Великая победа художника Солженицына состояла бы в том, что, ненавидя Русанова и благословляя смерть за то, что хоть смерть – управа на русановых, – он тем не менее и в нем сумеет найти, обнаружить человечное. Если это невозможно, тогда мы остаемся с безнадежной концепцией первородного греха...
Высшая мера наказания в искусстве не совпадает с высшей человеческой мерой. В искусстве надо, чтобы злодей либо, как Иуда, повесился, либо – иди искупай... Все человеческое в Русанове пока загнано под кожу.
(Обсуждение первой части повести «Раковый корпус» на заседании секции прозы Московской писательской организации. 17 ноября 1968 года. В кн.: Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 173)
Е. Мальцев:
Мне тоже кажется, что Русанов излишне прямолинеен и однозначен. Даже где-то и оглуплен. Автор взял нетронутый искусством пласт, но в жизни все сложнее.
(Там же. Стр. 174)
Л. Кабо:
Русанов написан неровно. Я вся зашлась (простите за вульгаризм), когда он вступает в спор на тему «чем люди живы» и уверенно произносит: «идейностью и служением обществу», а в это время прокусывает самый сладкий хрящик курицы. Но кое-где в этом образе есть публицистические перехлёсты. Всё пережитое, ненависть к Русанову хватает автора за горло...
(Там же. Стр. 169)
З. Кедрина:
Мы согласны с Костоглотовым в его ненависти к Русанову, не найдется ни одного человека, который будет защищать Русанова... Но в Русанове все только названо... Всё дано прямолинейно.
(Там же. Стр. 167)
О Русанове, правда, всё это говорится с оговорками, с признанием, что при всей своей художественной уязвимости именно фигура Русанова во многом определяет ценность солженицынской повести, её «гражданский успех».
А. Борщаговский:
...Необходимо воспитывать ненависть к русановым... Воспитать ненависть необходимо во имя борьбы с живыми остатками русановщины. И здесь большой гражданский успех книги.
(Там же. Стр. 157)
Но по поводу того, как изображена в повести семейка Русанова, – его жена Капиталина и в особенности его дочь Авиета, – ни у кого не было уже ни малейших сомнений. Все ораторы единодушно сошлись на том, что это не просто очевидная неудача автора, и даже не просто провал, а прямо-таки катастрофа.
Особенно фальшивым, далеко выходящим за пределы жизненного правдоподобия многим ораторам показалось (и справедливо) то обстоятельство, что о доносах Русанова знала не только его жена, но и дочь:
И. Винниченко:
Мне не понравился образ Капы, она однолинейна, неясно, почему она в курсе доносов мужа? Совершенно неестественно, что и дочь об этом знает и даже успокаивает отца.
(Там же. Стр. 162)
Н. Асанов:
Не нужно, чтобы и жена и Авиета знали о его доносах.
(Там же. Стр. 163)
На эти упреки Солженицын счел нужным ответить, не дожидаясь конца обсуждения, а тут же, по ходу дела. В стенограмме это отмечено такой короткой ремаркой:
Солженицын дает фактическую справку: о доносах Русанова была осведомлена только его жена; дочери они решили сказать лишь в последний момент.
(Там же. Стр. 168)
Хорошо помню, что эта его «фактическая справка» меня тогда прямо-таки изумила.
Что это значит – «в последний момент»? Когда с того света стали возвращаться люди, которых он отправил туда своими доносами?
И разве в том было дело, КОГДА она узнала, что её отец – мерзавец, у которого руки по локоть в крови? Тут ведь важно совсем другое: КАК, УЗНАВ ОБ ЭТОМ, ОНА ЭТО ПРИНЯЛА.
* * *
В то самое время, когда в Союзе писателей обсуждался уже ходивший в Самиздате солженицынский «Раковый корпус», явился на свет другой роман, другого писателя, в котором тоже, – по слову Ахматовой, – встретились и поглядели друг другу в глаза две России: та, что сидела, и та, что сажала.
Эта тема, как и у Солженицына, была в том романе главной и, как и у Солженицына, обозначилась в нем сразу, с первых же его страниц. Но, в отличие от солженицынской повести, здесь той России, что сажала, прежде, чем встретиться с той, что сидела, предстояло поглядеть в глаза своим выросшим детям.
Валерий Павлович поднял глаза от газеты.
– А что случилось?
– Решительно ничего.
– Все-таки?
– Алеша сказал грубость историку и получил тройку по поведению.
Валерий Павлович отложил газету.
– Он дома?
– Да, но только...
– Позови его.
Мария Ивановна умоляюще сложила руки, но у него опасно потускнели глаза, и она торопливо пошла за сыном...
Алеша вошел, потупясь... Он был похож на мать – длинный, бледный, с широко расставленными глазами.
– Алеша, расскажи отцу... За что ты получил тройку по поведению?
– Я писал контрольную, а Геннадий Лукич подошел и отобрал.
– Почему?
– Не знаю. Очевидно, решил, что я списываю у Женьки.
– И это все?
– Да.
– Неправда, Алеша, – возразила Мария Ивановна. – Ты сказал ему грубость.
– Не сказал, а прошептал. Я не виноват, что он расслышал. Вообще я не списывал.
– Допустим. Но все-таки... Что ты ему сказал?
Алеша не ответил...
– Говори! – бешено крикнул Валерий Павлович...
Алеша покраснел болезненно, слабо. Он смотрел в сторону, с трудом удерживая дрожащие губы.
– Если вы непременно хотите знать, я сказал, что он – сволочь.
– Что?
Алеша поднял глаза на отца, вскрикнул и побежал к двери. Мария Ивановна догнала его.
– Алеша, я очень прошу тебя... Должна же быть причина...
– Потому что он сволочь, сволочь, сволочь! Из-за него честных людей расстреливали. Он гад!..
– Ах, вот в чем дело! Тогда сядем. – Он взял стул. – И поговорим спокойно.
– Валерий, я прошу тебя... Тебе вредно волноваться.
– А я и не волнуюсь... Видишь ли в чем дело, Алеша... Ты осмелился обвинить своего преподавателя в тяжелом преступлении. На каком основании? У тебя есть доказательства? А если это клевета? Нет, Алеша, преступление в данном случае совершил не он, а ты. И называется оно – ты ещё не знаешь этого слова – инсинуацией... Ты сегодня же извинишься перед историком...
– Разумеется, – поспешно подтвердила Мария Ивановна, взглянув на сына, который, упрямо опустив голову, направился к двери.
(В. Каверин. Двойной портрет. Роман. М. 1967. Стр. 6–8)
Время действия этого романа Каверина, как и солженицынской повести, – 1954 год. И Валерий Павлович Снегирев, – главный его герой, – как и солженицынский Русанов, чувствует, как уходит из-под его ног земля.
Его положение даже хуже, чем у Русанова. Тот только опасается возможных разоблачений, только страшится очных ставок с людьми, на которых писал доносы. А у Снегирева эти неприятности уже начались. Уже состоялась и очная ставка в редакции газеты с вернувшимся из лагеря профессором Остроградским, которому своими доносами и многолетней травлей он сломал жизнь. И уже появилась в газете разоблачающая его статья.
Но он – крупнее, сильнее Русанова. И этот удар, наверно, как-нибудь выдержал бы. Во всяком случае, сдаваться он не собирается. И еще неизвестно, кто – кого! Он – не чета своему дружку Крупенину, с которым они вместе травили Остроградского и который, кажется, уже готов признать пораженье:
...Лариса Александровна позвонила Снегиреву и попросила его приехать как можно скорее.
– А что случилось?
– С Василием нехорошо.
– Болен?
– Нет, но... Словом, я жду вас. Это необходимо.
Она встретила Снегирева, тщательно причесанная, прибранная, как всегда, но с припухшими глазами и опустившимся после бессонной ночи лицом.
– В том-то и дело, что не знаю и ничего не могу понять, – сказала она. – Вчера Василий пошел проститься с Женей и вернулся расстроенный, хотя как будто не очень. Ночью ему не спалось, ворочался, а под утро, когда я задремала, тихонько вышел и с тех пор...
Они разговаривали в столовой, дверь из кабинета была закрыта, но оттуда были слышны какие-то всхлипывания, вскрики.
– Я уговаривала, умоляла, ему вообще нельзя пить. Куда там! Кричит. Что произошло между ними? Женя спокоен, ушел в школу, как всегда, потом позвонил, что вернется поздно, у них какой-то вечер...
Дверь распахнулась, и Крупенин, обмякший, в туфлях на босу ногу, в ночной рубашке и пижамных штанах, которые он подтягивал неверной рукой, показался на пороге.
– А, братец кролик! Здорово!
– Здравствуй, здравствуй, – холодно сказал Снегирев.
– Ну, садись! Я, правда, тебя не звал. Но коли пришел, садись...
Он долго пьяно смотрел на Снегирева...
– Сыновей-то мы с тобой проморгали?
Он сказал другое слово, покрепче. Лариса Александровна вздрогнула и вышла.
– Науку проморгали. – Он снова назвал то же слово. – Значит, так и будем жить?
Снегирев подошел и сильно встряхнул его.
– Постыдись!
– Ну! – Крупенин замахнулся, но не стал бить, а рухнул на диван и заплакал.
Снегирев молча ждал. У него ещё утром раза два-три неприятно останавливалось сердце, пропуская удар, другой. И сейчас остановилось, пропустило.
– Знаешь, о чем меня Женька вчера спросил? Причем, заметь, совершенно спокойно: «Ты помнишь эту историю с Геннадием Лукичом, папа? Ну, с нашим историком? Мы его продолжаем бойкотировать... Ты, помнится, был на нашей стороне. Так вот я хочу тебя спросить: как ты относишься к Снегиреву, который, по-видимому, недалеко ушел от этого Геннадия Лукича?»
Валерий Павлович побледнел.
– Что, братец? Ноздри раздул? Ноздри будешь потом раздувать. Завтра тебя об этом Алешка спросит...
И тяжелой пепельницей из уральского камня он запустил в зеркало полубуфета. Стекло посыпалось. Испуганная Лариса Александровна заглянула. Снегирев махнул ей. Она закрыла дверь.
– Послушай, Василий...
Крупенин отвел его сильной толстой рукой.
– Уйди. Ты у меня сына отнял.
– Здравствуйте.
– Добрый вечер. Уйди, черная душа.
Крупенин вытер платком мокрое лицо...
До поздней ночи Снегирев провозился с Крупениным. Он ругал его, пил с ним, снова ругал. Он уговорил его принять прохладную ванну – и ушел без сил, когда Василий Степаныч захрапел на полуслове, опустив всклокоченную голову на грудь и уютно сцепив руки на животе, выпирающем из пижамных штанов.
(Там же. Стр. 209–213)
Вот и эту проблему он как будто бы решил.
Но мысли о сыне его не оставляют.
– Ох, устал! Завтра расскажу, – сказал, вернувшись домой, Валерий Павлович. – Алеша спит?
– Да...
– Как его дела?..
– Все в порядке.
– А вот ты однажды сказала: «Его нельзя узнать». В каком смысле?
– Я так сказала? Не помню. Почему ты заинтересовался?
– Просто так. Как он учится?
– Хорошо. У него только по истории тройка. Ты будешь ужинать?
– Нет...
Валерий Павлович принял снотворное, переоделся, но не стал ложиться, а, почитав немного, прошел к сыну. В Алешиной комнате было прохладно, форточка открыта, лампочка уютно светилась в глубине стоявшего на ночном столике молочного, матового шара. Мальчик спал в странной, неудобной позе, которую Мария Ивановна считала полезной – на спине, с лежащими поверх одеяла руками. Руки были длинные, узкие, и все тело мальчишески узкое, вытянувшееся под тонким одеялом. Грудь поднималась чуть заметно.
Наклонившись над постелью, Снегирев внимательно смотрел на Алешу. Так он простоял долго, сам не зная зачем и ничего, кажется, не желая. Вдруг веки у мальчика дрогнули.
– Спишь? – чуть слышно спросил Валерий Павлович.
Веки все дрожали, но теперь уже как-то иначе, чем прежде.
Валерий Павлович быстро выпрямился. Ему стало страшно, холод пробежал по спине, сердце пропустило удар, забилось быстро и опять пропустило.
Теперь он наверное знал, что Алеша не спит, но спросить его снова было уже невозможно.
(Там же. Стр. 213–215)
Свой социальный статус и даже и свое место в науке Валерий Павлович Снегирев, может быть, и сохранит. Но прежние его отношения с сыном, похоже, уже невосстановимы.
С солженицынским Русановым ничего подобного не происходит и не может произойти. У него в семье – мир и согласие. И на его отношения с дочерью никогда не ляжет никакая тень. У него с ней – полное взаимопонимание:
Хотя никто их, как будто, не слушал, всё же она наклонилась к отцу близко, и так стали они говорить друг для друга только.
– Да, папа, это ужасно, – сразу подступила Авиета к главному. – В Москве это даже не новость, об этом много разговоров. Начинается чуть ли не массовый пересмотр судебных дел... Это сейчас какая-то эпидемия. Шараханье! Как будто колесо истории можно повернуть назад!.. И потом, что значит само слово «реабилитирован»? Ведь это ж не может значить, что он полностью невиновен! Что-то обязательно там есть, только небольшое.
Ах, какая ж умница! С какой горячностью правоты она говорила! Ещё не дойдя до своего дела, Павел Николаевич уже видел, что в дочери он встретит поддержку всегда...
– А кто этих дураков заставлял подписывать на себя небылицы? Пусть бы не подписывали! – гибкая мысль Аллы охватывала все стороны вопроса. – Да вообще, как можно ворошить этот ад, не подумав о людях, кто тогда работал. Ведь о них-то надо было подумать! Как и м перенести эти внезапные перемены!
– Тебе мама – рассказала?..
– Да, папочка! Рассказала. И тебя здесь ничто не должно смутить! – уверенными сильными пальцами она взяла отца за оба плеча. – Вот хочешь, я скажу тебе, как понимаю: тот, кто идёт и сигнализирует, – это передовой, сознательный человек! Он движим лучшими чувствами к своему обществу, и народ это ценит и понимает. В отдельных случаях такой человек может и ошибиться. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Обычно же он руководится своим классовым чутьём – а оно никогда не подведёт.
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 194–195)
С трудом, – с большим трудом! – но все-таки ещё можно представить, что всё это Авиета говорит из жалости к отцу, чтобы утешить его, успокоить. Вот так же, как тем же бодрым, уверенным тоном, говорит она с ним о его смертельной болезни:
Дочь, не спрашивая, но и нисколько не причиняя боли, раздвинула у отца воротник и ровно посередине смотрела – так смотрела, будто она врач и каждый день имела возможность сравнивать.
– Ну, и ничего ужасного! – определила она. – Увеличенная железа, и только. Мама мне такого написала, я думала здесь – ой! Вот, говоришь, стало свободнее. Значит, уколы помогают... Значит, помогают. А потом ещё меньше станет. А станет в два раза меньше – тебе она и мешать не будет, ты можешь хоть выписаться.
(Там же. Стр. 194)
На самом деле она так, конечно, не думает. Но так уж принято говорить с безнадежными раковыми больными. Так может быть, и заговорив о доносах, которые, как она узнала от матери, когда-то писал её отец, она тоже лукавит, делает хорошую мину при плохой игре?
Это предположение тотчас обнаруживает полную свою несостоятельность.
Вот Авиета переходит к другой теме, заговаривает о своих литературных делах и успехах. Уж тут-то ей точно нет никакой нужды притворяться, говорить не то, или хотя бы не совсем то, что думает:
– Ну, папа, я съездила – очень удачно. Мой стихотворный сборник обещают включить в план издательства! Правда, на следующий год. Но быстрей – не бывает. Быстрей представить себе нельзя!..
Лавиной радостей засыпала его сегодня дочь. Он знал, что она повезла в Москву стихи, но от этих машинописных листиков до книги с надписью Алла Русанова казалось непроходимо далеко.
– Но как же тебе это удалось?
Довольная собой, твёрдо улыбалась Алла.
– Конечно, если пойти просто так в издательство и предложить стихи – кто там с тобой будет разговаривать? Но меня Анна Евгеньевна познакомила с М*, познакомила с С*, я прочла им два-три стиха, им обоим понравилось – ну, а дальше там кому-то звонили, кому-то записку писали, всё было очень просто.
– Это замечательно, – сиял Павел Николаевич. Он нашарил на тумбочке очки и надел их, как если бы прямо сейчас предстояло ему взглянуть на заветную книгу...
– Алла, всё-таки я боюсь: а вдруг у тебя не получится?
– Да как может не получиться? Ты наивный. Горький говорил – любой человек может стать писателем!.. И фамилия у меня красивая, не буду псевдонима брать, да – и внешние качества у меня для литературы исключительные!
Но была и ещё опасность, которой дочь в порыве могла недооценивать.
– А представь себе – критика начнёт тебя ругать? Ведь это у нас как бы общественное порицание, это опасно!
Но с откинутыми прядями шоколадных волос бесстрашно смотрела Авиета в будущее:
– То есть очень серьезно меня ругать никогда не будут, потому что у меня не будет идейных вывихов! По художественной части – пожалуйста, пусть ругают. Но важно не пропускать повороты, какими полна жизнь. Например, говорили: «конфликтов быть не должно»! А теперь говорят: «ложная теория бесконфликтности». Причём, если б одни говорили по-старому, а другие по-новому, заметно было бы, что что-то изменилось. А так как все сразу начинают говорить по-новому, без перехода – то и незаметно, что поворот. Вот тут не зевай! Самое главное – быть тактичной и отзывчивой к дыханию времени. И не попадёшь под критику...
(Там же. Стр. 198 –199)
Стремясь нащупать и отобразить все метастазы, которыми раковая опухоль ГУЛАГа заразила самые разные области жизнедеятельности советского государственного организма, Солженицын, естественно, не мог обойти ту область, которая ближе всего его касалась: советскую литературу. Именно для этого понадобилось ему сделать свою Авиету молодой поэтессой.
Стремление высказаться и на эту тему владело им и в «Иване Денисовиче», где осуществить это было гораздо труднее: уж слишком далек от этих проблем был главный герой той его повести, глазами которого он смотрел на изображаемую в ней реальность.
Тем не менее там, в «Иване Денисовиче», он с этой задачей справился великолепно:
Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной, не видит.
А против него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.
– Нет, батенька, – мягко этак, попуская, говорит Цезарь, – объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!
– Кривлянье! – ложку перед ртом задержа, сердится Х-123. – Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции! – (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок.)
– Но какую трактовку пропустили бы иначе?..
– Ах, пропустили бы? Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!
– Гм, гм, – откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну и тоже стоять ему тут было ни к чему.
Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, – и за своё.
– Но слушайте, искусство – это не что, а как.
Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу:
– Нет уж, к чёртовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!
Постоял Шухов, ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной.
И Шухов, поворотясь, ушёл тихо.
(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 397–398)
Эту сцену, как и весь тот мир, что открылся нам в солженицынском «Иване Денисовиче», мы тоже видим глазами Шухова, который понять смысл этого «образованного разговора», а тем более так точно его запомнить, разумеется, не мог. И тем не менее читатель легко проглатывает эту маленькую условность. Художественную достоверность, реалистическую ткань повествования она не разрушает.
С высказываниями Авиеты на литературные темы дело обстоит, как будто, проще. Сделать этот её монолог достоверным, художественно оправданным, казалось бы, не в пример легче, чем диалог Цезаря с двадцатилетним каторжанином Х-123. Ведь не ушами Шухова мы слышим эти её литературные речи. Однако реалистическая ткань повествования тут не просто рвется, а прямо-таки распадается. Реальная картина превращается в сатирический фельетон, в памфлет:
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу