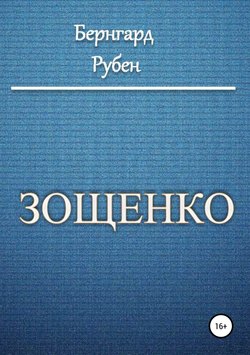Читать книгу Зощенко - Бернгард Савельевич Рубен - Страница 6
Сокровенный поводырь
Оглавление2.
«Литинститут»
Так, наряду с освоением простонародного круга жизни ему потребовалось еще вхождение в круг литературный, освоение изнутри шедших там процессов, что тоже заняло около трех лет (причем оба «хождения» шли частью параллельно).
Эти уже совершенно целенаправленные литературные поиски начались вслед за полугодичным пребыванием его на фронте гражданской войны под Нарвой и Ямбургом в 1-м Образцовом полку деревенской бедноты, где он был командиром пулеметной команды, потом полковым адъютантом, и откуда снова попал в госпиталь по болезни сердца.
А летом 1919 года агент уголовного розыска Зощенко, ведомый своим сокровенным поводырем, появился в только что открывшейся Студии при издательстве «Всемирная литература», которым руководил сам Горький. «Всемирка», как ее называли энтузиасты этого масштабного дела, предназначалась дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения стран и народов всего мира. И Студия должна была готовить для издательства кадры переводчиков. Нечто вроде курсов молодых переводчиков – таков был первоначальный замысел ее организаторов, быстро претерпевший, однако, кардинальные изменения.
Расположилась Студия в самой обширной квартире весьма вычурного снаружи дома, еще недавно принадлежавшего богатому греку Мурузи. В этом доме на углу Литейного проспекта и Спасской улицы жил в прежние – «мирные» – годы известный писатель и публицист Мережковский, который впоследствии, как «белоэмигрант», был вычеркнут (вместе со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус) на семьдесят советских лет из отечественной культуры. И в этом доме, уже в шестидесятые годы, до суда над ним и ссылки, проживал будущий Нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский, также вынужденный потом эмигрировать из-за невозможности жить и творить в родной стране. Таким образом, дом Мурузи, стоящий и поныне в Санкт-Петербурге (вернувшем себе исконное название в начале 90-х годов), получил свою литературную судьбу.
Подобно другим студийцам «с улицы», Зощенко пришел в этот дом по объявлению (тогда вообще открывалось много всевозможных студий – театральных, цирковых, рисовальных, вышивальных, и повсюду были расклеены объявления). Народ в Студии при «Всемирке» собрался различный. Выделялись два вундеркинда – пятнадцатилетний школьник Владимир Познер, знавший наизусть Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматову и сам непрерывно писавший эпиграммы, пародии, юморески; и университетский студент Лев Лунц, поэт, тоже по виду юный школьник, свободно говоривший на пяти языках и прочитавший на них гору книг. Тут же за партой сидели широкоплечий, рослый, в кожанке и высоких сапогах, парень-коммунист Глазанов и благовоспитанный Михаил Слонимский, застенчивый, с печальными глазами молодой человек из литературной семьи, у которого дед, отец, дядя и тетя – все были писатели. Эти двое, побывавшие на войне, были переполнены впечатлениями, которые намеревались воплотить в своих произведениях. Имелись здесь, разумеется, и начинающие поэтессы. Эта часть студийцев совершенно не интересовалась мастерством перевода, их влекло собственное творчество, и Студия скоро превратилась в их клуб. Им требовалось активное литературное общение, чтение друг другу написанного, немедленный отклик.
Один из организаторов Студии К. И. Чуковский так написал о них в своих воспоминаниях:
«…их можно было принять за лунатиков, одержимых литературой как манией. Их жаркие литературные споры могли со стороны показаться безумными. Время стояло суровое: голод, холод, гражданская война, сыпной тиф, „испанка“ и другие болезни. К осени четверо наших лучших студистов погибли – кто в боях с Колчаком, кто – на койках заразных бараков. Нужна была поистине сумасшедшая вера в литературу, в поэзию, в великую ценность и силу словесного творчества, чтобы несмотря ни на что, в таком мучительно-тяжелом быту исподволь готовиться к литературному подвигу».
Эта вера в литературу поддерживалась у студистов и самими руководителями Студии, ведшими постоянные семинары. В этих стенах, писал К. И. Чуковский, «бушевал Виктор Шкловский, громя и сокрушая блюстителей старой эстетики; …таблицами рифм и ритмов соблазнял свою паству Николай Гумилев; …чудесные плел кружева из творений Белого, Лескова и Ремизова хитроумный Евгений Замятин…» И еще: «Студия с первых же дней походила на Вавилонскую башню. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли, что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты: шкловитяне, гумилевцы, замятинцы». В этот перечень надо добавить и «чуковистов»…
Можно сказать, что судьба, круто проварив Зощенко в котле жизни, теперь со всею тщательностью позаботилась поместить его в благодатный литературный питомник и создала самые удачные условия для быстрого писательского созревания. Вплоть до организационных деталей: даже лекции читались по вечерам, чтобы учебу, без помех, было возможно совмещать с постоянной работой.
Торжественное открытие Студии – вытертые насухо после недавнего потопа полы, очищенные от похабщины стены, топящийся камин – в брошенной квартире, загаженной последними обитателями-беспризорниками, состоялось, как сообщает Чуковский, в июне девятнадцатого года. А уже в сентябре Студия в доме Мурузи прекратила свое существование. Но эти всего-навсего три месяца преобратились для Зощенко – с продуктивностью творящего взрыва – в целый этап практического литературного формирования. По интенсивности освоения знаний и творческих поисков эти три месяца стали, в сущности, его «литинститутом» или, по крайней мере, основополагающей частью нужной ему академической подготовки.
Держался он в студии отъединенно, замкнуто. «Нелюдимый, хмурый, как будто надменный, – вспоминает К. Чуковский, – садился он в самом дальнем углу, сзади всех, и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в громкокипящие споры, которые велись у камина. Споры были неистовы. Все литературные течения того переломного времени врывались сюда, в дом Мурузи, но в первое время было невозможно сказать, какому из этих течений сочувствует Зощенко. Он прислушивался к спорам безучастно, не примыкая ни к той, ни к другой стороне».
Безучастность его была, конечно, внешней, прикрывала стремление разобраться во всем том литературном кипении самостоятельно и ограждала его независимость, достоинство. Он вообще чуждался бесцеремонности, панибратства. Обусловили дистанцирование и жизненные испытания, каких не доводилось переживать «литературным мальчикам» Студии.
Первый же реферат Зощенко, написанный по заданию Чуковского о поэзии Блока, оказался сюрпризом для всего семинара. Перед Зощенко на ту же тему прочитала свой вполне традиционный реферат одна студистка – поэтесса Елизавета Полонская, которая в своих воспоминаниях описала то достопримечательное занятие:
«Потом Зощенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение.
– Другой стиль, – заявил он.
Чуковский взял у него тетрадку:
– Давайте я прочту.
Корней Иванович стал читать вслух, привычно подчеркивая интонацией отдельные слова. Так он читал детям „Крокодил“ и „Тараканище“. Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зощенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно „по стилю“.
Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал:
– Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения.
Зощенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман…»
«Своевольным, дерзким своим рефератом, идущим наперекор нашим студийным установкам и требованиям, Зощенко сразу выделился из массы своих сотоварищей, – говорит К. И. Чуковский в своей большой мемуарной работе о Зощенко (из серии интереснейших очерков „Современники“). – Здесь впервые наметился его будущий стиль: он написал о поэзии Блока вульгарным языком заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя. Тогда эта маска была для нас литературной новинкой, и мы приветствовали ее от души. Именно тогда, в тот летний вечер девятнадцатого года, мы в Студии впервые почувствовали, что этот молчаливый агент уголовного розыска с таким усталым и хмурым лицом обладает редкостной, чудодейственной силой, присущей ему одному, – силой заразительного смеха».
Задатки этой «чудодейственной силы» передались Зощенко, как видно, также по наследству – от отца-художника, помещавшего в иллюстрированной «Ниве», наиболее популярном в дореволюционной России журнальном издании, комические рисунки-картинки из жизни украинских крестьян. Здесь обнаруживает себя исток и юмора, и народности в писательском таланте Зощенко-сына.
За блоковским рефератом последовали уже непосредственные пародии – на Чуковского, Замятина, Шкловского. По глубине содержания они не уступали статьям профессиональных критиков, а сарказм автора с поразительной меткостью демонстрировал уязвимость пародируемых мэтров. Выявилось, что Зощенко обладает абсолютным слухом к слову, стилю, интонации.
К. И. Чуковский вспоминал:
«Еще резче выразилось его строптивое нежелание подчиняться нашей студийной рутине через две или три недели, когда я задал студистам очередную работу – написать небольшую статейку о поэзии Надсона.
Через несколько дней я получил около десятка статеек. Принес свою работу и Зощенко – на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги.
Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой:
– Только это совсем не о Надсоне…
– О ком же?
Он помолчал.
– О вас.
Я уже стал привыкать к его своевольным поступкам, так как еще не было случая, чтобы он когда-нибудь выполнил хоть одно задание преподавателей Студии. Чужим темам предпочитал он свои, предуказанному стилю – свой собственный.
Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку „От Чехова до наших дней“. С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда. Пародия по значительности своего содержания стоила критической статьи, но никогда еще ни один самый язвительный критик не отзывался о моих бедных писаниях с такой сосредоточенной злостью. Именно в этом лаконизме глумления и сказалось мастерство молодого писателя.
Судя по заглавию, в пародии изображался гипотетический случай: что и как было бы написано мною, если бы я вздумал характеризовать в своей книге творчество Андрея Белого, о котором на самом-то деле я никогда ничего не писал.
Пародия меня не обидела. Ее высокое литературное качество доставило мне живейшую радость, тем более что к тому времени я уже успел отойти от своего первоначального стиля, над которым издевался пародист.
<…> Своей пародией он, начинающий автор, горделиво отгораживался от моего менторского влияния смехом и громко заявлял мне о том. Иначе, конечно, и быть не могло: без такого стремления к интеллектуальной свободе он не стал бы уже в ближайшие годы одним из самых дерзновенных литературных новаторов».
Справедливо отметить на этом примере благородство, педагогический талант и подлинную заботу о Литературе самого К. И. Чуковского.