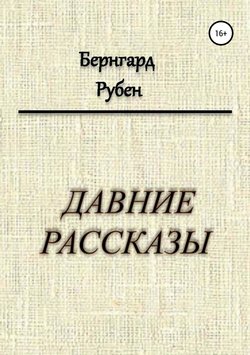Читать книгу Давние рассказы - Бернгард Савельевич Рубен - Страница 4
На кладбище
2
ОглавлениеЯ вступил в тот круговорот действий, когда чувствуешь на себе обязательство отдать умершему последний долг и бьешься над устроением могилы, в одно и то же время отчетливо понимая, что теперь отец живет только в нас – в матери и во мне, что ему это уже не нужно, что ему уже ничего не нужно, и что все это обязательно надо сделать – и для матери, и для себя, и для окружающих. Может быть, даже больше для окружающих. Нет, и для него тоже. Для всех. Хотя мы с мамой и так бы никогда не забыли это место.
Надо было поставить ограду и памятник. И я отправился в путешествие по кладбищу – не мельком, не внешним взглядом воспринимая вставшие передо мною могилы, а зная теперь, что каждая в себе схоронила, слыша и громкий плач, и беззвучный стон над каждой, и скрежет забиваемых в гроб, точно в душу близких, гвоздей. Я бродил по кладбищу, рассматривая оформление могил и выбирая для могилы отца примерный образец. Я увидел разные могилы: в оградах и без оград, и в виде клеток – закрытые со всех сторон и сверху железной сеткой, и даже в виде комнаток с глухими фанерными или еще какими-нибудь стенами, с крышей, с маленькими оконцами. В одной такой комнатке был выстлан кафелем пол, стояли беленький стол с вазой с цветами, стул, висел портрет мальчика: безутешные родители хотели создать по-земному домашний приют для духа безвременно умершего сына.
Каждый раз по дороге на могилу отца я проходил мимо памятника одному из декабристов – большой розового гранита полированный шар вдавился в продолговатый постамент. Чуть подальше высился темный памятник в форме плоской вертикально поставленной плиты с белой мраморной фигуркой девы-плакальщицы внизу у основания. Опущенное печальное личико плакальщица закрыла ладонями. Это был один из старинных типов памятника, и трудился над ним, несомненно, мастер своего дела, художник. Плита черного мрамора символизировала как бы отвесную стену, скалу, о которую разбились мечты, надежды – жизнь. Черный мрамор обрамлялся белыми полуколоннами, посеревшими ныне от времени. Полуколонны эти казались теперь лишними, но тогда был такой стиль, требовалась законченность декорации.
По другую сторону дорожки я привычно уже поворачивал к черной трубчатой с броским позолоченным орнаментом ограде и смотрел на крупный памятник в ней – обелиск с именем полковника, Героя Советского Союза. Рядом, в той же останавливающей взгляд ограде, приютился маленький цветник с железным посеребренным крестом, могилка матери полковника, аккуратная, скромная, с простыми, но милыми анютиными глазками. Я вспоминал Есенина и его «Письмо к матери», проходя около этого места. Полковник погиб «при исполнении служебных обязанностей» уже в мирное время, спустя десять лет после конца Великой Отечественной войны, и старушка-мать недолго пережила сына.
Совсем недалеко от могилы отца, у самой дороги лежал, как огромный сундук, обтесанный и полированный прямоугольный камень, высотою метра полтора и длиною около двух с половиной метров. Камень был широк, на верхней грани высечен был крест, а по бокам – надписи:
«Здесь покоится тело крестьянина Владимирской губ. Покровского уез. дер. Ветчей Александра Гавриловича Боброва, скончавш. 16 августа 1879 г. 65 лет».
«И супруга его Iустиния Михайловна Боброва скончалась 22 января 1881 г. 65 лет».
– Из-под такого камушка не поднимешься, – бодро сказал какой-то гражданин, остановившись около меня, когда я впервые внимательно и не спеша читал надписи.
– Оттуда и без камушка не поднимешься…
Прохожий отошел, а я еще постоял тогда у могилы Бобровых. Я подумал о дорогой цене, которую надо было заплатить крестьянину за такое мраморное надгробие. Потом я понял, что выходец-то отбыл из крестьян, так сказать, крестьянского звания, а выбился в купцы, да купцы, верно, богатые. Иначе лежать бы ему под деревянным крестом на деревенском кладбище в Покровском уезде рядом со своими земляками. Подумал я и о том, что жена его умерла вслед за ним, как только ей тоже сравнялось 65 лет, будто и в смерти была не вольна, не смела пережить своего хозяина и кормильца, а вероятнее всего и сама считала истово, что так и быть должно и задерживаться здесь ей уже ни к чему, там ждет ее душу родственная душа, ее свет, ее судьба – как бы ни держал он ее в здешней жизни, справедливо ли, хоть и строго, или обижал…
Иногда я шел другой дорогой – через братские могилы погибших в эту войну солдат, офицеров и ополченцев.
На небольшой треугольной площадке расположилось больше пятидесяти одинаковых памятников. В каждый памятник с лицевой стороны вделана была белая мраморная доска, на каждой доске – около тридцати фамилий и внизу дата: «1941 год». Посредине площадки – черный высокий обелиск с надписью:
«Вечная слава бойцам и командирам Советской Армии, павшим смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».
Как-то зимой я увидел здесь старика и старуху. Старик был в коротеньком пальтеце, в высоких старых валенках. Цвет пальто определить уже было трудно, и воротник совсем поистерся. Старик стоял с непокрытой лысой головой, и давно не стриженые волосы на висках и затылке шевелились от ветра. Старуха была в черном платке и в ватной жакетке поверх темного платья. Сухими неподвижными глазами смотрела она на белую мраморную доску со столбиками фамилий, отыскав одну-единственную, фамилию сына.
Потом старик перекрестился, подошел к памятнику, потрогал дрожащей морщинистой рукой серый камень, к которому прикреплялась мраморная доска, и, согнувшись, поцеловал этот надгробный камень братской могилы. Жена его перекрестила могилу и что-то беззвучно прошептала.
Отойдя назад несколько шагов, старик надел шапку, и пошли они по дорожке вдвоем – старик чуть впереди, может по привычке, а может, чтоб старуха слез не видела…
Я оглядел еще раз небольшую треугольную площадку – длиной метров двадцать-двадцать пять. Сколько таких мест разбросано по нашей земле войной? И что скрыто за каждой строчкой-фамилией?.. И сколько вдов и сирот, стариков и старух приходят на братские кладбища?