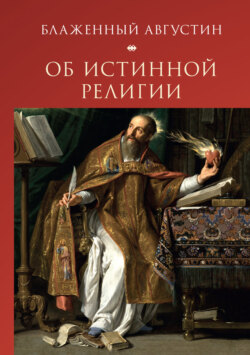Читать книгу Об истинной религии - Блаженный Августин - Страница 12
Против академиков
Книга третья
Состязание первое
Оглавление1. Когда мы на следующий день сидели вместе в банях (было пасмурно, что отбивало всякую охоту идти на луг), я начал свою речь так:
– Думаю, всем присутствующим ясно, о каком предмете мы будем вести наши рассуждения. Но, прежде чем приступлю к изложению своих воззрений, я попрошу вас выслушать о надежде, о жизни, о назначении нашем, от предмета не уклоняющееся. Я полагаю, что искать истину – не пустая или излишняя, но необходимая и самая важная наша обязанность. В этом мы согласны с Алипием. Ибо прочие философы думали, что их мудрецы находили ее, академики же о своем мудреце говорили, что он должен был с величайшим усилием ее искать, и что он делал это Усердно. Но так как она или скрывалась, будучи чем-либо заслонена, или не выделялась, будучи смешанной с чем-то Другим, то за правило жизни он принимал то, что находил вероятным или истиноподобным. Это вытекало, как следствие вашего прежнего рассуждения. Ибо, коль скоро один Утверждал, что человек становится блаженным, когда истина найдена, а другой – когда она только тщательно ищется, то никто из нас не сомневается, что мы не должны ничего ставить выше этой обязанности. Поэтому скажите пожалуйста, какой я, по вашему мнению, провел вчера день? Вам по крайней мере удалось предаться своим занятиям. Ибо ты, Тригеций, услаждался творениями Вергилия, а Лиценций имел досуг сочинять стихи, к которым пристрастился так, что ради него-то главным образом я и счел нужным вступить в этот разговор, чтобы философия (ибо этому теперь уже самое время) взяла и утвердила за собою в его душе верх не только над поэзией, но и над всякой другой наукой.
2. Но скажите пожалуйста, не пожалели ли вы меня, который, отправившись накануне в постель с мыслью встать только для решения отложенного вопроса и ни для чего другого, встретил столько неотложных дел по хозяйству, что, занятый ими всецело, едва мог уделить для своего роздыха два последние часа дня? Поэтому моим всегдашним мнением было, что человеку мудрому не нужно ничего, но чтобы сделаться мудрым, весьма необходима фортуна. Но Алипий, может быть, придерживается иного мнения?
На это он ответил:
– Мне в точности неизвестно, сколько прав ты усвояешь фортуне. Если для того, чтобы презирать фортуну, ты считаешь нужной саму же фортуну, то с мнением твоим согласен и я. А если ты фортуне отводишь единственно то, что можешь лишь при ее благосклонности удовлетворить необходимым телесным нуждам, то я полагаю иначе. Ибо в таком случае и не мудрому еще, а только жаждущему мудрости, можно и при противодействии фортуны, и вопреки ее воле брать то, что признаем необходимым; или же придется допустить, что она господствует над всей жизнью мудрого, так как и сам мудрый не может не нуждаться в том, что необходимо для тела.
– Итак, ты утверждаешь, – говорю я, – что фортуна необходима имеющему любовь к мудрости, но в отношении к мудрому это отрицаешь.
– Делу не вредит повторение того же, – отвечал он, – но и я, в свою очередь, спрошу тебя: думаешь ли ты, что фортуна чем-либо содействует к своему собственному презрению? Если ты думаешь так, то я скажу, что жаждущий мудрости всячески нуждается в фортуне.
– Думаю, что именно благодаря ей он сделается таким, что будет в состоянии презирать ее; и это не представляет никакой несообразности. Ибо точно так же, когда мы малы, нам необходимы материнские сосцы, которые делают так, что после мы без них можем жить и здравствовать.
– Наши мнения, – отвечал он, – если мы друг друга понимаем, совпадают. Но кому-нибудь, может быть, кажется необходимым точнее обозначить, что как фортуну, так и сосцы заставляют нас презирать не сами сосцы или фортуна, а нечто другое.
– Не велик труд, – говорю я, – употребить и другое сравнение. Как никто не может переплыть Эгейское море без корабля, или какого-либо иного перевозочного средства, или вообще (не исключая и самого Дедала) без каких-либо приспособленных к этому орудий, или без какой-либо сокровеннейшей силы, хотя бы, предполагая достигнуть только этого, он готов был бросить и презреть все то, посредством чего перебрался, так точно и всякому, кто пожелал бы достигнуть гавани мудрости и стать на твердую и спокойную почву, по моему мнению необходимо для достижения желания иметь фортуну, потому что он не будет в состоянии это сделать, если будет, к примеру, слеп и глух, а это находится во власти фортуны. Но когда он достиг этого, то хотя бы и казался нуждающимся в некоторых вещах, относящихся к телесному здоровью, несомненно нуждается в них не для того, чтобы быть мудрым, а для того, чтобы жить между людьми.
– А по моему мнению, если кто слеп и глух, тот даже вправе презирать и изыскание мудрости, и самую жизнь, ради которой мудрость ищется.
– Однако, коль скоро наша жизнь находится во власти фортуны, и так как только живой человек может быть мудрым, то не следует ли признать, что нужно ее покровительство, чтобы нам дойти до мудрости?
– Но если мудрость, – заметил Алипий, – необходима только живущим, а как только жизнь завершена, в мудрости нужды более никакой нет, то в отношении к продолжению жизни и фортуны не боюсь нисколько. Ибо желаю мудрости постольку, поскольку живу, а не постольку хочу жить, поскольку желаю мудрости. Поэтому, если фортуна отнимет у меня жизнь, она уничтожит и причину искать мудрость. Итак, я не имею ничего, из-за чего бы, чтобы быть мудрым, я желал бы покровительства фортуны или страшился бы ее препятствий. Ну, что скажешь на это?
– А разве ты не думаешь, что любящему мудрость фортуна может создавать препятствия к достижению мудрости, хотя бы самой жизни у него и не отнимала?
– Нет, не думаю, – отвечал он.
3. – Я желал бы, – говорю я, – чтобы ты объяснил, в чем, по твоему мнению, различие между мудрым и философом?
– Я полагаю, – отвечал он, – мудрый от имеющего любовь к мудрости разнится только тем, что у мудрого есть некоторое постижение тех вещей, к которым у имеющего любовь к мудрости одно только страстное стремление.
– А что это за вещь такая? – спрашиваю я. – Мне, например, представляется между ними лишь то различие, что один знает мудрость, а другой еще только желает знать.
– Если ты это знание представляешь себе в скромных границах, то ты сказал то же самое, только яснее.
– Какие бы границы я ему не определял, – признано всеми, что знание не может быть знанием вещей ложных.
– На этот раз, – отвечал он, – мне показалось нужным предпослать оговорку, чтобы в случае необдуманного моего согласия твоя речь не вела против меня легких атак по таким основным вопросам.
– Действительно, – говорю я, – ты не оставил мне места, куда я мог бы направить свою атаку. Если не ошибаюсь, мы ведь подошли уже к самому концу, который я давно подготовляю. Итак, как ты тонко и правильно выразился, между имеющим любовь к мудрости и мудрым существует лишь то различие, что первый любит, а второй уже усвоил учение мудрости (потому-то ты и решился употребить известное выражение – “некоторое усвоение”); но усвоить учение не может тот, кто ничего не изучил, не изучил же ничего тот, кто ничего не знает, а знать ложного никто не может. Значит, мудрый знает истину – ибо сам ты признал принадлежность его душе учения мудрости.
– Не знаю, до какой степени я был бы бесстыден, – сказал он, – если бы захотел отрицать, что признал в мудром освоение с изысканием вещей божественных и человеческих. Но почему тебе кажется, что невозможно освоение с нахождением лишь вероятного, я не понимаю.
– Но ты соглашаешься со мною, что ложного никто не знает?
– Охотно.
– В таком случае, – говорю, – неужто ты готов утверждать, что мудрый не знает мудрости?
– Зачем ты все сводишь к тому положению, что ему может только казаться, что он знает мудрость?
– Дай, – говорю я, – мне свою руку. Если помнишь, я обещал вчера сделать именно это, и очень рад, что не сам вывел это заключение, а получил его вполне готовым от тебя же. Я говорил, что между мною и академиками существует то различие, что им казалось вероятным, будто истину познать нельзя, а мне представляется, что хотя она и не найдена еще, однако может быть найдена мудрым. Теперь же, отвечая на мой вопрос, – неужели мудрый не знает мудрости, – ты сказал: “ему кажется, что знает”.
– Но что же из этого следует? – заметил он.
– А то, – говорю я, – что если ему кажется, что он знает мудрость, то ему не кажется, что мудрый не может ничего знать. Или, если мудрость – ничто, подтверди это доказательствами.
– Я думал, что мы действительно подошли к концу; но в то самое время, когда ты протянул руку, я вижу, что мы разъединены как нельзя более и разошлись весьма далеко. А именно: вчера казалось, что между нами возник спор лишь о том, может ли мудрый достигнуть познания истины; ты утверждал это, я отрицал. Теперь же я сделал тебе, на мой взгляд, единственную уступку, что мудрому может казаться, что он постиг мудрость в вещах вероятных. Но думаю, никто из нас не сомневается, что под этой мудростью я понимаю исследование вещей божественных и человеческих.
– Из того, что ты пытаешься увернуться, – улыбнулся я, – еще не следует, что тебе это удалось. Мне кажется, что ты споришь уже ради самого спора. И Так как хорошо знаешь, что эти юноши еще с трудом могут различать остроту и тонкость в суждениях, то и пользуешься неопытностью судей, чтобы говорить сколько тебе заблагорассудится, не встречая ни с чьей стороны неодобрения. Ведь незадолго до этого, когда я спрашивал, знает ли мудрый мудрость, ты сказал, что ему кажется, что знает. Но кому кажется, что мудрый знает мудрость, тому не может казаться, чтобы мудрый ничего не знал. Против этого спорить нельзя, разве кто решится утверждать, что мудрость есть ничто. Из этого вышло, что и тебе кажется то же самое, что и мне; мне кажется, что мудрый нечто знает; то же, полагаю, и тебе, который сказал, что мудрому кажется, что мудрый знает мудрость.
– Думаю, что упражнять свои способности желаю не столько я, сколько ты, и весьма этому удивляюсь, так как ты не имеешь нужды в каком-либо упражнении по данному предмету. Может быть я и слеп, но мне кажется, что есть различие между тем, чтобы казаться себе знающим, и тем, чтобы знать, между мудростью, полагаемою в исследовании, и истиной. И то и другое нами говорилось; но каким образом все это объединяется, я не понимаю.
Тогда я, так как нас позвали уже к обеду, сказал:
– Я недоволен, что ты так упрямишься, потому что или оба мы не знаем, что говорим, и в таком случае нам нужно постараться снять с себя такой позор, или познает один из нас, что также оставить без внимания и пренебречь было бы постыдным. Поэтому в послеобеденные часы сойдемся снова. Ибо в то время, как мне казалось, что между нами все покончено, ты пустил в дело даже кулаки.
На это все рассмеялись, и мы отправились домой.