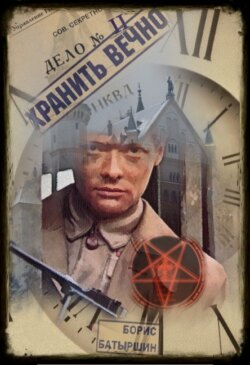Читать книгу Хранить вечно. Дело № 2 - Борис Батыршин - Страница 7
Часть первая. «Времена не выбирают…»[1]
VI
ОглавлениеДень седьмое ноября, красный день календаря. Здесь это стихотворение ещё не написано, но я-то отлично его помню. У нас, в коммуне имени тов. Ягоды сегодня торжественное построение с митингом, транспарантами и бодрыми маршами, которые играл наш, коммунарский духовой оркестр под непосредственным руководством завклуба Тяпко. Всеобщий выходной, что на производстве, что на учёбе; после обеда праздничный концерт, подготовленный силами коммунарской самодеятельности, после которого демонстрировался новый фильм – «Сам себе Робинзон», нравоучительная история с моралью на тему ложной романтики, отвлекающей советского пионера от учёбы. Вместо ужина праздничное застолье с конфетами и пирогами, после которого – ура, танцы!
Оркестр – на этот раз уже другой, приглашённый из Харькова из тамошнего музыкального техникума – чередует вальсы с чарльстонами и чем-то шибко народно-украинским. Коммунары неумело выделывают па в актовом зале, освобождённом по такому случаю от лишней мебели, а я… у меня грустное событие. Завтра Елена моя свет-Андреевна уезжает в Москву: «вот и всё, милый Алёшенька, наши дела здесь закончены, начальство требует назад. Может, когда ещё и свидимся?..»
А пока – бурное прощание на весь вечер в её тесной комнатёнке, во флигеле «особого корпуса», предназначенном для проживания сотрудников. Раньше мы избегали «светиться» столь беспардонно, предпочитая свидания «на выезде», на нейтральной территории, но напоследок всё же сподобились нарушить этот запрет. В результате, в отрядную спальню я попал лишь часа в три ночи, забравшись в главный корпус через предусмотрительно оставленное приоткрытым окно вестибюля первого этажа. Впрочем, сегодня вечером строгая процедура отбоя скомкана – праздник же!
…И как только сил хватило на этот сумасшедший день и не менее сумасшедший вечер? Вот что значит – молодость…
Хватило, как выяснилось, не всем. Вряд ли стоит подозревать спецкурсантов в злоупотреблении праздника горячительными напитками, приведшими к частичной потере координации и нарушению моторики, однако факт остаётся фактом: наутро, после завтрака, на занятиях физподготовкой пирокинетик Семён сорвался на полосе препятствий с бруса и сломал запястье. Это, без всякой иронии, болезненный удар по нашему спаянному боевому коллективу – в течение последних полутора недель мы перешли на групповые занятия с использованием «особых способностей» и, надо сказать, добились немалых успехов. Занимались обычно по трое: Татьяна упражнялась со своей биолокационной загогулиной, разыскивая припрятанные инструкторами предметы, Марк или Семён прикрывали её – один в постоянной готовности отпугнуть появившегося из укрытия пса или изображающего супостата красноармейца с наганом, второй – прожигая фанерные силуэты врагов файерболами. Я же осуществлял «парапсихологическую поддержку», а иногда и присоединялся к Семёну. На занятия мне выдавали «Маузер» или «Томпсон», и мы соревновались, кто первым поразит поднявшуюся из травы мишень – упражнения проходили на открытом воздухе. Получалось это у нас очень даже неплохо, и с каждым разом всё лучше, но теперь остаётся только вариант с Марком, который, как ни крути, а по огневой мощи уступает нашей с Семёном боевой связке. Впрочем, и в этом есть свои сильные стороны: Марк наловчился не только обращать неприятеля в бегство, насылая импульсы безотчётного страха, но и предвидеть его появление. После чего вступал в дело мой «Томми-ган», и очередной возникший из засады статист нарывался сразу и на сгенерированную Марком волну ужаса, и на длинную очередь «чикагской швейной машинки» – холостыми, разумеется…
А всё же – к чему нас так старательно готовят? Моя дражайшая «психологиня» так ничего и не объяснила насчёт своей (весьма умело обставленной, надо сказать) проговорки той ночью в харьковской гостинице. Вот и гадай теперь, поливая свинцом фанерные мишени, что она на самом деле имела в виду?..
А Татьяна на меня дуется. Заметила, как я вчера исчез с танцев – и теперь изображает равнодущие, а ко мне обращается исключительно по делу, официальным, сухим, невыносимо высокомерным тоном. Так-то: сколько не старайся, сколько не прячь шило своих мелких грешков, а в здешнем дырявом, прореха на прорехе, мешке всё равно ничего не утаишь…
«…Поваренная соль или хлористый натрий встречается в твёрдом состоянии, в виде мощных пластов, залегающих на некоторой глубине под землёй. Подобные залежи есть у нас на Урале, на Украине, на Кавказе, в Средней Азии, Сибири и других местах. Каменная соль представляет собой кристаллическое бесцветное вещество, иногда подкрашенное примесями…»
После сентябрьского визита в коммуну Барченко нас, спецкурсантов освободили от работы на заводе. Но к школе это, ясное дело, не относится – разве что, к урокам иностранного языка, который мы усваивали в «особом корпусе» совсем в других объёмах и на другом уровне. А вот общеобразовательные предметы изволь посещать, потому как советский агент-боевик, да ещё и с парапсихологическим уклоном, должен быть широко образован и примерно эрудирован на зависть наймитам империализма.
«…добывание каменной соли производится двумя способами. Один способ (сухой) заключается в том, что к залежам прокладывают шахты и штольни, через которые соль извлекают наверх. Каменная соль очень прочна, поэтому шахты не требуют дополнительных креплений. Полученная соль измельчается на особых мельницах…»
Это называется «зубрёжка», излюбленный педагогический приём преподавателей казённых гимназий, земских школ и реальных училищ ещё со времён царя Гороха. Мутная волна реформ в педагогике (порой весьма спорных, вроде «комплексного преподавания» или «лабораторного изучения истории»), прокатившаяся по просторам СССР, оставила свой след далеко не везде. Например, в нашей коммуне, как и в макаренковской колонии имени Дзержинского, основные, базовые предметы предпочитали осваивать по старинке, по старым, дореволюционным учебным пособиям, переизданным с учётом новой орфографии и некоторых советских реалий. Вот, к примеру, нелюбимая мною ещё в те, другие школьные годы химия – к гадалке не ходи, текст главы VIII «Галоиды» слово в слово слизан со старорежимного учебника. И в самом деле, к чему менять то, что проверено временем? Какие бы тектонические перемены не произошли с обществом и государством – поваренная соль останется поваренной солью, и ничем больше.
«…за границей огромные залежи каменной соли находятся в Германии (Стассфурт), Польше (Галиция) и других местах…»
А ведь верно, подумал я: Галиция здесь – пока ещё и Краков с соляными шахтами в его окрестностях включает, и это самая, что ни на есть, заграница, как и при царе-батюшке. И только через десять лет, в тридцать девятом она войдёт в состав УССР благодаря железной поступи сталинских дивизий – но уже без соляных копей, сосредоточенных, по большей части, в окрестностях Кракова. И разбираться с последствиями этого геополитического решения придётся бестолковым потомкам, лет эдак через семьдесят с гаком – если считать от первого, «помаранчевого» майдана имени пана Ющенко и пани Тимошенко, страдавших, видать, как и прочие галичанские рагули, от врождённого йододефицита, роковым образом сказывавшегося на их интеллектуальных способностях?
Что до соляных копей в Страссфурте – то мог ли кто сейчас, на двенадцатом году пролетарской революции, вообразить, что наследники дружественной СССР Веймарской Германии будут сотнями клепать в этих самых соляных копях реактивные самолёты-снаряды и баллистические ракеты для обстрела враждебного Лондона? А делаться это будет руками тысяч советских военнопленных, чья общая на всех судьба – упокоиться в братских могилах, обыкновенных ямах, вырубленных в толще пластов того самого кристаллического хлористого натрия, которому и посвящён сегодняшний наш урок?
Голос учительницы выводит меня из раздумий.
– Давыдов! Повтори, что я сейчас прочитала!
– Сборочный завод ракет «ФАУ»… простите, залежи каменной соли в Германии находятся близ города Страссфурт!
«Химичка» (она же преподаёт нам и физику и естествознание) недоумённо хмурится.
– Какие ещё ракеты? Приключенческих книжек, что ли, начитался? Замусорили библиотеку фантастическим хламом, житья от него нет…
Меня так и тянуло заявить, что упомянутый «фантастический хлам» находится там с прямого указания уполномоченных сотрудников некоего ведомства, обозначаемого четырёхбуквенной аббревиатурой. Но, разумеется, я благоразумно промолчал: всё равно ведь не поверит, а предъявлять в качестве аргумента «Аэлиту», украшенную грозным лиловым штампом, было бы верхом легкомыслия.
– Ступай-ка ты, Давыдов, к доске. – огласила приговор педагог. – Посмотрим, хватило ли тебя на то, чтобы повторить материал прошлого урока… Чем мы занимались, поведай классу!
Я тяжко вздохнул и, сопровождаемый сочувственными шепотками товарищей по несчастью, поплёлся по проходу между партами.
Тропинка просочилась сквозь кустарник – сплошь чёрные, лишённые листьев, сырые после утреннего дождя прутья – и вскарабкалась по невысокому откосу на обочину шоссе. Справа от нас, если пройти примерно полкилометра, ответвляется вправо грунтовка, выводящая в обход кленовой рощи к знакомым воротам с надписью «Детская трудовая коммуна имени тов. Ягоды». Мы же воспользовались знакомой мне тропкой на задах «особого корпуса» – помнится, как раз по ней выводил меня для беседы тет-а-тет Гоппиус, и по ней же я не раз выбирался с территории коммуны, не желая попадаться кому-то на глаза. Например, когда ещё в августе отправлялся на встречу с «дядей Яшей», да упокоит бог Авраама, Исаака и Иакова его мятежную атеистическую душу…
В противоположную сторону шоссе убегало к невысокой гряде холмов, у основания которой змеилась тощая речушка. До перекинутого через неё бревенчатого моста было отсюда километра полтора, а справа, там, где рыжел в пожухлой траве съезд, стояли возле воды фургоны, паслись лошади, мелькали пёстрые женские юбки и доносился собачий брёх.
– Это же цыгане! – ахнула Татьяна. – Целый табор! Давайте подойдём, посмотрим, а?
Мы отправились на прогулку после обеда, когда выяснилось, что плановые занятия в «особом корпусе» отменяются. Как всегда, никаких объяснений не последовало – помощник Гоппиуса просто поставил нас в известность, посоветовав провести свободное время за «самоподготовкой». Спецкурсанты, обрадованные внезапно привалившим счастьем, разлетелись по территории – ловить один из редких сухих, не слишком холодных ноябрьских деньков. Я собирался последовать их примеру, когда ко мне подошла Татьяна и предложила прогуляться. В глазах её была непреклонность пополам с укором – «попробуй только отказаться!» Я и сам догадывался, что объяснения не избежать и принялся лихорадочно выдумывать какое-нибудь срочное дело, когда на помощь мне пришёл Марк.
Вот что значит настоящий друг! Он, как ни в чём не бывало, заявил: «Вижу, вы в лес собрались? Ну, так я с вами..» – всем своим видом демонстрируя, что отказ не принимается. Татьяна сразу потускнела, недовольно пожала плечиком, но пошла вслед за нами, к знакомой дыре в проволочной сетке, заменяющей «особому корпусу» забор.
И вот – цыгане, да ещё цельный табор! Признаться, я не люблю цыган, никогда не знаешь, чего от них ждать. К тому же, в детстве имел место один неприятный эпизод, когда… впрочем, это неважно. У моей спутницы, наоборот, к «ромам» отношение самое, что ни на есть, трепетное – после того, как она сопливой девчонкой была взята в табор и спаслась от неминуемой голодной смерти, собиравшей тогда обширную дань по всему Поволжью. И, конечно, главное – именно во время её житья с этим кочевым народом в ней открылись те необычайные способности, что привели её в итоге в программу доктора Гоппиуса. Понять бы ещё, благодарить за это, или вовсе даже наоборот?..
Марк приложил ладонь козырьком к тюбетейке и принялся с видом первооткрывателя рассматривать цыган. Я молчал, не желая затевать спор. В конце концов, если хочется ей пообщаться с цыганами – пусть себе! Извечных цыганских штучек с гипнозом и заговариванием зубов я не опасался – ещё в той, прежней жизни имел случай убедиться, что на меня всё это действует слабо, да и наука учителя Лао приучила нас к самоконтролю. Что до опасностей иного рода, то сзади, за поясом, ждал своего часа «браунинг». Да и не та публика ромалы, чтобы опасаться их всерьёз – здесь, в сравнительно мирном 1929-м году, в окрестностях украинской столицы, на обочине шоссе, по которому нет-нет, да и проезжают то в одну, то в другую стороны, автомобили и скрипят короткие, на три-пять телег, обозы местных чумаков.
– Ладно, если хочешь, пошли. – согласно кивнул я. – Только уговор: на всё про всё не больше часа. Мне ещё перед ужином надо зайти в библиотеку, и не хотелось бы упрашивать Клаву отпирать дверь…
Табор расположился недалеко от съезда с шоссе, там, где огрызок грунтовки упирался в низкий берег реки. Здесь, надо полагать, был устроен водопой для лошадей проходящих мимо обозов и стад, которые перегоняли в город, на бойни.
Мужчины выпрягали лошадей, заводили их в реку, давая напиться; в стороне уже дымили костры и хлопотали возле исходящих паром казанов цыганки, а мальчишки наполняли овсом полотняные торбы и цепляли на мокрые после водопоя лошадиные морды. Фургоны, однако, никто не разбирал; не делали попыток ставить шатры или ещё как-нибудь устраиваться на ночлег. Видно было, что они здесь не задержатся – дадут отдых лошадям, сами пообедают – и дальше, «за цыганской звездой кочевой», как написал когда-то Киплинг и споёт спустя полвека с лишним с широкого экрана Никита Михалков…
В общем, табор жил своей кочевой жизнью, никак не связанной, вроде бы, с прохожей, проезжей или просто любопытствующей публикой. На нас, тем не менее, обратили внимание. Сначала это были две здоровенные косматые псины – на нас с Марком они посмотрели недоверчиво, рыча и демонстрируя жёлтые слюнявые клыки, а вот к Татьяне чуть ли не кинулись подлизываться с радостным повизгиванием. Потом из-за фургонов появилась кучка детишек, возглавляемая дорожной тёткой лет пятидесяти, в многослойных пёстрых юбках и столь же многослойных ожерельях из цветных камушков, стекляшек, и бисера на шее и целой россыпью массивных, кажется, позолоченных колец с яшмой, агатом и бирюзой. Она цыкнула на собак и с ожиданием уставилась на пришельцев, переводя взгляд чёрных, как греческие маслины, глаз, с меня на Татьяну и обратно, напрочь игнорируя Марка. Я покосился на спутницу – ну и что она теперь будет делать?
Прояснить этот вопрос нам не дали. Не успела Татьяна поздороваться (мы с Марком знали, что она немного владеет влашским диалектом цыганского языка, распространённого на Украине), как из-за спины матроны выскочила ещё одна женщина – гораздо моложе, лет не больше двадцати пяти, не в пример субтильнее, и не столь обильно увешанная побрякушками – и протарахтела, обращаясь ко мне, вечное цыганское «А позолоти-ка ручку, красивый, всю правду расскажу!»
…кто бы сомневался, брезгливо подумал я, и совсем было открыл рот, чтобы ответить резкостью, но тут таборская матрона решительно отодвинула выскочку толстенной, словно окорок, ручищей и выдвинулась вперёд. Теперь она смотрела прямо на меня, глаза в глаза, кажется, даже не мигая.
– Не нужны ему твои предсказания, Гита. – прогудела она низким в хрипотцу голосом. – Он и сам про себя всё знает, а тебе такое и не снилось. И, если не будешь совать нос, куда не надобно – то, даст бог, и не приснится, проживёшь спокойную жизнь…
Говорила она по-русски очень чисто, практически без акцента. Тёзка героини индийского фильма немедленно стушевалась, растворилась в набежавшей толпе цыганят. Эти тоже перестали галдеть, подались назад и взирали на говорящую с почтением – похоже, подумал я, готовится что-то из ряда вон выходящее. По меркам табора, разумеется. Вон, и мужчины подтягиваются – останавливаются шагах в десяти, складывают руки на груди и молча наблюдают за происходящим.
На миг мне стало не по себе – особенно, когда я увидел длинный нож в расшитых цветными ремешками ножнах, заткнутый за кушак одного из подошедших. Рука невольно ощупала рукоятку браунинга под юнгштурмовкой.
– Револьвер-то не трожь, никто здесь вас не обидит. – отреагировала на мой жест цыганская матрона. – Нету среди ромов безумцев, которые на такого, как ты, нож подняли бы. Но гадать я тебе не буду, ни за медь, ни за серебро, ни за золото, даже не проси!
– Да я, вроде, и не собирался. – сумел выдавить я. – А что вы имеете в виду, когда…
– А вот подруге твоей, так и быть, погадаю, и такое скажу, чего ей никто не скажет больше. – продолжала цыганка, не обращая внимания на мои слова. – Да ты её саму спроси, она знает, жила с нами. Верно говорю, красавица?
Я покосился на Татьяну – та кивнула. Вид у неё был встревоженный, напряжённый.
Я хотел извлечь из кармана шаровар пару пятиалтынных, но в последний момент неожиданно для себя передумал и полез двумя пальцами в нагрудный карман юнгштурмовки. Там со времён последней нашей поездки в Харьков остался масляно-жёлтый кружок николаевского пятирублёвика. Цыганка, увидав золотую монету, не высказала ни радости, ни даже удивления. Проворно сгребла её с моей руки, после чего взяла протянутую Татьянину ладошку и несколько минут вглядывалась в её линии. Табор, казалось замер, ожидая результатов священнодействия. Даже собаки перестали брехать, лишь фыркали и хрустели овсом в торбах лошади.
– Долгая дорога тебе предстоит, красивая. – вынесла, наконец, вердикт гадалка. – По морю будешь плыть, по пустыне идти, по облакам лететь. А в конце окажешься во дворце чужом, каменном, что в горах стоит. И живут в том дворце люди без души, в белых плащах с изломанными крестами. Ты тех людей берегись, потому как они уже и не люди вовсе – а пуще всего берегись чёрной стены!
Она замолчала. По рядам цыган прокатился выдох – похоже, всё это время они, как и мы с Марком, стояли, затаив дыхание. Татьяна была белее бумаги, губы у ней дрожали. Как только цыганская матрона отпустила её ладошку, девушка торопливо спрятала её за спину и судорожно сжала в кулачок.
– Теперь ступайте прочь. – сказала гадалка. – А я буду молиться, чтобы дороги наши больше не пересекались. Непростые вы люди, и дела вокруг вас творятся непростые – а мы, ромалы, народ мирный, ни к чему нам всё это. Оно и вам ни к чему, да только разве ж вы меня послушаете?..
Обратно в коммуну мы шли молча. Татьяна, стащив с шеи платок, нервно тискала его в пальцах, а я пытался размышлять над словами цыганки – но добился только того, что голова разболелась тупой, ноющей, отдающейся в висках болью. Марк косился на нас с Татьяной, словно мы ни с того ни с сего перекинулись, оборотившись какими-то диковинными лесными чудо-юдами, и только возле самой ограды «особого корпуса» решился, наконец, заговорить:
– Слушай, Лёха, а что это ты про себя такое знаешь, что её так напугало? Да так, что по её словам ни один цыган нож на тебя не поднимет! С чего бы это, а?
Я пожал плечами.
– А мне почём знать? Ну наплела и наплела, слушать ещё всякий вздор… Если интересно – вернись, спроси, они, наверное, ещё там.
От этого предложения Марка явственно передёрнуло.
– Нет уж, спасибо, как-нибудь обойдусь. Но, она, думается мне, всё же права: непростые люди вы с Татьяной!
– А то ты простой! – буркнул я, приподнял угол сетки, скрывающий прореху в ограде, и посторонился, пропуская вперёд Татьяну. – Все мы тут… непростые. И вообще, полезайте уже. Не пойду я в эту библиотеку, сразу на ужин. Не знаю как у вас, а мне после всего этого жрать охота прямо-таки феерически…