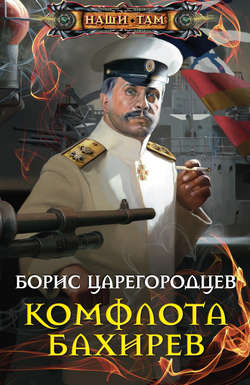Читать книгу Комфлота Бахирев - Борис Царегородцев - Страница 5
Глава 2. Кавказский фронт
ОглавлениеЯ подводил итоги первых двух месяцев своего пребывания в должности командующего Черноморским флотом. После холодного приема адмиралом Эбергардом в самом начале нашей встречи расстались мы с ним по-дружески. Далее по протоколу у нас был торжественный обход кораблей флота, которые в это время находились в Севастополе. Затем адмирал Эбергард спустил свой флаг на «Императрице Марии», я поднял свой. Проводил как полагается бывшего командующего, пожелал ему всего наилучшего на новом месте службы, в свою очередь получил такие же пожелания. Он отбыл. С этого момента я вступил в должность командующего.
Мое назначение совпало с активными действиями на Кавказском фронте. В этот момент русская армия проводила наступательную операцию на Эрзерум. Перед Черноморским флотом была поставлена задача обеспечить сохранность транспортных перевозок для нужд Кавказской армии и содействовать приморскому флангу наступающих войск.
Эрзерум был ключевой точкой в Восточной Турции, отсюда уходили дороги и на юг в Сирию и Ирак, и на восток в Персию и Россию. А также к побережью Черного моря и, конечно, в глубь самой Турции. 29 января Кавказская армия под командованием генерала Юденича в составе трех корпусов решила нанести упреждающий удар по 3-й турецкой армии, которой на тот момент командовал Махмут Камиль-паша. Наша разведка выяснила, что тут появился сам военный министр Энвер-паша, а это значит, турки к чему-то готовятся по весне. Противник не ждал, что русские начнут свое наступление, да еще зимой в горах, где все завалено глубоким снегом и никаких дорог, а только редкие тропы, по которым не всякая коза пройдет. Турки сидели за стенами фортов, которые прикрывали Эрзерумскую долину, в полной уверенности, что до весны им русских опасаться нечего. А весной они сами планировали начать наступление на наши позиции с целью вытеснения русских с Кавказа. Для этого сюда перебрасывались галлиполийские герои, которые всего месяц назад накостыляли гордым парням из Туманного Альбиона при Дарданеллах.
Главная система эрзерумских укреплений представляла собой труднопроходимые в зимнюю пору горы, местами они поднимались на более чем двухкилометровую высоту. Мощные фортификационные сооружения в виде многоярусных каменных башен с амбразурами для орудий и пулеметов давали возможность кругового обстрела. И таких фортов было два десятка. Между фортами находились позиции с дополнительными орудийными батареями и пулеметными гнездами. Спереди форты прикрывались рвами и валами с многочисленными рядами колючей проволоки, и все это простреливалось перекрестным огнем. Общая протяженность оборонительных позиций составляла сорок верст.
При начале штурма Юденич решил использовать фактор внезапности и атаковать турецкие позиции ночью под прикрытием метели. Передовые атакующие русские части в маскхалатах становились невидимыми врагу. Ожидания Юденича оправдались. Турки, не видя атакующие русские части, вынуждены были вести огонь вслепую, наугад, практически не причиняя вреда. Русские солдаты ворвались на позиции противника перед фортами и сразу же приступили к их захвату. Два дня наши доблестные воины штурмовали форты, прежде чем смогли их занять, потом еще два дня отбивались от бешеных атак турок, желающих их взять обратно, но из этого ничего не вышло. Первым спустился в Эрзерумскую долину 15-й Кавказский стрелковый полк полковника Запольского. Падение Каргабазарского плато, зимой недоступного даже для коз, ошеломило командование и войска турецкой 3-й армии и ознаменовало победное завершение Эрзерумского сражения. В ночь на 3 февраля началось преследование турок по всему фронту, и в этот же день одна из частей русской армии вступила в потрясенный Эрзерум.
Первым ворвался в Эрзерум на плечах бежавшего врага есаул Медведев с конвойной сотней штаба 1-го Кавказского корпуса. В боях за город отличился 153-й пехотный Бакинский полк, он взял форт Далангез, единственный форт Эрзерума, захваченный нами при штурме 1877 года, и как раз этим же полком. И в 1877, и в 1916 году Далангез брала 10-я рота, и тогда и теперь командиры этой роты – в 1877 году штабс-капитан Томаев, а в 1916 году прапорщик Навлянский – отдали за победу жизнь. Всех подвигов при штурме Эрзерума невозможно перечислить.
После взятия Эрзерума Юденич, не задерживаясь, погнал дальше расстроенного и ошеломленного неприятеля. Преследование – в метель, стужу и без дорог – длилось еще пять дней и было приостановлено только 9 февраля. В наших руках оказалось двадцать тысяч пленных и до четырехсот пятидесяти орудий. Общий урон, нанесенный 3-й турецкой армии при обороне Эрзерума и отступлении, составил шестьдесят тысяч человек. Наши потери при штурме – восемь с половиной тысяч убитых и раненых и шесть тысяч обмороженных. Помимо захваченных при штурме основных позиций пленных и трофеев, во время преследовании было взято еще более восьмидесяти офицеров и семь с половиной тысяч аскеров. А также сто тридцать орудий и несколько пулеметов.
Как память о русских солдатах, погибших в горах Турции, подошли бы слова вот этой песни:
Сколько их туда уходит,
Возвращаются не все…
Плачут матери и жены,
Сердцем чуя: быть беде.
Ждут годами, ждут с надеждой,
Может, все же не убьют.
Ну а там, в горах, как прежде,
Страшные бои идут.
………………………………………………..
Погибали вы все вместе,
Вы не знали слова страх,
Ради родины и чести,
Сохраняя меч в сердцах.
Русский воин, ты не с нами,
Но твой дух непобедим,
Мы придем на смену павшим,
За погибших отомстим.
В это же время вдоль побережья в сторону Трапезунда двигался Приморский отряд под командованием генерала Ляхова, вот его-то поддержкой и занимался наш флот. Для этого в распоряжение командира Батумского отряда капитана первого ранга Михаила Римского-Корсакова были переданы два эсминца к двум уже находившимся здесь, две канонерские лодки в помощь канонерке «Донец» и броненосец «Ростислав» под командованием капитана первого ранга Николая Савинского.
Первой совместной операцией флота и армии стало наступление на реке Архаве в феврале 1916 года. 5 февраля Батумский отряд подошел к устью Архаве. На «Ростиславе» находился сам командующий генерал Ляхов и командир отряда каперанг Римский-Корсаков. Для корректировки корабельной артиллерии на броненосце и канонерских лодках находились офицеры сухопутной артиллерии, которые хорошо знали расположение турецких войск. На берегу были созданы несколько наблюдательных постов.
Около восьми часов утра корабли открыли огонь по турецким позициям. В обстреле участвовали «Ростислав» и все три канонерки, со стороны моря их охраняли три эсминца. «Строгий» был направлен для наблюдения за тылом противника. При поддержке корабельных орудий, русские войска перешли в наступление. Тяжелые орудия своим огнем помогли нашей пехоте с минимальными потерями форсировать реку и захватить часть турецких позиций. С приближением сумерек войска начали закрепляться на достигнутых рубежах. Миноносцы и канонерки на ночь ушли в Батум для пополнения припасов, а «Ростислав» отошел в море. За день броненосец израсходовал сто восемнадцать снарядов калибра десять дюймов, триста сорок два шестидюймовых снаряда и тридцать 75-мм снарядов. Канонерки выпустили сто семьдесят пять шестидюймовых и почти сотню 120-мм снарядов.
Отличился эсминец «Строгий». Он высадил в тылу противника группу разведчиков, которые уничтожили несколько столбов с телефонными проводами, сорвали провода и унесли с собой. А комендоры эсминца обстреляли телеграфную станцию, добившись нескольких попаданий. Этим они на сутки прервали телефонную связь.
На следующий день наступление русских войск возобновилось, и корабли заняли прежние места у берега. В половине девятого «Ростислав» открыл огонь по турецким окопам и батареям. По отзывам армейских офицеров, броненосец стрелял превосходно. Огнем кораблей были разрушены многоярусные турецкие окопы на склонах гор, а проволочные заграждения были просто снесены. Поэтому пехота в ходе наступления серьезных потерь не имела, и этому способствовали корабли. Даже на Балтике не было такого успешного взаимодействия армии и флота, что выгодно отличает эту операцию от множества наступлений в годы Первой мировой войны. Видя, что наши войска успешно продвигаются вперед, канонерскую лодку «Кубанец» и эсминец «Строгий» отправили для обстрела турецких тылов. И как оказалось, их послали вовремя. Они обнаружили на подходе несколько вражеских колонн пехоты, которые после обстрела лихо дали деру в обратном направлении.
7 февраля «Ростислав» и «Донец» обстреливали район Вице, прикрывая войска, которые закреплялись на новых позициях. За эти два дня броненосец израсходовал еще сто шестьдесят четыре шестидюймовых снаряда и около четырехсот 75-мм снарядов, то есть за три дня операции «Ростислав» израсходовал больше половины боезапаса. Канонерки выпустили четыреста семьдесят шесть шестидюймовых снарядов и три с половиной сотни 120-мм. В результате русские войска за три дня продвинулись на двадцать верст, захватив сильно укрепленные позиции. Русские потеряли сто одиннадцать человек убитыми и ранеными, турки около восьмисот человек только убитыми.
В середине февраля русские войска перегруппировались и возобновили наступление, которое опять поддерживали корабли Батумского отряда. На сей раз нашим войскам предстояло прорвать турецкий оборонительный рубеж на реке Вице. 15 февраля корабли вели интенсивный обстрел вражеских позиций.
Из воспоминаний капитана первого ранга Савинского, командира «Ростислава»
«Стрельбу корабля в этот день описать последовательно нет возможности, так как после методического обстрела хребтов и склонов гор, прилегающих к берегу реки Абу-Вице, огонь, по требованию с берега, переносили – то в глубь долины реки, то по самому берегу, в зависимости от того, где предполагалось присутствие вражеских полевых батарей. Место корабля приходилось менять, занимая различные позиции в различных расстояниях от берега. Корректировка и передача приказаний с устройством радиостанции на берегу несравненно улучшилась (до этого корректировалась семафором и флагами), а главное – ускорилась, чему и сопутствовал успех обстрела позиций. Уничтожение батарей в большой мере надо отнести к действию этой радиостанции. В продолжение дня неприятельские батареи, по-видимому боясь открыть свое расположение, не стреляли по «Ростиславу». Но под конец, около пяти вечера, вероятно выбитые со своих позиций, турки выдвинули орудия к берегу и открыли огонь по кораблю. Первые выстрелы дали большие перелеты, постепенно уменьшавшиеся, и последний был с очень небольшим, но тоже перелетом, правда с хорошим направлением по цели. Снаряды упали в пятнадцати метрах за кормой. После нескольких наших залпов вскоре батарея прекратила стрельбу по кораблю и не только по кораблю, а вообще совсем прекратила огонь».
Расход снарядов в этот день был очень большим. Все четыре эсминца своим огнем сопровождали наступающую пехоту, а броненосец и канонерские лодки обстреливали укрепления. Чтобы лучше рассмотреть вражеские окопы, Савинский направил «Ростислав» к берегу, подойдя на расстояние всего в три кабельтовых. Турки сдуру открыли по нему ружейный огонь, но что могли сделать ружейные пули прикрытому броней кораблю. Зато теперь с броненосца стали ясно видны все турецкие позиции. Определив основной узел сопротивления, «Ростислав» открыл по нему меткий огонь из шестидюймовых орудий, их поддерживал еще и противоминный калибр. Но турки упорно держались и, хотя их окопы были уже перепаханы снарядами, не покидали своих позиций. Тогда Савинский пожертвовал для этого опорного узла обороны четыре десятидюймовых снаряда. После такого внимания со стороны броненосца огонь турок немедленно прекратился, и они бежали, бросив позиции.
Именно огонь кораблей в этот день обеспечил успех русского наступления. Заняв турецкие позиции, генерал Ляхов остановил наступление, приказал закрепляться на новом рубеже. Войскам надо немного отдохнуть, вывезти всех раненых, пополниться припасами и получить подкрепление.
Основные силы флота, в это время разделенные на три оперативные группы, сменяя друг друга, дежурили напротив Босфора, карауля выход «Гебена». Но он так и не появился, да и никто не отважился выходить под мощные пушки линкоров. Так что операция Батумского отряда проходила успешно. И основные перевозки подкреплений через Батум проходили в полной безопасности. Не было никаких оснований думать, что они могут быть атакованы надводными кораблями германо-турецкого флота. Через две недели надобность в линкорах по прикрытию конвоев отпала, так как основные воинские перевозки вдоль восточного побережья были закончены, и теперь корабли ходили мелкими конвоями по два-три судна под охраной эсминцев и канонерских лодок. Пока на фронте царило затишье, Батумский отряд вновь приступил к охране конвоев, но в данном случае только от подводных лодок, зная, что «Гебен» и компания блокированы в Босфоре. Перед Босфором постоянно дежурили подводные лодки, которые должны были предупредить штаб о выходе кораблей из пролива.
Флот за месяц провел три операции по предотвращению судоходства вдоль турецкого побережья. Особенно удачным оказался второй рейд вдоль вражеского побережья. В этом рейде было потоплено три парохода у турецкого побережья, один у болгарского и около сотни парусных фелюг, сновавших прямо под берегом, так как осадка у них чуть больше метра.
Турки на фелюгах, едва завидев дым на горизонте, направлялись к берегу, приставали и спускали паруса, чтобы их трудно было заметить. Эсминцы шли в двух милях от берега и, обнаружив такой кораблик, расстреливали его с минимальной дистанции, чтобы потопить одним-двумя снарядами. Если позволяло время, то выходили на шлюпке и взрывали фелюгу зарядом, установленным в трюме или у ватерлинии снаружи. Высаживались и на берег, чтобы взорвать посудину, обнаруженную на берегу. Со стороны моря эти действия прикрывали линкор и крейсер.
К середине февраля наше наступление приостановилось, так как турки заняли позицию на реке Буюк-Дере, считавшуюся почти неприступной. Прорываться в лоб бесполезно – только людей положить. Все же в эти времена людей старались беречь, не как в следующую войну. Поэтому мы предложили генералу Ляхову высадить несколько тактических десантов в тылу противника. Эта операция особенно интересна тем, что в ней приняли участие тральщики – бывшие азовские суда, собратья «Елпидифора» и прародители будущих «Елпидифоров». Их уже немного переоборудовали с прицелом на возможность использовать в качестве десантных судов, так как имели очень малую осадку и могли вплотную подходить к берегу. Один такой пехотно-десантный корабль мог принять до тысячи солдат. Установленные на нем орудия позволяли поддерживать высаженный десант огнем. Эти корабли намного опередили свое время. Хорошо, что англичане в Дарданеллах не имели таких судов, тогда вся операция могла пойти иным путем.
Первый десант планировалось высадить у Атины. Десант на «Елпидифорах» под прикрытием «Терца» и двух эсминцев должен был на рассвете высадиться позади турецких позиций и нанести удар с тыла, когда основные войска штурмовали с фронта, поддерживаемые остальными кораблями отряда. За первым десантом к плацдарму подходили суда с дополнительными силами, артиллерией и грузами. Всю десантную операцию должна была прикрывать вторая тактическая группа Черноморского флота во главе с «Екатериной» и крейсером «Память Меркурия», четверкой эсминцев и гидрокрейсером «Император Николай I»
2 марта генерал Ляхов и все командиры частей, привлеченных к операции, – от штаба флота был Вердеревский – на эсминце «Жаркий» прошли вдоль побережья, проводя рекогносцировку. Они выбрали участки высадки в четырех – шести километрах позади турецких позиций, так как приморский фланг турецкого фронта был укреплен. Наступательную операцию решили начать через сутки после этого.
4 марта в шесть часов утра «Ростислав», «Кубанец», «Донец» и эсминцы – «Завидный», «Жаркий», «Заветный» и «Жуткий» – направились к турецким позициям. К ним присоединился находившийся в море миноносец «Стремительный». На начальном этапе эсминцы использовали в качестве тральщиков. В десять «Ростислав» и канонерские лодки начали обстрел неприятельских позиций, это была своего рода артподготовка. Турецкие батареи пытались вести ответный огонь, но корабли их быстро подавили. Канонерка «Кубанец» прошла дальше в тыл, в район предполагаемой высадки, и своим огнем разрушила несколько домов, чтобы турки не смогли использовать их в качестве опорных пунктов. Обстрел берега велся до самого вечера, после чего корабли отошли от берега. Эсминцы «Заветный» и «Жаркий» остались крейсировать в районе Ризе – Атина, иногда ведя беспокоящий огонь по берегу, чтобы турки не дремали, да и не занимались восстановительными работами.
Вечером того же дня в Батуме была проведена посадка десанта на корабли.
Тральщики № 36, бывший «Федор Феофани», и № 53 «Мариетта» приняли по батальону пехоты, на Т-34 «Роза» – полевую батарею и два пулеметных взвода.
Всего на корабли было принято более двух тысяч двухсот человек.
B сопровождении миноносцев «Жуткий» и «Строгий» десантный отряд направился к месту высадки. Эсминец «Жуткий» привел тральщик Т-53 к назначенному пункту восточнее Атины, а миноносец «Строгий» вместе с тральщиками Т-36 и Т-34 прибыл в район западнее города.
В 5:45 тральщик Т-53 подошел к берегу и опустил сходни. Противник ничего не заметил, и высадка была произведена беспрепятственно. Через двадцать минут весь десант был на берегу. Тральщик Т-36 начал высадку на несколько минут позже, но затратил на это только двенадцать минут. Здесь турки спустя некоторое время попытались оказать слабое сопротивление, но несколько выстрелов с миноносца и тральщиков заставили их отойти.
На рассвете Т-34 начал мучительную высадку подкреплений с помощью шлюпок. Успели переправить на берег только два орудия, когда выгрузку остальных было приказано прекратить. Одновременно с высадкой десанта пришли «Ростислав» и «Кубанец» в сопровождении эсминцев «Стремительный», «Заветный» и «Завидный» для огневой поддержки.
Ожидавшийся бой не состоялся. Как только туркам стало известно о высадке в тылу русского десанта и первых залпах с кораблей, они бежали, бросив позиции. Генерал Ляхов организовал преследование драпающего противника. Раз все прошло так удачно, следовало повторить высадку на другом естественном рубеже обороны у Мепаври, чтобы не дать туркам закрепиться. Да и пехота просто не успевала за бегущим противником наступать по горным дорогам, поэтому, посадив часть войск на корабли, пустились в преследование. Эсминец «Жаркий» вновь получил приказ провести рекогносцировку, а «Ростислав» с «Кубанцем» и «Донцом» направились для обстрела района Мепаври. Броненосец и канонерки должны были своим огнем помешать туркам закрепиться на новых позициях.
Генерал Ляхов после полудня получил с эсминца «Жаркий» сообщение, что турки выслали из Трапезунда к Мепаври подкрепление и что огонь его двух пушек ненадолго приостановил это продвижение, но ночью они будут в районе турецкой обороны. Но генерал, ввиду того что близился вечер, решил высадку все-таки отложить до утра. Однако посланный на разведку гидроплан летчика мичмана Марченко с «Николая I» обнаружил значительные силы противника с артиллерией, движущиеся из Трапезунда. После этого известия генерал Ляхов приказал десант высаживать немедленно. Для усиления десанта, имеющегося на кораблях, были привлечены еще тральщики № 17 и № 24, которые погрузили в Атине еще пару батальонов и направились к Мепаври, но к началу операции опаздывали, и потому пока войска оставались на борту.
В вечерних сумерках с тральщиков Т-53 и Т-36 десант был выгружен на берег. На сей раз турки попытались противодействовать высадке, открыв орудийный и пулеметный огонь. Тральщики и эсминцы открыли ответный огонь. Так как было темно, то стрельба велась по площадям и могла иметь только психологический эффект. Но и это помогло десанту закрепиться на берегу и даже немного продвинуться вперед, расширяя плацдарм. Противник немедленно отступил к Ризе. С рассветом десантники начали наступление на Ризе при поддержке орудий «Ростислава» и канонерок.
Попытка турок закрепиться на одном из промежуточных рубежей, чтобы остальные смогли занять оборону в районе Ризе, была сорвана огнем миноносца «Завидного». Для развития успеха в районе Ризе тральщик Т-17 под прикрытием «Кубанца» и трех эсминцев высадил в тылу еще один батальон пехоты. Турки в панике бежали, и Ризе был занят без сопротивления.
Это был значительный успех, так как мы теперь получили возможность создать промежуточную базу снабжения для Приморского отряда. Ризе с большой натяжкой можно было назвать портом, а не просто рыбацким поселком. Нашим войскам приходилось наступать в условиях полного бездорожья, поэтому все грузы Приморский отряд мог получать только морем. Ранее разгрузка транспортов представляла большую проблему, а в Ризе имелся нормальный причал. Захват Ризе создал предпосылки для дальнейшего наступления на Трапезунд гораздо более крупными силами, чем имелись у генерала Ляхова ранее. Но эта операция произойдет чуть позже, а пока надо подтянуть резервы и пополнить припасы. Но операцию уже начали разрабатывать, и скоро флот вновь примет в этом самое непосредственное участие.
Первый месяц я только присматривался к офицерам, подмечал, кто как командует своим кораблем или своими соединениями. Но уже в марте начал производить должностные перестановки на флоте. На пост начальника минной дивизии вместо контр-адмирала Саблина я назначил капитана первого ранга князя Трубецкого. До этого назначения он был командиром линкора «Императрица Мария». Князь Трубецкой после назначения получил следующий чин, а его на мостике линкора сменил капитан первого ранга Кузнецов. Контр-адмирал Саблин занял новую должность – командующего противолодочной обороной Черного моря.
За двадцать пять лет своей офицерской карьеры Саблин, как и многие его ровесники, повидал многое. Поучаствовал в китайском походе. Выжил в Русско-японской войне, побывав в пекле Цусимского сражения на «Осляби». Потому в его послужном списке числятся и броненосцы, и канонерские лодки, и конечно же эсминцы. А на должность командира минной бригады Саблин был переведен с должности командира старого броненосца «Ростислав». Он смелый и решительный человек, при этом исключительно честолюбив и отличается крутым и прямолинейным нравом. Вот пусть и проявит свой характер в борьбе с подводными лодками противника. Хотя он и так, будучи начальником минной дивизии, занимал эту должность. И вот теперь пусть полностью сосредоточится на том, как отвадить подлодки противника появляться у наших берегов. Наладит боевую службу в созданной противолодочной дивизии. Передадим ему в подчинение все старые миноносцы, четыре эсминца типа «Заветный» и еще кое-что.
Меня очень волновал вопрос противолодочной обороны, и поэтому у меня состоялся разговор с контр-адмиралом Саблиным.
– Михаил Павлович, вы не подумайте, что я вас незаслуженно принижаю, взял и послал контр-адмирала заниматься какой-то дозорной службой. Поверьте мне, это далеко не так. Противолодочная оборона сейчас самая главная ваша задача. Я знаю, что сил в дивизии очень мало, но больше не будет, и вам, Михаил Павлович, придется довольствоваться тем, что есть. Я буду время от времени кое-что вам выделять, но только на короткий срок. Сейчас немцы перебрасывают из Средиземного моря подводные лодки, которые могут подолгу находиться у наших восточных берегов, а по тем местам, как вы знаете, идет снабжение Кавказской армии. Это снабжение, как говорит один человек, «архиважное» для нас. Я прошу, чтобы вы особо уделили этому участку самое пристальное внимание, так как это чуть ли не единственный путь для снабжения Кавказской армии. Вы лучше моего знаете, что сухопутный путь имеет малую пропускную способность, а в осеннюю и весеннюю пору временами совсем непроходим, поэтому остается только морской путь. И если подводные лодки потопят хотя бы пару судов, это, конечно, еще не катастрофа, но близко к этому. Погибнут люди и грузы, которые так нужны там, и, возможно, именно этот самый груз спас бы какую-то воинскую часть от поражения или помог взять какой-то рубеж.
Также из районов Новороссийска и Азовского моря до Одессы идут караваны судов с военными грузами и продовольствием для нас и для нужд Юго-Западного фронта. Ваша задача постараться все суда сохранить в целости. Первое – надо организовать патрулирование вдоль путей следования конвоев, независимо от того, идет в данный момент конвой или нет. И чтобы патрули ходили парами. Привлекайте самолеты, мы выделим вам некоторое количество. Авиаторов проинструктируйте, чтобы при патрулировании летали повыше, так лучше обзор. Не надо прижиматься к воде, так и обзор меньше, и мало времени остается, чтобы среагировать на подводную лодку и произвести атаку с хода. Не ниже пятисот метров будет в самый раз. Как только авиаторы обнаружат подводную лодку противника, они должны атаковать ее, но, чтобы по ошибке под удар не попала своя, я распоряжусь на палубах всех подлодок нарисовать огромные опознавательные знаки. И еще, с утра до вылетов справляйтесь у начальника оперативного отдела, в каком районе могут в этот день находиться наши подводные лодки. К восточным берегам нам свои подводные лодки, как я полагаю, посылать нет смысла. Значит, все обнаруженные подводные лодки в том районе принадлежат противнику – безоговорочно атакуете. Если у авиаторов атака не удалась, они должны навести на обнаруженную подлодку свои корабли. Придумайте, как это обеспечить. Радиопередатчик на самолете решил бы все проблемы. Но его нет, и надо искать другие способы. Цветными дымами или ракетницами показывать направление хода лодки. С самолета ее контур видно, если даже она под водой, особенно когда идет на малой глубине. Кораблям преследование не прекращать, если доподлинно известно, что подводная лодка где-то рядом под вами. Сколько точно может пройти подлодка подводным ходом, вам расскажут наши подводники, но в среднем в пределах сорока – семидесяти миль при пяти узлах, а если подводная лодка уже была под водой некоторое время, то запас хода у нее меньше. Без пополнения кислородом и энергией для аккумуляторов подлодка может продержаться под водой максимум сутки. Так вот надо добиться того, чтобы лодка всплыла, и заставить ее сдаться или вывести из строя несколькими попаданиями.
– Ваше превосходительство, а чем ее атаковать, когда она под водой? Обстреливать район ныряющими снарядами, так сколько их тогда нужно, а других у нас способов пока нет. Глубинные бомбы очень ненадежны.
– Скоро должна прибыть первая партия новых глубинных бомб, вот вам их и применять.
Еще находясь в госпитале, я направлял в Главное техническое управление заявку на изготовление глубинных бомб, потом уже после госпиталя встречался с некоторыми специалистами в области минного дела, чтобы найти более эффективное средство борьбы с подводными лодками противника, помимо ныряющих снарядов.
Минные оборонительные заграждения – это понятно, а как бороться с подлодкой в открытом море? Была у нас в 15-м году сконструированная бомба с гидростатическим взрывателем, но она оказалась слишком ненадежной – то взрывалась, чуть ли не касаясь воды, то совсем не взрывалась. Вот потому мы пока остановились на простых в техническом решении бомбах. Это такая мина, но как бы наоборот. Обычную мину на глубину утаскивает якорь, а эти мины тонут сами, но снабжены плавающим якорем, с которым соединены длинным линем, он-то и выдергивал стопор с взрывателя, заставляя мину взрываться на заданной глубине.
– Вот всегда так, придет партия, а там полсотни штук, это по три штуки на корабль. И что прикажете нам по этому поводу делать – на них молиться? – посетовал Саблин.
– Михаил Петрович, возможно, придется и помолиться. Я сам не знаю, сколько в первой партии прибудет, возможно, и пятьдесят, а возможно, пятьсот, но будем надеяться, что не по три штуки достанется на каждый корабль. Но вы также имейте в виду, что этими же бомбами придется делиться и с минной дивизией, им тоже приходится иногда встречаться с подводными лодками, когда они сопровождают линкоры в боевом походе. Я думаю, что в скором времени у нас их будет в достатке. А возможно, скоро придумают еще более совершенные бомбы, а к этому еще и средства обнаружения самих подводных лодок под водой. Представляете, какое это будет грозное оружие по уничтожению подводного противника.
– Так его еще придумать нужно.
– Вот поэтому-то я попрошу вас, адмирал, поощряйте своих офицеров думать насчет средств обнаружения и уничтожения подводных лодок противника. Пусть любые свои предложения, даже самые, на ваш взгляд, абсурдные, изложат на бумаге и перешлют мне. И еще, Михаил Петрович, под вашу ответственность также переходит изготовление противолодочных сетей, которое идет преступно медленно.
– Ваше превосходительство, сети хоть медленно, но изготавливаются, а вот поплавки до сих пор даже не начали делать, ссылаются на отсутствие для них материала.
– Хорошо, Михаил Петрович, этот вопрос мы постараемся решить в самое ближайшее время. Будут у вас поплавки.
– Ваше превосходительство, у меня слишком большой район для охраны, и тех кораблей, что находятся в распоряжении, слишком мало, нельзя ли добавить что-то еще, например из мобилизованных, у них хоть и скорость невелика, и лодку в надводном положении им не догнать, но могут просто отогнать ее, не дать ей атаковать. Кроме того, они могут вызвать подкрепление.
Я глянул на список боевого состава дивизии.
В противолодочной дивизии числилось: четыре эсминца типа «Заветный» в четыреста пятьдесят тонн при двух 75-мм орудиях и с более чем двадцатиузловой скоростью, столько же эсминцев типа «Сокол» в триста тонн с тем же вооружением. Дизельный четырехсоттонный сторожевой корабль «Ястреб» с неплохим вооружением из четырех 57-мм орудий. Вооружение можно и усилить. Есть три миноносца типа «Пернов» в сто шестьдесят тонн. Эти годились только как дозорные. Если повстречают подлодку, у них нет шансов выстоять в артиллерийском бою, но, имея на борту с десяток противолодочных бомб, они могут устроить подводникам несколько неприятных минут пребывания под водой. Еще есть семь довольно старых миноносцев, от восьмидесяти до ста тонн и со скоростью около пятнадцати узлов, но еще более или менее крепких и пригодных также для дозора.
Понимаю, что этого маловато для акватории Черного моря. Хотя основные районы охраны противолодочной дивизии – подходы к Одессе и Очакову, также к Херсону – это на западе. На востоке все побережье от Тамани до Батума. Не надо забывать и о побережье Крыма, и о главной цели германских субмарин Севастополе. Придется ему передать еще с десяток бывших гражданских судов, а теперь вспомогательных кораблей ЧФ. Кроме того, я обещал выделить два авиаотряда – это девять машин. Один такой отряд будет заниматься поиском подводных лодок вдоль восточного побережья, второй базироваться в районе Одессы и вести поиск подводных лодок от Очакова до румынской границы. На подступах к Крыму поисками подводных лодок и кораблей противника будут заниматься авиаторы 1-го авиаотряда Черноморского флота и учебно-боевого отряда, рассуждал я.
Я знал, что в состав авиации Черного моря входили 1, 2 и 3-й корабельные отряды (восемнадцать летчиков), гидроавиационный отряд Кавказского фронта (восемь летчиков), учебно-боевой отряд в Круглой бухте (десять летчиков), два отряда (одиннадцать летчиков) у начальника противолодочной обороны. Начали формировать отряд дирижаблей для патрульной службы и разведки. Всего было двадцать три летающие лодки М-5 и пятнадцать М-9. Имелось еще девять самолетов на колесном шасси разных конструкций. И выделение в противолодочную дивизию девяти самолетов представлялась возможным.
– Хорошо, я выделю еще десяток бывших коммерческих судов, это все, что я могу дать, вы и так не хуже меня знаете возможности флота. Поступлений надводных кораблей практически нет, в постройке четыре эсминца типа «Фидониси». Хотя в списках числятся восемь, а в постройке только четыре, и, когда поступит на вооружение эта четверка эсминцев, неизвестно. Может, в конце этого года, но не исключено, что только на будущий год. Следующую четверку эсминцев еще даже не закладывали. Михаил Петрович, я вам обещаю: как только первые эсминцы новой серии поступят на флот, сразу же передам все остальные эсминцы типа «Заветный» под ваше командование, а пока надо обойтись тем, что есть.
– Мне и так пришлось приложить немало усилий, чтобы закладка следующих эсминцев серии состоялась в ближайшее время. Так что обещали в марте – апреле заложить оставшуюся четверку эсминцев, а осенью намереваются заложить еще два, и все с измененным составом вооружения. На эсминцах типа «Счастливый» слишком много торпедных аппаратов и всего три четырехдюймовки.
– Я, будучи начальником дивизии, докладывал командующему, что торпедных труб на эсминцах в избытке и что надо заменить один торпедный аппарат на орудие. Но тогда сказали, что сейчас не время этим заниматься, идут боевые действия, и корабли нужны в деле.
– Надо будет непременно по мере возможности перевооружить эсминцы. Может, во время планового ремонта и затишья в боевых действиях. Хотя это не Балтика, и здешнее море не замерзает, а значит, затишья не предвидится. Первым делом двухтрубные торпедные аппараты заменить на трехтрубные, да сократить их до трех, как на балтийских эсминцах, добавить четвертое орудие, да хотя бы одно зенитное орудие поставить. Вот тогда это будет сильный корабль, три таких эсминца могут смело потягаться с «Бреслау». А то когда «Гневный» и «Счастливый» 17-го числа прошлого месяца встретились с «Бреслау», им пришлось разойтись на контркурсах, постреляв немного друг в друга, конечно без всяких последствий.
– Они и не подумали о полноценном бое, хотя по бортовому залпу и были равноценны с германцем, но вдвоем против крейсера…
– А вот будь в тот момент еще по одному дополнительному орудию, можно было и завязать бой.
– Но крейсер и эсминцы все же несопоставимы по водоизмещению. Сколько попаданий может выдержать крейсер и эсминец? Вот то-то и оно. Эсминцу хватит нескольких попаданий, а крейсер это же количество перенесет спокойно.
– А если было бы три довооруженных эсминца, то они вполне могли бы замордовать крейсер. Двенадцать орудий в бортовом залпе против шести это же двойное превосходство. Только какой ценой.
– Да, цена может быть и большой, а может, и нет, это как карта ляжет. И тут многое будет зависеть от командиров эсминцев.
– Из доклада командиров эсминцев стало известно, что «Бреслау» довооружен 150-мм орудиями. Как минимум на баке и корме германцы установили два таких орудия. А это уже слишком серьезный калибр для эсминца, попади такой снаряд в корабль. А в нашем флоте всего девять таких кораблей, и потеря одного – это уже невосполнимые потери, да и ходят они в боевые походы всегда парами. Только при сопровождении линкоров бывает две пары эсминцев, но тогда и вовсе маловероятно, что крейсер соизволит появиться в поле зрения такого соединения.
– Относительно того, что германец усилил вооружение крейсера установкой орудий более крупного калибра, у нас данных пока нет. Но противник обязательно это сделает, и, по-видимому, в самое ближайшее время. А так, Михаил Петрович, в одном вы отчасти правы – маловато у нас новых эсминцев. И противник не ищет с нами встречи, а все старается действовать исподтишка. Надо как-то подловить его, но как, если он прячется в проливе? Выскочит на пару сотен миль из пролива и обратно юркнет, а мы и среагировать не успеваем. С одной стороны, пусть и дальше сидит там и не высовывается из своей норы, нам спокойнее будет. Но с другой, нам приходится держать в дозоре перед проливом то подводные лодки, то эсминцы, ради одной цели – вовремя узнать о выходе «Гебена». А они больше пользы принесли бы в другом месте. Сегодня я соберу совещание, вы можете не присутствовать, так как мы уже о многом переговорили. Но пару вопросов о том, как помочь вашей службе по борьбе с подводными лодками противника, обязательно рассмотрим.
Саблин ушел, а я опять погрузился в раздумья. Надо блокировать Босфор, полностью завалить его минами, и желательно установить их прямо в проливе, а не только на подступах к нему. Но как проникнуть незамеченными в охраняемый пролив? Дождаться туманного утра? Но туманы редки, и как такое время подгадать, не будешь же все время стоять с минами наготове перед проливом. Послать «Краба»? Я читал про него – самая ненадежная подводная лодка, вечно ломалась – то одно полетит, то другое. Даже самостоятельно добраться до пролива не могла, приходилось тянуть ее туда. И все-таки минировать обязательно будем, надо разработать такую операцию.
Заказ на большую партию мин заграждения я уже сделал. У нас в наличии была пара сотен, а надо тысячи. Прибыл к нам и мастер минных дел капитан первого ранга Николай Шрейбер. Вот он и поможет реализовать эту задумку. Ему еще надлежит наладить на заводах юга России производство малых мин типа «Рыбка», более простых в изготовлении и менее затратных, как в материалах, так и финансово.
Есть еще одна большая проблема всего нашего флота, в том числе и Черноморского, – ничтожно малое количество новых подводных лодок, правда, и у нашего противника тут их также негусто. И как тогда мне осуществлять подводную блокаду таких ключевых мест, как у выхода из Босфора и перед Варной? Не говоря уже о таком протяженном участке, как угольный район турецкого побережья. И это все пятью подводными лодками. Тут мне управляющий «Руссудом» клялся, что через месяц должна вступить в строй еще одна подлодка, но этого все равно мало. И когда же начнут поступать «американки», ведь заказ был сделан еще осенью. Прошел слух, что первые секции из второго заказа уже прибыли в Россию. На Балтике подлодки первой партии уже собирают.
Поначалу наши лодки действовали, как правило, в одиночку и позиционным методом в пяти-шести местах у побережья противника. Надо ограничить их только тремя главными районами, и пусть там проявляют свою инициативу при поиске целей. Еще одна наша проблема – это связь с подводными лодками. Ее возможности ограничены, и это сильно затрудняет управление лодками в море. Поскольку наши подводные лодки имеют радиостанции с предельной дальностью действия сто миль, мы не можем поддерживать связь, а значит, и управлять ими не можем. Обязательно надо выводить корабль и ставить его где-то между районом боевых действий подводных лодок и Севастополем. Чтобы на этом корабле было насколько радиостанций и передатчиков на все случаи жизни. Он будет принимать все передачи с подводных лодок, передавать дальше на базу и наоборот – с базы на лодку.
Прервав свои адмиральские думы, я вызвал адъютанта.
– Вот что, лейтенант, к тринадцати ноль-ноль пригласи ко мне: начальника штаба Владимира Константиновича, начальника оперативного отдела Дмитрия Николаевича, старшего лейтенанта Стаховского Ивана Ивановича и князя Трубецкого. Также не забудь пригласить начальника первой оперативной группы адмирала Новицкого Павла Ивановича и капитана первого ранга Клочковского.
Наш маленький военный совет продолжался без малого полтора часа. Перед капитаном первого ранга Клочковским был поставлен вопрос о лучшей организации наших малочисленных подводных сил и налаживании дальней связи с ними. В складывающейся тогда обстановке такой способ с репетичными кораблями[1] казался нам вполне эффективным и позволял в определенной степени организовать управление подводными лодками, находившимися в районах боевых действий. Теперь осталось только подобрать подходящий корабль – в меру подвижный и с таким вооружением, чтобы смог в одиночку отбиться от подводной лодки, если та начнет его преследовать в надводном положении.
Далее Пилкин и Вердеревский предоставили несколько планов боевых операций на месяц, и один из них – воздушный удар по базе немецких подводных лодок в Варне – обсуждался вторым на сегодняшнем совете.
– …Как стало известно нашей разведке, сейчас в Варне находятся четыре подводные лодки противника, и в ближайшее время они должны выйти к нашим берегам. Если они выйдут на наши коммуникации и, не дай бог, добьются успеха, быть беде. Хотя на сей счет контр-адмирал Саблин был уже предупрежден, но и нам надо к недопущению выхода противника приложить руки, это произвести массированный налет на их базу. Для этой операции привлекаются два гидрокрейсера – «Император Александр I» и «Император Николай I», а также восемь гидропланов 1-го авиаотряда, командир лейтенант фон Эссен, и семь гидропланов 2-го авиаотряда, командир лейтенант Александр Юнкер.
Вердеревский посмотрел на Стаховского. Старший лейтенант вскочил со стула:
– Так точно, я понял.
Вердеревский продолжал:
– Гидрокрейсеры ближе тридцати миль к Варне не подходят, с этого расстояния и должны выслать свои гидропланы. Первая оперативная группа вице-адмирала Новицкого в составе шести вымпелов прикрывает их с юга. Непосредственно охранять гидрокрейсеры поручается третьему дивизиону эсминцев из минной дивизии контр-адмирала князя Трубецкого. Им же вменяется и спасение летчиков, по возможности и летательных аппаратов, которые из-за технических неполадок или боевых повреждений не смогут долететь до гидрокрейсеров.
– Этим нам приходилось заниматься, чай, не первый раз выходим на такую операцию, – заметил князь Трубецкой.
– Удар должен быть нанесен на рассвете, – объявил Вердеревский.
– Но это значит, что самолеты нам придется готовить и спускать на воду в темноте. А этого мы не делали никогда, – высказал свои опасения Стаховский.
– Не делали, значит, придется сделать, в этом залог нашего успеха, – проговорил Вердеревский.
– Господин старший лейтенант, ваша задача произвести не менее двух налетов на базу немецких подводных лодок в Варне. Это вам понятно? Вот потому-то эта операция и пойдет немного по-другому. Раньше вы делали один налет, после поднимали гидропланы на борт и уходили дальше в море. В этот раз вы после первого налета совершите второй, а то и третий.
– Ваше превосходительство, но нам может не хватить времени на завершение третьего вылета, и придется возвращаться в темноте. А полетам в темноте у нас почти никто не обучен.
– А это очень прискорбно слышать, надо летать не только при дневном свете. Надо начинать обучаться ночным полетам. Это умение нам потом в будущем очень пригодится. Но в этот раз надо обязательно совершить на Варну два налета, и оба максимальным количеством самолетов. Привлечешь все самые лучшие в техническом состоянии гидропланы из всех трех отрядов, отберешь и поднимешь на «Александра» и «Николая». А то при налете на Зонгулдак три самолета по техническим причинам не смогли выполнить задание. Возьми дополнительно еще двоих-троих пилотов на всякий случай, кто знает, что может случиться.
Если надумаете произвести третий налет и возвращаться придется в сумерках или темноте, корабли подсветят прожекторами. Нам надо нанести максимально возможный урон германским подводным лодкам, что базируются в Варне. Если при совершении третьего налета на Варну подводных лодок не окажется в базе – могут погрузиться или перейти в другое место, – удар нанесете по всем плавсредствам, что застанете в порту.
После удара по Варне, – продолжал дальше Вердеревский, – первая оперативная группа идет в крейсерство вдоль турецкого побережья, до Ризе. Уделите пристальное внимание угольному району в Эрегли – Зонгулдак, Ставка настаивает на полной блокаде этого района, чтобы турки ни одного килограмма угля морем не могли оттуда вывести. В преддверии нашего скорого наступления на Трапезунд разрешается поупражняться в стрельбе по турецким укреплениям на подступах к городу.
Выход кораблей завтра.
А первый вопрос у нас был: как выманить «Гебен» из Босфора? После недолгого обсуждения решили линейный крейсер ловить на живца. В начале апреля намечается крупная десантная операция в помощь Приморскому отряду генерала Ляхова по овладению Трапезундом. Вот на этот десант и попробуем поймать «Гебен».
11 марта без двадцати семь в предрассветных сумерках над Варной появились семь русских гидропланов, ведомых лейтенантом Юнкером, которые начали атаку на стоящие в порту германские подводные лодки и миноносцы болгарского флота. Каждый гидроплан нес по две двухпудовых и по две полупудовых бомбы. В начале атаки летчики сумели разглядеть только две подлодки противника, стоящие у стенки, рядом стоял миноносец болгар, поодаль еще два миноносца и вооруженный пароход. Лейтенант первым пошел в атаку на подводные лодки, но обе сброшенные двухпудовые бомбы в лодки не попали. Следом за командиром летел гидроплан лейтенанта Ламанова, а наблюдателем и одновременно бомбардиром был прапорщик Викторов, вот именно ему и удалось одной из сброшенных бомб угодить прямо в подводную лодку. При первом заходе из семи гидропланов в подлодки попали двое, еще один отправил на дно болгарский миноносец. Второй заход выполнялся уже под огнем противника. По самолетам стреляло около десятка орудий, шрапнельные снаряды рвались немного выше атакующих. Когда лейтенант Юнкер повел свою группу на второй заход, к городу подошла вторая группа гидропланов, которую привел лейтенант фон Эссен, они вылетели на десять минут позже, но один самолет по техническим причинам потеряли. Тому пришлось сесть на воду – забарахлил мотор.
Эссен также увидел только две подлодки, но сейчас над обеими поднимался дым – значит, они серьезно повреждены, да кроме того, на них повторно выходила в атаку авиагруппа с гидрокрейсера «Николай I».
А где же еще две подводные лодки, о которых им говорил старший лейтенант Стаховский? – подумал фон Эссен. Неужели успели уйти?
Эссен повел свою группу в сторону Варненского озера, и за мостом, среди многочисленных шаланд и шхун, обнаружил еще одну подлодку, стоящую так, что не сразу и бросалась в глаза. Если бы она не начала движение, выбираясь на чистую воду, то пришлось бы долго ее искать. Возможно, даже и вовсе не заметили бы. На лодке, вероятно, видели, что русские самолеты бомбят порт и рано или поздно могут добраться сюда, а если вспыхнут все эти баркасы и шхуны, то будет грандиозный пожар. Поэтому и решили выбраться из этой западни, погрузиться под воду и переждать налет. Эссен покачал крыльями гидроплана, привлекая внимание своей группы, и пошел в атаку. Он не знал, что за ним следуют только четыре аппарата, три, видимо, отстали и затерялись в облаках. И здесь из оставшейся группы прямого попадания добился лишь один экипаж – лейтенанта Лучанинова и наблюдателя прапорщика Ткача.
Вот что написал после вылета в своем донесении командир этого экипажа: «Получив приказание сбросить бомбы в первую очередь на подводные лодки и лишь в случае их необнаружения на пароходы, портовые или другие имеющие военное значение сооружения, взяв две пудовые бомбы и четыре полупудовые, на аппарате № 43 с наблюдателем прапорщиком флота Ткачом в 6 часов 51 минуту подошел к Варне, держась выше облаков и третьим за аппаратом командира авиаотряда. Над портом в некоторых местах поднимался дым, а в воздухе появлялись разрывы от шрапнельных снарядов до трех одновременно. Миновав порт, лейтенант фон Эссен повел нас вдоль лимана за мост, постепенно опускаясь ниже облаков, почти всюду закрывающих обзор вниз. Что некоторое время я не мог найти землю под нами. Опустившись до 900 метров, вышли из облаков, и тут же мы с наблюдателем увидели реку с большим количеством всевозможных шхун, баркасов и барж. Лейтенант фон Эссен подал знак, призывающий нас к вниманию, и начал снижение. Тут я заметил на водной поверхности подводную лодку на ходу и пошел прямо на нее. Первые два гидроплана при первой своей атаке по лодке не попали, но бомбы легли совсем рядом. Нами была сброшена всего одна пудовая бомба. Отсутствие облаков дало возможность увидеть результаты падения бомбы – бомба попала в корпус, в нос от рубки, взрыв же ее был слышен отчетливо. В это время нас сильно обстреливали зенитные орудия – не менее четырех. Как я сумел заметить, за нами летел только один аппарат, других я не видел. Вторым заходом все четыре полупудовые бомбы были брошены наблюдателем в батарею, огни выстрелов которой были видны сквозь редкие облака. Третьим заходом мы вновь пошли на подводную лодку, которая была поражена кем-то еще, так как и позади рубки было видно сильное дымление от пожара. Мы вновь сбросили одну бомбу, которая упала в каких-то пяти – семи метрах по левому борту, ближе к корме. Использовав все бомбы, в 7 часов 25 минут повернул на восток в сторону моря, где мною через три минуты был обнаружен аэроплан противника, летящий в том же направлении, но выше меня метров на пятьсот. Я начал набирать высоту, стараясь подойти снизу как можно ближе, пока противник меня не видит, но так увлекся преследованием, что поздно заметил опасность в виде еще одного неприятельского аэроплана, который подкрался сзади и успел выпустить очередь из своего пулемета, прежде чем я успел отвернуть. Несколько пуль все же попали в наш аппарат, повредив полотно на крыльях, и одна пуля попала в бак для бензина чуть выше его средней части. Нам пришлось выйти из боя и уходить в сторону открытого моря. Аэропланы противника нас не преследовали, а я благополучно вернулся к нашему кораблю, всего пробыв в воздухе 2 часа 18 минут. Максимальная высота полета над Варной одна тысяча четыреста метров, минимальная четыреста метров. Лейтенант Лучанинов».
Наблюдатель В.С. Ткач докладывал следующее: «…Мы держались третьими за командиром. Указав направление согласно плану порта, мы, пройдя некоторое расстояние в облаках, вышли из них. Я увидел много разных парусников и всевозможных плавсредств и подводную лодку на чистой воде, по которой не совсем удачно отбомбились мои товарищи. Я показал лейтенанту Лучанинову, чтобы он шел на лодку со снижением, что он и выполнил. Я сбросил с шестисотметровой высоты по прицелу первую пудовую бомбу, каковая попала в район согласно прилагаемому чертежу. После того как аппарат описал, согласно моему указанию, кривую, мною были замечены огоньки выстрелов, куда аппарат и был направлен. Очутившись над вышеупомянутым местом, я быстро сбросил одну за другой четыре полупудовые бомбы. Потом мы опять вышли курсом на подводную лодку, но второй раз я в нее не попал. Бомба упала рядом. По окончании взяли направление к месту, где расположились корабли, но увидели неприятельский аэроплан и намеревались его атаковать, но были сами атакованы. Наш гидроплан получил незначительные повреждения. Прапорщик Ткач».
В этот день на Варну было совершено два вылета. В общей сложности в налете участвовало двадцать три гидроплана. Потоплена одна подводная лодка и две значительно повреждены, кроме того, потоплены два миноносца болгарского флота, «Смели» и «Храбри», а также один катер «Лилия». Бомба попала и в их крейсер – по большому счету этот кораблик можно было отнести разве что к канонерской лодке, но никак не крейсерам, – после чего он сел на грунт прямо у причала. Сгорели не менее двадцати разных малых плавсредств. Был подбит один аэроплан противника. У нас также было повреждено три гидроплана – от огня зенитной артиллерии и в бою с авиацией противника. Два гидроплана вышли из строя по техническим причинам.
Этим налетом на Варну мы снизили угрозу со стороны германских подводных лодок до минимума по крайней мере месяца на три, а может, и больше.
После завершения налета на Варну гидрокрейсера разделились. «Император Александр I» передал один из двух поврежденных гидропланов на «Николая I», получив оттуда исправный, и, как более быстроходный из двух авианесущих кораблей, направился в крейсерство с первой оперативной группой. «Николай I» кавторанга Кованько под охраной двух эсминцев пошел в Севастополь. Два эсминца, «Лейтенант Зацаренный» и «Капитан Секен», остались блокировать Варну.
Когда я при ознакомлении с личным составом флота узнал, какая фамилия у командира гидрокрейсера «Император Александр I», сразу вспомнил главного лесничего Германии, германского борова и рейхсминистра авиации – командовал кораблем капитан первого ранга Петр Алексеевич Геринг. Я и не предполагал, что такая фамилия, как Геринг, принадлежит не только германскому летчику-истребителю, который в этот момент сражается где-то над Францией, но и российскому морскому офицеру, также имеющему отношение к авиации.
Оперативная группа вице-адмирала Новицкого двигалась с запада на восток. Впереди на удалении десяти миль шли два эсминца, «Пронзительный» и «Поспешный», за эсминцами шел линкор «Императрица Мария», далее «Кагул» и «Александр I», позади них по обе стороны держались еще два эсминца. На подходе к Зонгулдаку отряд встретил два эсминца, «Счастливый» и «Гневный», находящиеся тут с блокадными действиями. Произошла рокировка. Трубецкой, перейдя на эсминец «Счастливый», вместе с «Гневным» остался при оперативной группе. А для блокады угольного района остались эсминцы «Громкий» и «Быстрый».
Эсминцы «Пронзительный» (капитан второго ранга Борсук) и «Поспешный» (капитан второго ранга Жерве) за время крейсерства у берегов Турции с 11 по 13 марта потопили больше тридцати парусников с углем. Только за первый день крейсерства между Трапезундом и Керасундой они уничтожили шестнадцать парусников. При обстреле берега уничтожили два моста через горные речки и несколько построек. Прикрывали линкор и крейсер, которые упражнялись в стрельбе по оборонительным сооружениям Трапезунда. Авиация также произвела один налет на город. В тот же день оперативная группа повернула назад и опять пошла вдоль турецкого побережья, наводя страх на турок. На следующий день эти два эсминца потопили еще семнадцать парусников, из них пять больших.
А в это самое время эсминцы «Громкий» и «Быстрый» под командованием капитана второго ранга Старка и капитана второго ранга Шипулинского, находясь в боевом походе по блокированию угольного района, около двадцати трех часов обнаружили турецкий транспорт «Сайяр» водоизмещением около шести тысяч тонн. Выйдя на него в атаку, выпустили по нему четыре торпеды, две из них поразили судно, которое через несколько минут затонуло. С утра эсминцы обстреляли портовые сооружения и железнодорожные пути, а также складские помещения. После того как турецкие батареи начали пристреливаться по ним, отошли в море.
Утром 14-го оперативная группа в полном составе обстреляла этот городок еще раз. Линкор после двух залпов заставил замолчать береговую батарею, позволив эсминцам подойти ближе к берегу. И здесь также поучаствовала в бомбардировке авиация, а потом и в отражении налета пары турецких аэропланов. Вернее сказать, немецких, так как летчиками, по всей вероятности, были немцы или австрийцы. После бомбардировки береговых сооружений гидрокрейсер под охраной двух эсминцев направился в Севастополь, а линкор с эскортом пошел дальше вдоль берега. Уже к вечеру оперативная группа была возле Варны, и тут опять повезло «Поспешному» и «Пронзительному»: они перехватили и потопили пароход «Замбрак» в две тысячи пятьсот семьдесят тонн. Больше нигде не задерживаясь, на следующий день вице-адмирал Новицкий привел свой отряд в Севастополь.
Наша разведка сработала на славу. 17 марта нам стало известно, что из Констанцы в Константинополь вышел германский транспорт «Эсперанс» с грузом бензина. А кто мог перехватить этот транспорт? Верно, тут и гадать не стоит – это могут сделать только эсминцы. И ближе всего к пути следования «Эсперанса» были «Беспокойный» капитана второго ранга Тихменева и «Пылкий» капитана второго ранга Ульянова. В этот момент они находились в районе Зонгулдака. Эсминцы тот же час, как только ими был получен приказ перехватить его, пошли на встречу данного судна. Из Севастополя по направлению к Босфору вышли еще два эсминца, но путь им предстоял на сотню миль дальше, чем первой паре.
«Беспокойный» и «Пылкий», идя на двадцати пяти узлах вдоль болгарского побережья, уже на подходе к Варне заметили по курсу дым, а через некоторое время и сам пароход, который уже заканчивал разворот в сторону Варны, намереваясь там укрыться. Эсминцы начали пристрелку с шестидесяти пяти кабельтовых, пытаясь остановить судно. Но оно, неистово дымя, пыталось как можно быстрее попасть под защиту береговых батарей, чтобы достичь порта. Первый снаряд попал в пароход с «Беспокойного» – с сорока пяти кабельтовых тот угодил в корму, но судно хода не сбавило, хотя на корме что-то горело. Эсминцы догоняли, через некоторое время пароход поразили еще два снаряда – он запылал интенсивнее. Когда дистанция сократилась до двадцати кабельтовых, снаряды стали попадать в цель чаще, после одного из таких попаданий над пароходом взвился огромный столб пламени и раздался взрыв. Судно остановилось, с него поспешно спускали шлюпки, а самые нетерпеливые прыгали в воду, спасаясь от пожара, который разгорался все сильнее.
Эсминцы сблизились с горящим судном до пяти кабельтовых. «Пылкий» разрядил один торпедный аппарат, и обе торпеды поразили судно, которое через несколько минут пошло на дно. После этой гонки топлива осталось на сутки, если идти экономичным ходом, так что ни о каком продолжении блокады у турецких берегов не могло быть и речи.
Передав радиограмму о выполнении приказа, Тихменев испросил разрешения возвратиться на базу, ссылаясь на то, что топлива осталось мало. Так как во время перехвата транспортного судна противника пришлось идти на больших ходах, из-за этого и повышенный расхода топлива. Он получил полное одобрение и информацию, что их сменят те два эсминца, которые тоже вышли на перехват судна.
Второй паре эсминцев тут же было передано такое распоряжение, так как они вышли полностью загруженными, и топливо у них в цистернах еще имелось. К тому же им не надо больше спешить – судно противника уже перехвачено и потоплено. И если дальнейший путь до турецкого побережья они пройдут экономичным ходом, то на два дня им топлива хватит, а там и их сменит другая пара эсминцев.
1
Репетичный корабль – корабль, специально назначенный для репетования (повторения) передаваемых сигналов, в том числе и радиосредствами.