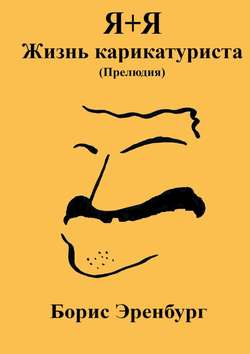Читать книгу Я+Я. Жизнь карикатуриста. Прелюдия - Борис Эренбург - Страница 2
ОглавлениеПосвящается мне самому
каким я был, каким я стал и каким я буду
когда (если) окончу эту книгу
а также моим родителям, моей жене
и моим доченькам
а кроме того всем тем, кого я упомянул
и о ком забыл упомянуть
да простится мне это
Моя фамилия – Эренбург. Не «Люди, годы, жизнь», разумеется: и люди иные, и годы не те, и жизнь другая. И вообще, с покойным Ильей Эренбургом я не встречался никогда. Впрочем, «с покойниками не встречаются»…
Должен предупредить: в этом повествовании (назову его пока поэмой в прозе, стихах и карикатурах) будет немало реминисценций из моих любимых авторов. Ведь к месту процитировать – одна из основ творческого процесса!
Так вот, я, Борис Эренбург, карикатурист серебряно – бронзового ряда, вдруг задумался. Видно, пришло время перетряхнуть, освежить свои воспоминания, перетасовать их, как колоду карт и сдать самому себе. И попытаться понять, что же получилось…
Кроме того, есть еще одна причина. Меня всегда до боли будоражит ощущение безымянности, неузнанности, одиночества. Какие массы наших братьев остаются непохороненными, а если похороненными – неопознанными, а если опознанными – никем не вспоминаемыми. А ведь каждый заключал в себе вселенную чувств, мыслей, обещаний…
Так и в нашей памяти. Мы встречаем множество людей, оставляющих в нас короткую вспышку полувзглядом, полусловом, полуделом… Две души соприкоснулись и вновь разошлись по своим орбитам, продолжая существовать в параллельных измерениях, полузабыв о том, что в каждой из них отныне заключена частичка сияния – тления – тьмы другой.
Как здорово сказал И. Бродский:
«…из забывших меня
можно составить город…»
Кстати, нечто подобное я испытываю и по отношению к вещам. Они для меня – как живые существа, и многие из них вполне заслуженно упомянуты здесь…
Иногда, когда я опускаюсь в прохладные нижние ярусы моей памяти, я встречаю тех, о ком не вспоминал долгие годы, а то и десятилетия. Они терпеливо и покорно ждут моего зова, и я вдруг с ощущением тяжкой вины понимаю, что вот о нем я не думал с тех пор, как покинул Россию, а вот о ней – и того больше.
А ведь с ним я четыре года сидел за одной партой, и однажды я ел у него дома жареных плотвичек, пойманных в речке Самарке его старшим братом…
А ведь ее лицо на черно-белой фотографии нашего класса я целовал тайком долгими детскими вечерами…
Вот поэтому то, что я пишу сейчас, лишь робкая попытка создать пантеон всех тех, кто зажег хотя бы малую звездочку на небосклоне моей души-вселенной, являющейся продолжением нашего общего макрокосма. Все эти малые и большие звезды разгораются, мигают, гаснут, образуют созвездия, галактики, системы.
Я понимаю, что это – Сизифов труд: попытка пересчитать звезды и дать им имена.
Однако в своем частном небе я сам себе хозяин и удостою внимания лишь то, что захочу, будь то черная дыра или белый карлик, крошечный осколок астероида или шумная комета, то ли прорезавшая темноту, то ли затмившая сияние моих небес.
Написать все это я решил давно. И вот сейчас, наконец, решился. Это поможет мне навести порядок в моих беспорядочных записях, записках, разобрать все, что лежит в коробках и коробочках, а уж потом… А уж потом я увижу, можно ли сделать из всего этого что-то интересное для других. Думаю, что можно…
Моя жизнь хоть и не Одиссея или Робинзонада, все же были в ней события исключительные, выделявшие меня из фона и даже делавшие известным не только ближайшему окружению. А тщеславие никогда не было мне чуждо. Что мне было чуждо всегда, так это чванство! Может быть, именно поэтому и отношения у меня с людьми обычно хорошие. Меня любят, да и я себя люблю…
Здесь уместно вспомнить фабулу одного рассказа, некогда читанного мною. Изобретен компьютер, записывающий, фильтрующий и складирующий в памяти человеческие жизни. Каждый может быть выслушан, но лишь то, что найдено необычного, оригинального и поучительного, заслуживает хранения в памяти машины.
К крайнему разочарованию героя рассказа, ни один из сюжетов его биографии не получает права на жизнь в памяти компьютера, настолько эта жизнь была банальна.
Так вот, надеюсь не оказаться в положении этого незадачливого старика – думаю, что мой рассказ заслуживает… впрочем, старик тоже так думал…
А если честно – вот уже около года я прохожу всякие процедуры и обследования:
Ты выбираешь позу так и сяк,
Чтоб чашу жизни дохлебать со смаком,
Вот тут-то жизнь тебя поставит раком,
И в теле заворочается рак…
Именно это на самом деле и подвигло меня взяться за перо.
Болезнь вроде и не угрожает уже унести меня раньше срока, но все же она – первый звоночек к длинному перечню всего, что может со мною случиться. Нечего далеко ходить – на днях я неожиданно умер. Умер ненадолго, не успев даже испугаться. Просто почувствовал вдруг, что нахожусь внутри собственного тела, не имея ни малейшей возможности управлять им: ни шевельнуть пальцем, ни издать членораздельный звук…
Будучи в кристально ясном сознании, я метался-крутился внутри черепа-саркофага.
Так мечется абсолютно целый танкист в подбитом, недвижимом, наглухо задраенном танке. Окружающее мелькало в амбразурах глаз и лючке полуоткрытого рта.
Через несколько секунд связь с телом начала восстанавливаться: вначале пальцы правой руки, затем сама рука, губы, голос…
Первые строчки вылились у меня в стихотворную форму, и добрался я по волнам рифм до переселения моего в Израиль. Все то, что произошло с тех пор, я еще не успел переварить, осмыслить и просмаковать. Собственно, этот переезд я считаю своим вторым рождением – а ведь смешно писать воспоминания, когда тебе за 30.
Стройность прозаической же части прерывается моей женитьбой, то есть на 19 году моей жизни. Из дальнейшего я позволил себе описать лишь сугубо избранное, и лишь то, что непосредственно держится корнями в прошлом. Дело в том, что мое Я постепенно превратилось в МЫ, и траектория моего повествования резко изменилась с изменением массы: два тела – две души – две энергии. А впрочем, дело не в женитьбе…
Только теперь я понял, почему Толстой ограничился «Детством, отрочеством, юностью»…
И не говорите мне о счастье созидания, об упоительности власти, о сладости плотской любви даже. Все эти радости зрелого возраста – лишь убогие попытки воссоздать утраченный рай. Я – родом из детства… Ведь детство – самый важный, серьезный и значащий этап в жизни любого. Весь дальнейший и долгий период взросления – на самом деле длительная агония, расплата за предыдущее блаженство – конечно, для того, детство которого было счастливым. Мое – было! Доказательство – сюжет из семейной мифологии, когда, в 3—4 летнем возрасте, я произнес: «Какая хорошая земля, что она дает такие красивые цветочки!». Только счастливый и в меру упитанный ребенок может выдать такое!
В пятидесятых, а точнее 25 июня 1955 года моя душа выбрала временным пристанищем мое тело, названное моим именем. Этим мистическим триединством даты рождения, трех с чем-то килограммов младенческой еврейской плоти и имени Борис (обрусевшее Барух – благословенный – в честь деда моей матери, погибшего от рук фашистов) продиктована сложная система связей, видения и восприятия мира и даже то, что я сижу сейчас и пишу эти строки.
Меня волнует и история тех лет, и фильмы той поры, и предметы того времени. Те годы были насыщены чертами, следами и знаками предшествовавших 30—40 лет, которые (черты, следы и знаки) впоследствии усиленно стирались и нашими, и не нашими из побуждений противоположных и в итоге исчезли с глаз долой – но не из сердца вон…
Из трех первых Ленинградских месяцев своей жизни я, естественно, не помню ничего.
Мои воспоминания начинаются с военно-морской базы Североморск, Мурманской области, где я 3—5 летним тесно «подружился» с матросами в казармах, с тренажерами на базе военных самолетов, с отцовским кортиком и с его же «Макаровым», приносимым домой до и после дежурств.
Помню я пикник на скалах, поросших мхом и травой. Помню белую ночь и внезапное появление сестры. Помню, что у меня часто менялись няни, и одну из них звали Нина. Помню, как на Новый год мне подарили игрушечную саблю, сломанную мною на сладующий же день в попытке перерубить завалинку двухэтажного деревянного дома. А вот кораблей я не помню совершенно…
Там, в Североморске, я начал заикаться, и возникновение этого дефекта, с переменным успехом сопровождающего меня до сего дня, я связываю с поездкой на военном грузовике через бурный поток.
Водитель, рядом с которым я сидел в кабине, напугал меня, шутя, что мы тонем… Родители предпринимали попытки вылечить меня от этого недуга: первый раз – в Бузулуке, у какой-то деревенской ведуньи, завязавшей на моем запястье ниточку и снабдившей святой водой, второй – в Уральске, на сеансе гипнотизера Виноградова, третий – в Челябинске, на этот раз силами конвенциональной логопедши.
Иногда, приходя со службы, отец приносил мне несколько листов чистой бумаги. Свои первые рисунки я хорошо помню, и даже помню, что они немного сердили отца.
Я рисовал человечков – видимо, солдатиков, но руки у них росли из талии, и отец никак не мог с этим смириться. Так начинался тернистый путь карикатуриста: с искажения действительности, будирующего мнение публики…
В Североморск отец получил распределение после окончания с отличием Военно-Морской Медицинской Академии, в Ленинграде, в 1955 году. Североморск был выбран из-за северного стажа: год за полтора, – вместо Севастополя, предложенного ему, как отличнику. Мечтал отец о научной карьере, но жизнь распорядилась иначе. Лучшие его годы были отданы армии, а после демобилизации он работал невропатологом в железнодорожной больнице Челябинска.
Родился он в Речице, Гомельской области, в 1926 году. Всего детей у Израиля Сендеровича Эренбурга (Еренбурга) и Шифры Данциг было четверо: мой отец Семен, его брат Самуил, утонувший в Днепре еще до моего рождения, дочери Броня и Люся (Лея-Ривка), моя любимая тетя до конца ее жизни.
Бабушку Шифру я не застал в живых. Знаю я ее лишь по фотографии, и она мне очень симпатична.
Был у дедушки в Речице брат, Мойше-Нахман. Одного из сыновей его звали, как и моего отца, Семен (Сендер), второго – Давид, дочь – Гита. Выражаясь языком Торы, Семен родил Мишу и Борю, Гита – Гену и Ольгу. Контакта особого с ними у меня не было.
Дедушка Израиль вышел из религиозной семьи, сам же был воинствующим атеистом. Он воевал в 1-ю Мировую, был контужен и провел два года в австрийском плену. Вернулся из плена с прогрессирующей глухотой, с которой не мог смириться до самой смерти. Дед не выносил слухового аппарата, и общался я с ним в основном посредством записок. Жил он в Речице на улице Урицкого, в половине дома, с садиком и огородиком. Все он делал сам: плотничал, столярничал, садовничал.
Хозяйство вела тетя Броня, его незамужняя дочь, всю свою жизнь прожившая рядом с отцом. Около дома цвели лилии, которые в Израиле называются «Кочующий еврей». На ватных подоконниках дозревали помидоры.
Давид однажды приехал из Прибалтики с дочерьми – красавицами Эллой и Люсей. Сейчас они живут в США. Существует пляжная фотография братьев, которую я именую «Три богатыря».
Вообще с отцовской стороны в Белоруссии: в Речице, в Гомеле, в Калинковичах, – было много родственников, которые периодически появлялись у деда в доме.
Однако я совершенно не помню, кто они были. Помню парня – по-моему, офицера, по имени Ким. Он жил по Урицкого, в квартале, прилегающем к Советской. Самое время хотя бы сейчас начинать строить генеалогическое древо, пока еще живы немногие, кто мог бы пролить свет на его нижние ветви – тем более, что две линии: отцовская и материнская, – родственны. Три поколения назад существовала огромная семья, в которой сменились и мать, и отец. Дети – не кровные – породнились, и одним из побегов явился ваш покорный слуга.