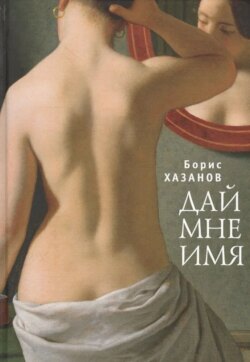Читать книгу Дай мне имя - Борис Хазанов - Страница 4
Из сборника
«Взгляни в глаза мои суровые»
Взгляни в глаза мои суровые
3
ОглавлениеВ эту ночь Василий Вересов, проживавший в последней секции окраинного барака, творил суд над ларешником, чья дерзость граничила с бунтом.
Ларешник был человек новый и в своей должности, и на лагпункте. Учли это, подождали, пока привыкнет. Отнеслись как к человеку. Пришли к нему – культурно, вежливо, хотя полагалось, чтобы он сам пришел и принес положенное. Не было на лагпункте человека, который не знал бы порядка: и каптер, и кладовщик, и заведующий пекарней – все платили дань.
В ларек пришел дневальный, так называемый Батя, хитрый мужик, служивший у Вересова чем-то вроде завхоза. Ларешник послал его подальше. Приходил вор Маруся – мрачный и тупорылый верзила. «Ты: курить есть? Пожрать есть?» Ларешник выжал Марусю за порог, на дверь навесил железную перекладину и огромный, как снаряд, замок. Опять разговора не получилось.
Подошли и стали крутиться возле крыльца два жучка – сквозь дыры в запахнутых бушлатах у них проглядывало голое тело. «Дяденька, дай сахару. Миленький, дяинька, в рот ты стеганный. Дай консерву». Зубы у них стучали от холода, оба приплясывали. Ларешник – ноль внимания.
Поздно вечером его подкараулили, взяли с двух сторон за руки, сзади третий обнадежил пинком в зад. Ларешник был высокий костлявый человек. Он попытался стряхнуть висевших на нем. Спустя некоторое время его втащили в секцию.
Там никто не спал. Когда в сенях отворилась дверь, оттуда раздался звериный вой: пятьдесят блатных, обливаясь слезами, пели каторжные куплеты – заупокойный гимн. Наверху, на верхних нарах, трясло лохмотьями, чесалось, грызлось и копошилось то, что на языке наших мест называлось коротким словом «шобла». Внизу сидели иерархические чины: Маруся, Хивря, слюнявый и гнилоглазый Ленчик по прозвищу Сучий Потрох и другие именитые люди.
Это был легендарный Курский вокзал, и так же, как не существовало лагпункта без начальников частей, надзирателей, стрелков, без духовного пастыря – начальника КВЧ, оперативногоуполпомоченного и начальника-самодержца, без единого, учрежденного раз навсегда порядка властей, чинов и подчиненностей, – точно так же невозможно было во всем Чурлаге найти подразделение, где бы не было рядом с официальной иерархией начальства иерархии воров, изнутри управлявшей лагпунктом.
У стены, прямо напротив входа, между нарами, стояла генеральская койка, застеленная тремя одеялами; вся стена над ней была оклеена картинками из журналов, серебряными и пестрыми бумажками и лоскутками цветной материи, а над изголовьем были распялены на гвоздочках большие и пыльные крылья птиц. На одеялах сидел Вересов, подвернув под себя ноги с жирными ляжками. На груди у Вересова висел оловянный крест, а в руках он держал гитару.
К нему подвели ларешника. Пение стихло.
«Тебе чего, землячок?» – ласково сказал Вересов, точно он ни о чем не знал. И, склонив набок голову, стал перебирать струны. Тут кто-то, подкравшись сзади, съездил ларешника по хоботу; ларешник обернулся и увидел вихляющуюся спину, спокойно удалявшуюся к дверям, Человек подтягивал на ходу заплатанные порты.
У порога он вдруг остановился, плеснул в ладоши и – тата-тата-тата-та!» – пошел задом, трясясь и воздев руки, дробя чечетку. На лице танцора застыло выражение экстатической мертвенной радости. Так он дошел, трясясь и обшлепывая себя, до койки генерала. Тот пнул его в тощий зад: «В рот стеганный!» Человек комически охнул, скосоротился и ползком убрался под нары.
«Ша! – квакнул Вересов. – Чтоб мне было тихо. – И ларешнику кротко: – Землячок, приближься».
Все замолчало. Генерал играл на гитаре. Он играл и пел сиплым утробным голосом: «Прощай, Маруся дорогая!» Чины изобразили на лицах сумрачную думу. Шобла благоговейно слушала.
Генерал рванул струны. Песня оборвалась.
«Та-ак, – сказал он раздумчиво и впервые удостоил пленника пристальным взглядом с головы до ног. – Так, – цыкнул в сторону длинной слюной. – Это как же, земляк, получается? Нехорошо, в рот меня стегать. Некультурно!»
Ларешник ничего не ответил. Генерал поерзал задом, устраиваясь поудобней.
«Ишь, сука, ряшку наел, – заметил он. – Подлюка, пес смрадный… Забыл, с-сука, – голос генерала окреп, – кто тебя кормит? Тебя, хад, народ кормит, трудящие массы. На ихнем хоботе сидишь! А ты сахару пожалел. Выходит, им с голоду помирать, да?»
«А кто платить будет?» – ларешник спросил, проглотив слюну.
«Молчи, хад, когда начальство разговаривает! Всякая падаль тут будет пасть раскрывать… – Вересов цыкнул слюной, ввинтил в пленника зоркие глаза. Помолчав, заговорил наставительно: – Слушай, земляк… Ты жить хочешь? Ты папу-маму любишь?»
Ответа не было. Склонив большую голову, Василий Вересов погрузился в думу над струнами.
Вдруг словно ток ударил генерала.
«Вот твоя мама! – заорал он и ткнул себя кулаком в жирную грудь. – И вот твой папа, – добавил он, – Слушай сюда… Ты кто: человек или яврей? Ты смотри мне в лицо, мне в лицо! Ты, может, в жиды записался? Тогда снимай шкары. Мы тебе сделаем обрезание. Верно я говорю, вошееды?»
«Жидяра! – отвечали согласно с нар. – Пущай шкаренки сымает…»
«Слушай сюда. Ты Васе правду говори, Вася лжи не любит… Ты как со мной жить хочешь: вась-вась? Или кусь-кусь?»
Сказав это, генерал склонил голову, и раздался жидкий дребезг струн. На нарах улеглись друг на друге, вытянули головы. Зрелище все больше походило на спектакль, ритуальное действо, разыгрываемое по определенному плану.
«Прощай, Маруся дорога-ая!» – снова запел Вересов, но тотчас умолк и строго воззрился на ларешника. «Ап-чхи!» – сказал он раздельно. Тотчас услужливая рука поднесла и вложила платочек в ладонь Вересова.
Генерал бросил платок на пол. «Подними».
«Ну?» – Голос генерала повис в воздухе.
Человек, стоявший перед ним, не шевелился.
«Та-ак, – констатировал Вересов. – Значит, кусь-кусь. Так и запишем. – И он утвердился на своем сиденье, подпрыгнув несколько раз, и картинным жестом обхватил гитару, точно фотографировался. Не глядя, коротко: – Снимай шкары!»
Ларешник косился по сторонам. Одно за другим он обводил взглядом лица, устремленные на него.
В это время сверху, рядом с койкой вождя, стали спускаться на пол чьи-то длинные ноги.
Костлявый верзила воздвигся рядом с генералом. Легкий ветер побежал по рядам. Это был знаменитый Рябчик, официальный супруг генерала, законный вор, первый после Вересова человек на лагпункте.
Вересов сладко улыбнулся.
«Чтой-то ты, земеля, туго соображаешь. Аль не дошло? – Глаза его блеснули.
– А ну, снимай штаны, кому сказано!»
Барак застыл в гробовой тишине. Ларешник весь подобрался, сгорбился. Втянул голову в плечи. Зубы у ларешника мелко стучали. Он не сказал ни слова.
Тогда все увидели, как прыщавый Васин подбородок повернулся к Рябчику. Вересов вознес к верзиле взгляд скорбного быка. Тот качнул коромыслом могучих плеч. Шагнув к пленнику, Рябчик уставился на него неподвижным взглядом дымных глаз.
Не спеша Рябчик оторвал от земли башмак и носком ушиб ларешника спереди по берцовой кости, ниже колена. Ларешник зажмурился и застонал.
«Терпи, земляк, для здоровья полезно, – голос гермафродита продребезжал с генеральской койки. – Угости-ка, мама, земляка еще разок».
«Мама» скосоротил физиономию и расставил ноги. Глаза Рябчика наблюдали с каким-то тусклым любопытством жертву. Он отвел назад крюком согнутую руку – ларешник попятился – «гх!» – верзила издал звук, с которым мясники рубят мясо.
Длинная фигура ларешника мгновенно выпрямилась, после чего он начал как-то странно заваливаться назад, хватая ртом воздух, однако не упал. И тут произошло нечто небывалое, невероятное и неслыханное.
Рябчик ждал, ларешник качался, развесив руки и отбрасывая длинную тень, достававшую до койки вождя: сейчас опрокинется. Вместо этого он нырнул вперед – кинулся, как кидаются на нож грудью, но каким-то образом миновал его. С ближних нар услыхали утробный звук. Струя вырвалась из недр. И что-то мерзкое и тягучее, пролетев в воздухе, влажно и веско шмякнулось на оловянный крест генерала. «Га!» – выдохнули на нарах.
В первую минуту вождь смешался. Он обвел недоуменным взглядом кровать, посмотрел на свои ноги и грудь. Снова взглянул на грудь.
Жемчужные сопли, жирно поблескивая, висели на кресте. Они еще качались.
Ларешник харкнул на генерала! Ларешник промазал. Надо было взять чуть выше.
Василий Вересов поднял глаза на мерзавца, они были белые, как слизь. Молча выпростал жирные ноги, отставил гитару. Знаком руки, не глядя, осадил Рябчика.
Дневальный Батя, покойно сидевший на приступочке возле двери, цыкнул слюной сквозь дырку в зубах и быстро перекрестился. «Сам, сам», – как шелест пронеслось по рядам. Вождь слез с кровати и сам пошел на ларешника. Спектакль кончился, – было очевидно, что генерал лишился речи от гнева и небывалого в его жизни изумления.
Но не дойдя двух шагов, вождь остановился. Выкатив драконьи глаза, вобрал в себя воздух, выпятил зад. Дохнул огнем:
«Прощай, Маруся дорогая!» – Вересов пел свою любимую песню низким, сиплым, утробным голосом. Вересов пел погребальный гимн.
Это был как раз тот момент, когда банщик, дойдя до последнего крыльца, хрипя и кашляя, поднимался по ступенькам. Через минуту заскрипела тяжелая дверь; он вошел в секцию, задыхаясь, сгорбленный и покрытый снегом.
Никто не обратил на него особого внимания. Старика Набиркина знали в Курском вокзале. Он стал было отряхивать валенки, как вдруг увидел ларешника и, охнув, затрусил на выручку.
Старик бросился к Вересову. Поздно: бык успел пронзить свою жертву рогами. Теперь он топтал ее копытами. Уже не было возможности заставить обидчика омыть поруганную святыню, вылизать ее своим языком: ларешник лежал неподвижно, уткнувшись в пол лицом, с закинутыми над головой руками, и изо рта у него текла кровь. «Вась, а Вась. Да ладно, Вась. Да… с ним, Вась», – повторял горестно старик, цепляясь за рукав генерала, который все еще, пыхтя, рвался в бой.
Мама-Рябчик, в чьих услугах более не нуждались; сидел на нарах, равнодушно покачивая длинными ногами в циклопических башмаках. Вождь разрешил отвести себя назад, на койку. Некто Ленчик, именуемый Сучий Потрох, отправился в санчасть за лепилой.
Лепила пришел, это был пожилой, спокойный человек в очках, в далекой юности он учился года полтора на медицинском факультете. Он присел на корточки перед лежащим, повернул ему голову и стал хлопать по щекам.
Усевшись на койку, генерал вытащил из кармана соленый огурец. Генерал хряснул его зубами, и звук и запах лопнувшего огурца разнеслись по секции. Дернулись кадыки – вся шобла разом проглотила кислые слюни. Пятьдесят человек, для которых голод был профессией, жрали огурец вместе с Васей глазами и кишками, врубались в мякоть Васиными зубами, провожали быстро уменьшавшийся огурец, сосали и глотали сок. Никому уже не был интересен ларешник, который волочился к выходу, вися на плечах у двух провожатых и уронив безжизненную голову на грудь.
Набиркин побрел за Вересовым, уныло кашляя, таща по полу разбитые свои валенки. От них тянулись мокрые следы.
Дрожащей рукой он старательно расстегнул одну за другой пуговицы бушлата и полез вглубь, во внутренний карман, где хранилось у него то, что так хитроумно и незаметно пронес он через вахту. Старик принес Васе положенное. В полутьме, под сенью развешанных пыльных крыльев, генерал принял дары – две пачки цейлонского чая и поллитровку водки, купленную у колхозниц, которые кормились в поселке для вольнонаемных.