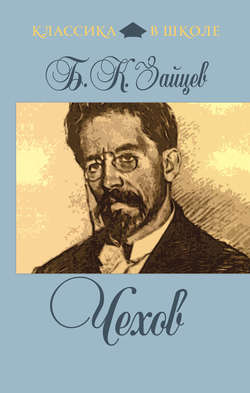Читать книгу Чехов - Борис Константинович Зайцев - Страница 3
«Доктор Чехов»
ОглавлениеЕще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городке Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него «Расписание делов и домашних обязанностей», ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов: Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторную, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могли приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль – и по медицинской части, и по литературной.
Это прелестные места. Мягкий и светлый подмосковный пейзаж, в нем заштатный городок с широкими улицами, церквами, в полутора верстах монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба («особенность Нового Иерусалима», отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение).
Недалеко и Звенигород, на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса; средь темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь – св. Саввы Звенигородского. Собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя и над лугами, и над лесами. Его белый, древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден, похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей остается ощущение простора, света, благообразия.
С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском, у врача Архангельского. Это разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам; видимо, много и молодежи.
Все они, на собраниях у Архангельского, за самоваром, вели «либеральные разговоры». «Салтыков-Щедрин не сходил с уст – им положительно бредили».
Занимался всем этим, конечно, и Чехов, может быть и подтрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал, больше наблюдал и наматывал себе на ус.
Позже, в 1884 году, уже врачом, трудился в самом Звенигороде – заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания (на которое он смотрел тогда еще очень скромно). Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами «Хирургия» родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связаны «Сирена», «Мертвое тело» – приходилось ездить со следователем и на вскрытия.
Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в пяти верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомилась с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша, – и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева.
Знакомство оказалось для всех Чеховых очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным.
Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен П. Д. Киселева, как бы провозвестника освобождения крестьян. Человек культурный и просвещенный, либеральный барин восьмидесятых годов, довольно легкомысленный и привлекательный. Всегда в долгах: Бабкино закладывалось и перезакладывалось. Надо было доставать деньги, платить проценты. (Корни «Вишневого сада» именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда. Но «место в банке» Гаева – нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев.) Мария Владимировна, жена его, по культуре – его уровня, но серьезнее и основательней. Занималась отчасти и литературой, писала для детей.
В этом Бабкине Чеховы дачниками провели три лета: 85, 86 и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами. Вблизи река. Отдельный флигель – собственно, целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не «Осколки». Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он, как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче, – это одно, а Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжавшими сюда, музыкантшами – как г-жа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков, – это другое. Где-то на горизонте Чайковский, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых. И наконец Левитан, вначале живший в трех верстах в деревне Максимовке «на этюдах», снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился «в маленьком флигельке» (были в Бабкине флигеля и большие и малые).
Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы: брат Николай учился с ним вместе в Училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная окаймляющая бородка, поэтически разметанные на голове волосы – подчеркнутый художник, ему бы ходить в бархатных куртках, с бантом-галстухом романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец-богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова – сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж.
Молодой Чехов гораздо сильнее и крепче, замкнутей, мог казаться и холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастенику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основание будущей своей славы – век его, как и Чехова, оказался кратким.
С Чеховым все три бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. «Портрет Чехова работы Левитана» показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий «сумеречный» Чехов – скорее народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко.
В повседневности же может придумать такую, например, вещь: после дня, когда писал какого-нибудь «Налима» или «Дочь Альбиона», лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен в наступающей ночи, под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку – будить и пугать Левитана. Надевают высокие сапоги, хлюпают по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана (он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер). Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты.
Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, «доктор Чехов» прибил над дверью вывеску:
Ссудная касса купца Левитана.
И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. (Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уж в могиле.)
Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве и лечить направо и налево, но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска, он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. «Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел вешаться». Чехов его «прогуливает».
«Словно бы легче стало» – жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшей особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже – «Над вечным покоем» помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле.
* * *
Кроме Левитана и старших Киселевых были у Чехова в Бабкине и еще приятели: Киселевы-дети, Саша (девочка) и Сережа.
В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям! Ему всего двадцать шесть – двадцать семь лет. Он еще сам кипит жизнью, это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет. И они любят его.
Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорей шуточки, придумыванье игр, вообще то, что интересно детям.
След внимания и любви, дошедший до нас, – произведение «Сапоги всмятку», милая чепуха, но довольно обширная, написанная именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь; вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей-детей. Мало того что написал – там рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой.
Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие.
Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному, у него много прозвищ: Грипп, Коклюш, Коклен Младший, Финик, Котафей Котафеич. Но всегда с сочувствием. «Прекрасной Василисе и любезнейшему Котафею Котафеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита» (1889). «И желаю обитателям милого, незабвенного Бабкина… всего хорошего (1894). Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина…» (1895).
В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской-Садовой, а Сережа поступил в 1-й класс гимназии и поселился у Чеховых нахлебником, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившейся (не заболел ли? как себя ведет?), вот как изображает жизнь Финика: «Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса: это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видел и тени такого, что могло бы заставить меня призадуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого». В конце письма – «поклон Василисе» (Саша жила еще в Бабкине).
Первая его встреча и дружба с детьми – это именно с киселевскими.
* * *
Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу! Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино к Киселевым, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры: весной уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднения находят новую. В 1885 году живут на Сретенке, в 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888-м адрес опять новый: Кудринская-Садовая, дом Корнеева.
На эти дачные переезды сейчас улыбаешься, но и в нашей юности все это было: два-три навьюченных «добром» воза с кухаркой наверху на переднем – она держит обожаемого кота, или ей для удобства поставлен диван, она восседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз.
Господа едут не на этих возах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например, путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино, всего несколько десятков верст: на станции наняли лошадей, дорога ужасная, плелись шагом. «В Еремееве кормили. От Еремеева ехали до города часа 4 – до того мерзка была дорога». Переправлялись через реку, сам Антон Павлович, поехавший вперед (дело было уже ночью), чуть не утонул и выкупался. «Мать и Марью пришлось переправлять на лодке». «В киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж… Ожидание». В Бабкино приехали в час ночи.
Зато само Бабкино очень вознаградило их тогда и, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда.
Жизнь же семьи в Москве всё больше и больше окрашивалась Антоном Павловичем. Явно становился он главой семьи, даже с ранних студенческих лет, не говоря уже о времени, когда обратился в «Доктора А. П. Чехова». Стиль Павла Егорыча окончательно выветрился, заменился духом Антона Павловича. Брат Михаил прямо об этом говорит: «Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда». «Нужно быть справедливым». «Не надо лгать».
В этой же линии нужно поставить и одно письмо Антона Павловича брату, редкостное в его переписке по серьезности тона и некоей назидательности – чуть ли не проповедь. В то же время и прямое высказывание о себе.
Дело идет как будто о защите воспитанности и нападении на невоспитанность, но обзор получается шире. В восьми пунктах перечисляется, каковы люди воспитанные. Они уважают человеческую личность, снисходительны, мягки, уступчивы. Сострадательны «не к одним только нищим и кошкам». Платят долги. Боятся лжи и громких фраз. Если талантливы, то с талантом своим обращаются бережно, «уважают его». Для него «жертвуют женщинами, вином, сценой». Понимают, что талант обязывает – «они призваны воспитывающе влиять». Соблюдают благоообразие быта: не спят в одежде, враги клопов, не ходят по «оплеванному полу» (уровень окружения Чехова).
Дальше оказывается, что «воспитанные» люди и в любви особенны: «От женщины им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью». (Это писал молодой человек двадцати пяти лет, почти всю дальнейшую свою жизнь проживший холостяком, – детей он любил, но своих не было, а женился в конце дней на актрисе, а не матери и тосковал, что нет ребенка.)
Есть еще добавление: «Они не трескают водку».
Вообще же все в этом письме «очень Чехов». Собственно, изображение того, чего он хочет и чего не хочет от человека. «Воспитанность», «воспитание» тут понимаются очень широко, много шире обычного. Точнее бы сказать: борьба с собой, выработка некоего образа, усилие воли. Воля, то, чего часто нет у чеховских людей, у него самого как раз была, и над собой он много работал – об этом позже скажет жене, – своею жизнью подтвердил заключительные строки письма: «Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды… нужны беспрерывный, дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час».
Сдержанный, замкнутый, доброжелательный, изящный человек без лжи, фраз, ходуль… – этого он и желает. Это есть сам Антон Павлович Чехов, который упорно себя возделывал и добился многого, но которому были уделены и дары, не только литературные, не от него зависевшие. Понимал ли он это или все приписывал себе? Может быть, Бог больше любил его, чем он Бога.
Так ли, иначе, письмо имеет отношение к братьям Александру и преимущественно Николаю, художнику (ему и адресовано).
Оба они, Николай в особенности, оказались в некоем роде крестом Антона Павловича. Он обоих любил, но черты грубоватости, неряшества, неумение владеть собой раздражали.
Оба были алкоголики. Про Александра Антон Павлович прямо говорит: пока трезв – тих, добр, скромен. Выпьет две рюмки, начинает врать Бог знает что, становится заносчив, резок, может оскорбить… Николай в письме занимает главное место – все эти «уходы» из семьи («с вами жить нельзя»), возвращения, пышные фразы, бестолковщина, столкновения с отцом, художническая распущенность…
Александр в конце концов женился, получил место в таможне, но потом бросил службу и тягостно бился около литературы в суворинском «Новом времени». Знаменитый брат вполне заслонил его.
На фотографии этот человек в очках, с окладистой, но подстриженной бородой, бездарным бобриком на голове, в крахмальной рубашке того времени являет облик захудалого чиновника 80-х годов: жена, много детей, беспросветная жизнь… – а в действительности он был очень образован, выше своей среды и с «запросами», но недаровитый – семейная одаренность Чеховых блеснула (позже) в его сыне Михаиле, замечательном актере.
Николай теснее связан с семьей, с ним и приходилось больше возиться, укрощать, сдерживать, заглаживать недоразумения.
Семейных забот оказалось у Чехова в эти переходные годы немало.
* * *
«Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля».
Это пишет молодой врач, адрес его такой: Сретенка, Головин пер. Д-ру А. П. Чехову.
«Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют».
Большая разница с полуподвальным этажом квартирки на Грачевке, где спали на полу вповалку. У Евгении Яковлевны, случалось, весь капитал четыре копейки, за учение Маши платят чужие. (И когда в первый раз заплатил Антон Павлович, это была большая победа.)
Теперь явился даже достаток. На извозчика тратит больше рубля в день! Улыбаться тут не приходится. В те времена за гривенник, пятиалтынный можно было в Москве далеко уехать – от кольца Садовых в центр бесспорно, так что горделивое «больше рубля» понятно: значит, практика уже немалая.
Медицина прошла через всю жизнь Чехова, и до конца сохранил он к ней уважение. Считал даже, что и как писатель многим ей обязан – тут очень преувеличивал. Трезвость ума, да и здравый смысл были у него природные, от воронежских прадедов. А вот вера в науку, вера довольно наивная, как тогда полагалось, подменявшая наукой религию, к сложению его облика отношение имела. Да и окрашивала самый характер его образованности.
Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт. Кого-кого врач не увидит, сколько узнает человеческих обликов, положений жизненных, бед, страданий, горя. Так что для «писателя Чехова» большой простор.
Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия. Странным образом многие эти земские «материалисты», зачитывавшиеся Дарвиным (сам Чехов зачитывался: «…читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю»), – они-то нередко оказывались ближе к доброму Самарянину, чем иные православные.
Этот завет русского врачевания – нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда: он подходил к его характеру и облику. За всеми шуточками и остротами чеховской молодости лежало понимание горя и сострадание. Голова могла быть полна Дарвином, из сердца никогда не уходил дух Евгении Яковлевны.
Как ни полезна была для него медицина, все же надолго в ней удержаться он не мог. Практикой занимался недолго.
Внешних поводов для этого оказалось как будто два: раз вышло так, что больному он прописал лекарство, потом занимался и другим делом, время шло, но вот к вечеру стало томить беспокойство: что-то – то, да не то. В рецепте были граммы, а где поставлена запятая? Напрягая память, вспомнил, проверил в справочнике: да, ошибся. Надо не там поставить запятую, прописано бессмысленно. Если аптекарь сообразит, будет конфуз врачу. Если же не сообразит и приготовит, то совсем плохо.
Около полуночи, вместе с тем братом Михаилом, который об этом и рассказывает, взяли они лихача, помчались на другой конец Москвы разыскивать пациента. Вероятно, очень его удивили поздним налетом. Рецепт не был еще отослан в аптеку, и все прошло гладко, но не такой был человек Чехов, чтобы успокоиться: добросовестность и добропорядочность слишком прочно сидели в нем. Неприятный след остался.
Другой случай говорит о том, что, быть может, и вправду, под внешне здоровым и крепким обликом было в Чехове нечто настолько нервное, остро переживающее, что для врача не годится: это слишком.
Он лечил целую семью. Четверо болели тифом. Умерла мать и взрослая дочь. Отходя, дочь эта взяла руку Антона Павловича, так и скончалась, не выпуская ее. «На писателя это произвело такое сильное впечатление, что вывеска («Доктор А. П. Чехов») была снята с двери и больше уже не появлялась никогда».
Вряд ли, однако, оставил он медицину (как профессию) из-за таких вещей. Вернее – из-за того, что сидевшее в нем писательство было сильнее. Талант не дает покоя и не может его дать. Талант есть некое беспокойство. Или это не талант, а любительские способности, т. е. не роковое, а случайное, или же, если правда талант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половинки. Все или ничего. Чтобы что-нибудь из литературы вышло, надо отдать ей жизнь.
Дар Чехова был так жив, бесспорен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А «где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».
Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены». Сказки эти шли еще под именем Антоши Чехонте. Но времена Лейкина и «Осколков» кончились, о «Сказках Мельпомены» Чехов не любил вспоминать. И уже из-под них вырастали «Пестрые рассказы», первый облик настоящего Чехова. Книжечка эта, в коричневом дешевеньком переплете, впервые показала многим (среди них и одному гимназисту в глуши России, с тех пор навсегда покоренному) нового прекрасного писателя: Антона Чехова.
А тот, кто написал ее, не мог уже сойти со своего пути. Доктор Чехов кончался.