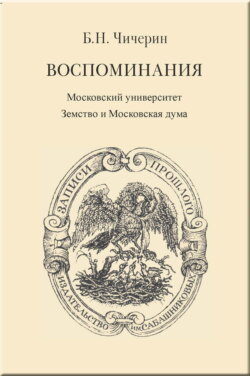Читать книгу Воспоминания. Том 2. Московский университет. Земство и Московская дума - Б. Н. Чичерин, Борис Николаевич Чичерин, Владимир Герье - Страница 3
Московский университет
Занятия и путешествие с наследником
ОглавлениеЛетом 1862 года я получил от графа Сергея Григорьевича Строганова, бывшего в то время попечителем наследника Николая Александровича, следующее характеристическое для него письмо:
«Милостивый Государь, Вы не удивитесь, если в стремлении к добросовестному исполнению своего долга и в надежде на успех, я ищу приблизить к государю наследнику людей, которых считаю наиболее способными содействовать успехам его занятий, и отдаю предпочтение тем, кто своим заслуженным авторитетом может лучше других способствовать нравственному его развитию. Будучи исполнен чувства доверия и уважения к Вашим первым опытам университетского преподавания, я предлагаю Вам, Милостивый Государь, не отказать принять на себя чтение курса государственного права е. и. в. наследнику-цесаревичу. Согласно программе его занятий, курс этот намечен на первый триместр 1863 г. Молодой великий князь прошел в прошлом году курс энциклопедии права с профессором Андреевским; в настоящем году он штудирует гражданское право с г. Победоносцевым.
Если Вы согласны на мое предложение, я снесусь с Вами относительно утверждения программы, которую Вы составите. Считаю нужным Вас уведомить, что при прохождении государственного права часть времени должна быть посвящена изучению английской конституции и французского административного строя.
В случае, если бы какие-либо личные причины не позволили Вам дать положительный ответ, я просил бы Вас оставить между нами настоящие переговоры, о которых я сообщил только отцу молодого человека»[31].
Мне уже не в первый раз делались подобные предложения. Еще в 1859 году, до назначения графа Строганова попечителем наследника, когда после отставки Титова не знали куда обратиться, я за границею получил письмо от баронессы Раден, которая от имени великой княгини Елены Павловны спрашивала меня: не возьму ли я на себя руководить занятиями великого князя? Тогда я отвечал решительным отказом, говоря, что, при моей полной неопытности в деле преподавания, я не могу взять на себя руководство чьими бы то ни было занятиями, а тем более наследника русского престола. И теперь я чувствовал себя мало подготовленным к этому делу. В университете я прочел всего только один курс, и то краткий, содержавший в себе большею частью только историю политических учений. Подробный курс государственного права, какой от меня требовался, далеко еще не был у меня выработан. Тем не менее, при скудости наших ученых сил, я не счел возможным отказаться и отвечал графу Строганову, что, несмотря на некоторые опасения за достаточную свою подготовленность, я постараюсь сделать, что могу.
Выше я уже говорил, что первоначальное воспитание наследника оставалось в непростительном пренебрежении. Бывший при нем воспитатель Н. В. Зиновьев, несмотря на то, что он был директором Пажеского корпуса, сам не имел никакого образования и, по-видимому, не считал даже нужным дать надлежащее умственное развитие вверенным ему питомцам. С своей стороны, родители не заботились о восполнении этого пробела. В младенческие годы эта забота, конечно, должна была лежать на матери, и в этом отношении русское общество возлагало все свои надежды на императрицу Марию Александровну. Она не любила ни светской жизни, ни роскоши, ни нарядов, не требовала этого от других и сама одевалась просто и жила уединенно. В этом отношении она представляла резкий контраст с своею предшественницею, Александрой Федоровной. Когда посторонним удавалось иногда видеть ее еще великою княгинею, скромно одетою и окруженною детьми, она производила самое отрадное впечатление. Говорили, что она вся погружена в семью и занимается исключительно воспитанием детей. Впоследствии оказалось, что ожидания были напрасны. Императрица Мария Александровна бесспорно была женщина умная, образованная и с возвышенным характером. Воспитанная в скромной доле, она с первого раза привлекла к себе внимание тогдашнего наследника Александра Николаевича, когда он поехал за границу отыскивать невесту. Сделавшись его женою, она не возгордилась и перенесла на престол привычки своей уединенной молодости. Будучи характера несколько холодного и сдержанного, она не обладала той приветливостью, которая имеет дар обвораживать сердца, но общественную свою роль она играла умно и с большим достоинством, а в тесном кругу она была чрезвычайно приятна. Разговор у нее был умный, тонкий, живой, в сношениях проявлялась мягкость и обходительность. Окружающие ее любили, а некоторые из детей, в том числе старший, относились к ней особенно нежно. Но все эти высокие качества подрывались одной чертой, которая парализовала их в самом корне. У нее была изумительная инерция, которая делала ее неспособной к какой бы то ни было деятельности. Выйти из обычной колеи было для нее подвигом, стоившим неимоверных усилий. Я слыхал об этом разные характеристические анекдоты. Так, в виде иллюстрации, баронесса Раден рассказывала мне, что однажды она была у императрицы с великою княгинею Еленою Павловною. Выходя оттуда, они прошли мимо залы, где выставлены были разные картоны, и господин в мундире расхаживал как бы в ожидании посетителей. Оказалось, что это были снимки с древних византийских икон, привезенные с Афона Петром Ивановичем Севастьяновым. Великая княгиня, с своим пылким нравом, с своим живым интересом ко всяким проявлениям мысли, тотчас этим заинтересовалась и провела целый час в осмотре этих копий. Тут же посетительницы узнали, эти снимки были выставлены во дворце вследствие желания императрицы, которая от кого-то слышала о путешествии Севастьянова на Афон и при свойственной ей ревности к православию захотела видеть привезенные имобразцы. И вот уже десять дней они стояли в залах Зимнего дворца, и каждый день с утра до сумерек несчастный Севастьянов в мундире ожидал посещения императрицы; каждый день императрица проходила мимо залы, но не находила удобной минуты, чтобы взглянуть на снимки. Тогда великая княгиня взялась устроить это дело. Она вернулась к императрице и так живо представила ей весь интерес выставки, что посещение, наконец, состоялось, и Севастьянов был отпущен.
Еще поразительнее то, что мне рассказывала Анна Федоровна Аксакова[32]. В Ницце, во время последней болезни наследника, но еще до окончательного кризиса, императрица жила на villa Bermond и каждый день навещала сына после катанья. Случилось, однако, что он почувствовал себя несколько хуже и именно в эти часы стал отдыхать. Императрица выразила Анне Федоровне, как ей досадно, что она всегда заезжает в то время, когда он спит, и сколько дней уже она не может его видеть. – «Да отчего же Вы не поедете в другой час?» – спросила та. – «Нет, это мне неудобно», – отвечала императрица. И это был любимый сын, который сам с нею сблизился и жил с нею душа в душу. Мне рассказывали, что однажды, еще будучи ребенком, он взял свои игрушки и пошел играть в комнату матери. С тех пор она его особенно полюбила, по его, а не по ее инициативе.
При такой инерции забота о воспитании детей, требующая постоянного и неусыпного внимания, конечно, отходила на второй план. И в этом отношении я слышал характеристические анекдоты. Князь Николай Иванович Трубецкой рассказывал мне, что однажды, приехав в Петербург, он отправился представляться во дворец. Ему сказали, что государь на экзамене младших детей. Из этого он заключил, что если государь, обремененный делами, присутствует на экзамене, то императрица подавно там; но так как он уже напялил мундир и приехал во дворец, то он пошел к ней расписаться. К крайнему его удивлению, ему сказали, что императрица принимает, и пока он у нее сидел, пришел государь и стал рассказывать об экзаменах.
Но тут все-таки проявлялось какое-либо участие. Это было уже в позднейшую пору, когда догадались, наконец, что без учения детей оставлять нельзя. К начальному же воспитанию наследника не было приложено даже и этой заботы. Он был уже взрослым мальчиком, а, между тем ровно ничего не знал. Тогда только спохватились, что так продолжаться не может, и состоявший при нем Зиновьев был уволен; назначили Титова. Я уже сказал, как добрейший Владимир Павлович, лишенный всяких педагогических способностей, разом завел преподавание высших наук, когда надобно было начинать едва ли не с азбуки. Попытка вышла неудачная. После отставки Титова решились взять бывшего преподавателя великого князя Константина Николаевича – Гримма. Как настоящий немец, он начал с начала и в год-другой успел сообщить молодому человеку, по крайней мере, элементарные сведения, которые давали ему возможность, при некоторых способностях, слушать высшие курсы. Серьезные занятия начались, когда наследнику минуло 16 лет, и попечителем к нему назначен был граф Строганов.
Нельзя было сделать лучшего назначения. Из всех высокопоставленных лиц, между которыми предстоял выбор, граф Строганов был единственный человек, не только вполне просвещенный, но и с живым интересом к преподаванию, и притом с характером, способным внушить к себе уважение и приобрести нравственный авторитет над умом впечатлительного юноши. Пребывание его попечителем Московского учебного округа оставило по себе яркий след. Он знал всех преподавателей и довольно верно умел их ценить. Как только он вступил на свою новую должность, он с жаром принялся за свое дело, которое приходилось ему по сердцу, и которому он отдал всю свою душу.
К наследнику были приглашены лучшие профессора из Петербургского и Московского университетов: из Петербургского – Андреевский и Стасюлевич, из Московского – Соловьев, Победоносцев и Бабст. Из Троицкой академии вызван был Кудрявцев для преподавания истории философии, которую граф Строганов считал необходимым элементом серьезного образования. Победоносцев и Бабст сопровождали наследника в летних путешествиях по России, предпринимавшихся ежегодно с целью ознакомить царственного юношу с страною, которою он призвал был управлять. Подобные путешествия были в обычае и в прежнее время, но приглашение в свиту ученых было нововведением. Победоносцев должен был объяснять учреждения, Бабст экономическое состояние края. Не забыта была и художественная сторона, которою граф Строганов особенно интересовался. По этой части с ними путешествовал Боголюбов.
В начале сентября 1862 года вся эта кампания уже на обратном пути приехала в Москву. Графу Строганову очень хотелось, чтобы наследник посетил некоторые университетские лекции. Но после недавних историй опасались каких-нибудь демонстраций со стороны студентов, а потому он с горестью отказался от этого предположения. Нас всех, прежних и приглашенных вновь преподавателей, собрали на обед, где я в первый раз увидел своего будущего слушателя. Он произвел на меня самое выгодное впечатление. Высокий, стройный, красивый, при этом умный, живой и приветливый, он мог очаровать и привязать к себе тех, кто к нему подходил. Вся окружающая атмосфера дышала каким-то задушевным и возвышенным строем. Чуждый всяких претензий и не любя пошлости, граф Строганов всегда заводил разговор о предметах серьезных, а тут было кому его поддержать. Беседа была живая и непринужденная; рассказывали о своем путешествии, о том, что видели и слышали. Я уехал исполненный светлых надежд на будущее.
Тут же я представил графу Строганову свою программу. Он вполне ее одобрил, и в конце декабря я переехал в Петербург, чтобы с января начать уроки.
Программа была в сущности та же самая, которой я следовал в университетских лекциях, хоть я и не надеялся всего исполнить в один семестр. Я начинал с истории политических учений, которую я считал необходимым введением в курс государственного права, затем я переходил к общему государственному праву и заключал политикою, предупреждая, впрочем, что в полгода я едва ли успею дойти до последней, как и оказалось на самом деле. Уроки назначены были по три раза в неделю, по часу. Это были изустные лекции, но я заранее писал их и оставлял тетради наследнику для повторения. Неизменным посетителем был граф Строганов, который не раз выражал мне свое одобрение. Всегда присутствовал и состоявший при наследнике Рихтер. Раза два-три приходила императрица, которая, заинтересовавшись со слов великого князя моим преподаванием, пожелала меня послушать.
После нескольких лекций граф Строганов объявил, что надобно сделать репетицию. Я сказал наследнику, чтобы он приготовился по моим тетрадям к назначенному дню и собственными словами рассказал бы мне вкратце все доселе прочитанное. Задача была нелегкая. Изложить кратко и ясно целый ряд учений, большею частью с философским содержанием, не всегда под силу даже не совсем дюжинному уму. Любой студент над этим бы призадумался. А, между тем, великий князь исполнил это так отчетливо, последовательно и даже изящно, что ничего лучшего нельзя было желать. И я, и присутствовавший при репетиции граф Строганов остались в полном восторге. Мы тут же с радостным чувством поздравили друг друга. То же впечатление произвели на нас и другие репетиции. Самые отвлеченные мысли, категорический императив Канта, философское учение Гегеля легко усваивались даровитым юношей, которого природные способности и восприимчивый ум восполняли недостаток первоначального обучения.
Одно, чего я не мог добиться, это – чтения. Я говорил и великому князю, и графу Строганову, что для образования ума мало одних лекций, необходимо прочесть, по крайней мере, важнейших политических писателей. Но придворная жизнь и в особенности беспрерывные парады и смотры налагали неодолимое препятствие всяким постоянным занятиям в этом роде. Даже граф Строганов ничего тут не мог поделать. Я убедился, до какой степени полезно немецким князьям пребывание в каком-нибудь провинциальном университете, где ничто не мешает занятиям, и где несколько лет юности могут быть плодотворно посвящены умственному труду. Живя в Петербурге, среди придворного водоворота и военных упражнений, это решительно невозможно. Великий князь успел прочесть кое-что из Макиавелли, который произвел на него сильное впечатление, но до Монтескье, а еще более до новейших писателей он не добрался. Я, впрочем, не отчаивался, что со временем найдется свободное время и для более усидчивого чтения, тем более, что с окончанием лекций наши сношения не прекратились. При прощании граф Строганов сказал мне, что на следующий год наследник предпримет путешествие за границу, и он надеется, что я не откажусь ехать с ними.
Погруженный в свое преподавание, готовя не только каждую отдельную лекцию, по мере того, как я их читал, но и часть будущего курса, еще не читанного в университете, я мало посещал петербургское общество. Но меня заинтересовали открывшиеся в то время заседания петербургского дворянского собрания, на которых обсуждались животрепещущие вопросы дня, в особенности предполагаемое устройство местного управления. В первый раз в России я видел чисто парламентскую обстановку. Губернский предводитель, граф Петр Павлович Шувалов, председательствовал отлично. Каждый оратор, в свою очередь, выходил на середину залы, говорил свою речь, не прерываемый никем, и все шло так чинно и стройно, что можно было только любоваться этою вовсе не обычною в наших дворянских собраниях процедурою. Но под этими строго парламентскими формами скрывалась крайняя бедность и талантов и содержания. В Москве было несколько человек, которые умели хорошо говорить: Юрий Самарин, Черкасский, Голохвастов; в Петербурге все ораторы, которых мне довелось слышать, царскосельский предводитель Платонов, Андрей Шувалов, Григорий Щербатов, Орлов-Давыдов, Николай Михайлович Орлов, бывший калужский губернатор Смирнов, были ниже посредственности. Самое содержание речей далеко не искупало недостатка формы. Когда люди знакомые с практическим делом обсуждают какой-нибудь жизненный вопрос, прения получают интерес помимо всякого красноречия. Здесь же все ограничивалось тою неопределенною фразеологиею, к которой прибегают ораторы, в сущности не знающие, чего хотят.
В то время петербургское дворянство, так же, как московское, представляло в себе то странное сочетание дворянских притязаний и напускного либерализма, которое составляло довольно естественную принадлежность людей, внезапно выбитых из обычной колеи и недоумевающих, куда им идти. Между тем как большинство провинциального дворянства, примирившись с своею судьбою, работало на месте, приводя в исполнение «Положение 19 февраля» и стараясь, по возможности, устроить свой хозяйственный быт, столичные дворянства волновались по – пустому и становились в оппозиционное отношение к правительству, освободившему крестьян. Они домогались каких-то прав, но не сознавали ясно ни своих целей, ни своего положения.
Отказ государя принять адрес московского дворянства, просившего земского собора, подействовал несколько отрезвляющим образом. Петербургское хотело держаться строго законной почвы; но тогда уже исчезал всякий повод к оппозиционным выходкам. Самодержавное правительство производило одну либеральную реформу за другою. Судебные уставы, земские учреждения, городовое положение могли удовлетворить русское общество. Истинно либеральным людям оставалось только поддерживать правительство всеми силами в его благих начинаниях. Можно было не соглашаться с теми или другими частностями, желать того или другого улучшения, но добиться этого было гораздо легче, оказывая поддержку правительству, одушевленному желанием блага, нежели становясь к нему в систематическую оппозицию. Поэтому дворянские стремления того времени, какою бы мантиею они ни прикрывались, в какой бы форме ни выражались, не могли найти сочувствия в людях, серьезно смотревших на положение России. Это было либеральничанье в пустоте, которое должно было остаться бесплодным.
Эти бесцельные стремления были тем менее уместны, что в то время уже выдвигался вопрос, который должен был иметь решающее значение для всего нашего общественного развития. В Польше вспыхнуло восстание.
Оно подготовлялось давно. Горючие материалы, накопленные долгим гнетом николаевского царствования, были здесь гораздо значительнее, нежели в России. Неудовольствие поддерживалось и усиливалось во всяком патриотическом сердце ненавистью к иноземному владычеству. Когда с новым царствованием гнет ослабел, и суровый деспотизм заменился мягкою снисходительностью, поляки воспользовались этим для достижения своих целей. Начались уличные демонстрации, перед которыми слабые местные власти оказались бессильными. В Польше водворилась анархия. Тогда правительство, уступая обстоятельствам, решилось поставить во главе управления польского магната, человека с сильным умом и крепкою волею, который брался сдержать движение, удовлетворив разумным требованиям поляков, относительно местного самоуправления. То был маркиз Велиопольский. Но безрассудно увлекающийся характер народа парализовал все его намерения. Разгоряченные первоначальною удачею уличных демонстраций, поляки вообразили, что они этим путем могут достигнуть всего. Маркиз Велиопольский стоял один между аристократическою партиею, которая мечтала о восстановлении старой Польши, и революционною пропагандой, которая действовала на народ, побуждая его к восстанию. Земледельческое общество под предводительством Андрея Замойского было центром агитации, которая старалась всеми мерами противодействовать Велиопольскому. Наконец, оно издало манифест, в котором открыто заявляло о восстановлении границ 1772 года, т. е. о возвращении издревле русских областей, от которых Россия никогда не могла отказаться. Пришлось закрыть аристократическое общество. С своей стороны революционная партия действовала неутомимо. Чтобы покончить с нею, Велиопольский решил посредством внезапно объявленного рекрутского набора забрать всех главных вожаков. Это было сигналом к восстанию. Революционная партия решилась его предупредить. Не имея войска, не будучи в состоянии явно противостоять русскому оружию, она повсюду организовала шайки, нападавшие врасплох на русских солдат и людей. Действуя кинжалом и виселицей, она распространяла неслыханный террор и этими средствами успела захватить страну в свои руки. Скоро в Петербург пришли известия, что не только Польша, но и Литва объяты пламенем. Официальные власти оказались бессильными; тайное правительство делало, что хотело.
Вся Россия встрепенулась. Каковы бы ни были различия мыслей, когда дело шло об отечестве, русские люди всех сословий и оттенков единодушно столпились вокруг престола. Собранное в это время петербургское дворянство первое подало патриотический адрес. Затем пришли адресы из Москвы и, наконец, из провинций. Одушевление было всеобщее. Глашатаем этого охватившего всех движения сделался Катков, который через это приобрел необыкновенную силу Это был набат, гремевший во все колокола и призывавший всех на защиту отечества. Даже в Петербурге, где он менее всего пользовался популярностью, статьи его принимались с восторгом и возбуждали общее одобрение. И наследник и граф Строганов с живым сочувствием читали «Московские Ведомости». То же впечатление они производили и на меня. Относясь вообще очень недружелюбно к этой газете, имея весьма невысокое понятие о нравственных свойствах ее редактора, я не мог не отдать справедливости силе таланта, выражавшейся в этих красноречивых воззваниях, полных патриотического огня. Конечно, политического смысла в них было мало. Не предлагалось ни одной практической меры, не высказывалось ни одного трезвого взгляда. Я пришел даже в негодование, увидав, что в самом пылу борьбы, в то время как Россия была вся расшатана, а Польша находилась в полной анархии, Катков весьма прозрачными намеками указывал на решение польского вопроса дарованием общей конституции обеим странам. Но эти случайно брошенные политические мысли исчезали в общем возвышенном патриотическом строе, который как нельзя более отвечал потребностям минуты. Смешно, конечно, считать Каткова зачинателем этого движения, которое само собою возникло с неудержимою силою из глубины русских сердец; еще нелепее видеть в нем спасителя отечества; но нет сомнения, что во время польского восстания он был самым видным органом общих чувств, так же как Сергей Глинка в двенадцатом году.
Я никогда не был врагом Польши. Напротив, я всегда думал и думаю, что Россия поступила с нею с возмутительною несправедливостью. Отнять у людей самое дорогое, что есть на свете, – отечество всегда составляет преступление против высших нравственных требований, вытекающих из святыни человеческого духа и одинаково обязательных для отдельных лиц и народов. Когда же кинжал вонзается в сердце брата, поступок становится еще более вопиющим. Ссылка на историю, которая будто бы произнесла свой приговор, есть не более, как пустозвонная фраза, которою прикрывается внутренняя неправда. Эту историю сочинили мы сами; дележ был актом насилия, который тем менее может быть оправдан, что он был совершен не в пылу борьбы, а обдуманно и хладнокровно, пользуясь слабостью соседа. Высказанная Пушкиным мысль, что это домашний старый спор славян между собою, в котором Прага явилась отместкою за Кремль, подобно тому, как взятие Парижа было ответом на взятие Москвы, представляет только поэтическую фантазию, лишенную исторической подкладки. Борьба, действительно, была в старину, но в конце XVII века был заключен вечный мир, а с тех пор Польша не только с нами не враждовала, а, напротив, являлась нашей постоянною союзницею. В Северную войну, которая положила основание величию России, она в течение нескольких лет принимала на себя все удары шведов, давая нам возможность собраться с силами, и когда прусский король Фридрих-Вильгельм сообщил Петру Великому проект раздела Польши между могучими соседями, Петр отвечал ему дружеским советом не вступать в такие планы, ибо они противны богу, совести и верности, заявляя, что сам он не только никогда на это не согласится, но будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет в эти виды[33]. Поведение Екатерины не оправдывается тем, что присоединенные ею без малейшего права области были искони русские. Эти области не сами ей отдались, как Малороссия, которая была законным приобретением московских царей. Екатерина искала вознаграждений после войны с Турцией, а так как ей не дозволяли округлить свои владения на счет Оттоманской Порты, то она решилась среди полного мира поделить чужие земли с беззастенчивыми соседями, которые искали только случая, чтобы обобрать слабейших. Это был разбой, учиненный среди белого дня, в виду всей Европы. Я не мог без внутреннего возмущения читать в записках Сиверса[34] повествование о Гродненском сейме, на котором поляки, путем подкупов, страха и, наконец, вооруженного насилия, принуждались подписать свой собственный смертный приговор. Никогда злоупотребление силою и презрение ко всему человеческому не достигали такой степени цинизма. Бесспорно, поляки своим легкомысленным поведением, анархическим своеволием наверху, угнетением внизу, – сами были причиною своей слабости и подготовили свое падение. Но нет сомнения также, что когда они хотели исправлять несовместные с крепостью государства учреждения, их не допускали до этого те же своекорыстные соседи, которые, присвоив себе путем насилия гарантию чужой конституции, намеренно требовали ее сохранения, зная, что она служит источником неисцелимой слабости.
Если коварная политика Екатерины возбуждала во мне негодование, то я с тем большим сочувствием взирал на человеческие стремления Александра I, который со всем пылом благородной души возмущался против раздела Польши и мечтал о том, чтобы загладить учиненную бабкою неправду. Я не мог без сердечного умиления читать рассказ о беседах его с Чарторыжским[35], перед которым царственный юноша изливал свои заветные думы и в котором он приобрел преданного друга. Восстановление Польши, с свободными учреждениями, под скипетром русского царя, сделалось любимою его мечтою, и он успел, наконец, осуществить эту мечту, не взирая ни на какие сопротивления и на возражения собственных советников, ставши после падения Наполеона главным распорядителем судеб Европы. Для поляков такое настроение русского монарха было неоцененным даром судьбы. Они не только получили политическую автономию, собственное войско и независимое управление, но из всех окружающих народов, они одни имели свободные учреждения. Всеми этими благами они не умели воспользоваться. Вместо того, чтобы ценить то, что им было дано, и упрочить приобретенное благоразумным поведением, они мечтали о большем и пустились в мелочную оппозицию, раздражавшую благоволившего к ним государя. Когда же июльская революция снова разбудила в Европе элементы брожения, они схватились за оружие, не имея ни малейшего шанса отстоять себя против вдесятеро сильнейшего врага. Это безумное восстание было, разумеется, подавлено. Тридцатилетний гнет был заслуженным наказанием за кичливое легкомыслие.
Этот жестокий урок не послужил им в пользу. С новым царствованием опять открылась для них новая эра. Ссыльные были возвращены; административная автономия была дарована. Рука об руку с освобожденною Россией поляки могли идти путем правильного и постепенного гражданского развития. Они нашли человека, способного руководить этим делом. И вдруг подпольная революционная сила низвергла все эти начинания. При этом были пущены в ход такие средства и орудия, которые не могли не возмущать всякую благородную душу. Не в открытом, честном бою, а путем тайных убийств подпольное правительство устанавливало свою власть, распространяя террор в стране.
Русское общество не могло оставаться к этому равнодушным. Каково бы ни было различие мнений относительно польского вопроса, все здравомыслящие люди понимали, что перед революционным движением не может быть речи ни о каких уступках. Еще менее можно было допустить грозящее вмешательство иностранных держав. Русское народное чувство против этого возмущалось, и вся Россия, как один человек, обратилась к царю с выражением безграничной преданности престолу и с готовностью всем пожертвовать для пользы и славы отечества.
С адресами стали прибывать депутации. В пылу патриотического одушевления Москва вздумала даже учинить у себя нечто вроде национальной гвардии. С этим предложением приехал в Петербург мой старый товарищ и приятель, князь Александр Щербатов. Незадолго перед тем в Москве введено было новое городовое устройство, сословное, по примеру Петербурга. Первым городским головой огромным большинством выбран был Щербатов, который успел приобрести себе значительную репутацию участием в дворянских совещаниях и, в особенности, своим искренним стремлением к сближению сословий. Лучшего выбора нельзя было сделать. Он принялся за работу со всем пылом своей горячей и благородной души и с тем практическим смыслом, которым он отличался. Новая городская дума сделалась одушевленным центром московской общественной жизни. Участие было всеобщее. Симпатичная личность председателя привлекала всех, а его умение ладить и примирять сглаживало все столкновения. Можно сказать, что это был золотой век московского городского самоуправления. Среди этого общего одушевления внезапно возникший польский вопрос еще более воспламенил московских граждан. Они заявили готовность отправлять военно-полицейскую службу по призыву правительства. Щербатов, с своим практическим взглядом, долго противился этому предложению. Он видел, что, в сущности, к нему не было ни малейшего повода – Россия не находилась в опасности и не было никакой нужды прибегать к чрезвычайным мерам для ее защиты. Но увлечение москвичей не знало границ. Все на этом настаивали, большинство с патриотической, некоторые с либеральной точки зрения, думая этим путем передать военную власть в руки граждан. Катков, в то время еще не повернувший на сторону реакции, всеми силами стоял за городовую дружину и подстрекал общественное мнение. Щербатов увидел, что надобно уступить и решился сам стать во главе движения, которое через это, во всяком случае, становилось безвредным. Но в Петербурге это предложение было благоразумно отсрочено, а затем оно пало само собою.
Вместе с другими прибыла депутация и от Московского университета. Это был комический эпизод среди общего восторга. Университет также получил новые права: ему возвращен был выбор ректора, отнятый в 1849 году. Аркадий Алексеевич Альфонский сошел со сцены, и с ним прошли «Аркадские времена»[36]. Надобно было выбрать ему преемника. Кандидатом нашего кружка был, разумеется, Соловьев. Но после истории с арендой «Московских Ведомостей» прежний дружеский союз распался. Многие из молодых профессоров примкнули к старым. Влияние редакции «Московских Ведомостей» значительно усилилось вследствие приобретенной ею популярности в польском вопросе, а редакция, конечно, стояла не за Соловьева. При баллотировке в Совете он остался в меньшинстве. Наибольшее число голосов получили Щуровский и Баршев. Приходилось выбирать из двух зол наименьшее: Щуровский был умнее, а потому казался опаснее. При вторичной баллотировке голоса приверженцев Соловьева были перенесены на Баршева, который и был выбран ректором. Меня, признаюсь, это известие крайне огорчило. Не знаю, каким ректором был бы Щуровский, но Баршев, которого мы с легкой руки Дмитриева звали нашей игуменьей, был нам слишком хорошо известен. Это было воцарение пошлости в университете.
Можно себе представить, какую фигуру выказывал в Петербурге этот представитель первого ученого сословия в России, когда он явился с пошло написанным патриотическим адресом, в сопровождении декана медицинского факультета, профессора фармакологии Николая Богдановича Анке, добродушного старичка, любившего попивать, но не ознаменовавшего себя никакими учеными заслугами. Разумеется, их приняли с почетом, и они вернулись в полном восторге. Однажды, за обедом у великой княгини Елены Павловны, баронесса Раден вручила мне письмо от Дмитриева из Москвы. Я тут же его распечатал и расхохотался. Это было одно из его светских стихотворений, юмористическое переложение повествования Баршева об оказанном ему приеме в Петербурге, писанное во время самого заседания. Все пристали ко мне, чтобы я сообщил это приятельское произведение, и я тут же громогласно прочел следующие стихи:
Вставши с ложа спозаранку,
Захватив с собою Анку
И напяливши чепец,
Я пустилась во дворец.
Там я милою осанкой
Всех прельщала, как и встарь,
Нас заметил тотчас с Анкой
Восхищенный государь.
А министры так толпились,
Так толкались вкруг меня,
Так красе моей дивились,
Столько было в них огня,
Так пленительно мне было,
Что хоть к чести я строга,
А чуть-чуть не насадила
Я Никольскому рога. [37]
Стихотворение произвело фурор. Князь Сергей Николаевич Урусов, который тут же обедал, вскочил с своего кресла и с жаром пожал мне руку. Но смеяться посторонним было легко. Каково было жить в этой среде? Это были цветики, обещавшие обильные плоды.
Я остался в Петербурге до начала июня. В это время польский вопрос принимал все более и более тревожные размеры. В самой Польше восстание ослабело; в Литве оно было подавлено, благодаря энергии Муравьева. До назначения своего в Вильну, Муравьев пользовался весьма невысокой репутацией При отсутствии всяких убеждений, он был груб, коварен и раболепен. Про него повторяли собственное его изречение: что он не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. В устах старого заговорщика эти слова служили вывескою характера. Но там, где нужно было, не останавливаясь ни перед чем, действовать с неуклонною энергиею, он был на своем месте. К тому же он был искренний патриот, всем сердцем преданный России. Назначение его в Вильну разом повернуло дело и он сделался героем русского общества. Его решительное поведение в Литве сравнивали с образом действий великого князя Константина Николаевича в Варшаве, который заискивал популярность и старался угодить полякам. Контраст был полный, и возвеличение Муравьева не знало пределов.
Но если внутренняя опасность почти миновала, то надвигалась опасность внешняя. Начался дипломатический поход европейских держав в пользу Польши. В дипломатических кругах утверждали, что с открытием навигации английский флот появится перед Кронштадтом. Юркий Катакази, который был адресован ко мне братом Василием для получения сведений о крестьянском деле в западных губерниях, говорил об этом, как о событии неизбежном. 21 мая, в день именин Елены Павловны, князь Горчаков приехал на утренний прием крайне встревоженный известиями, полученными из Лондона. В непонятном ослеплении, наш посол в Лондоне, барон Бруннов, уверял, что Англия непременно хочет войны, между тем как лондонский кабинет добивался только одного: поссорить нас с Францией. Польша не представляла для Англии ни малейшего интереса, и из-за нее она никогда бы не пожертвовала ни гроша. Бруннов считался одним из самых умных наших дипломатов и прежде всего знатоком Англии, а, между тем, два раза он ввел свое правительство в самое опасное заблуждение. Перед Крымской кампанией он настаивал на том, что войны не будет, чем по всей вероятности ее и накликал.
Этим промахом он в то время сломил себе шею. Теперь, наоборот, он принимал призрак за действительное намерение. Будберг, напротив, писал из Парижа, что в сущности французское правительство вовсе войны не желает и ограничится одними демонстрациями; но князь Горчаков был с ним в разладе и мало ему доверял. Убежденный, что мы к войне не готовы, он старался уклончивыми ответами оттянуть время. Общество в тревожном ожидании следило за ходом этого дела.
Перед отъездом, простившись в Царском Селе с наследником, я пошел раскланяться к князю Горчакову, который в это время тоже туда переехал. Он оставил меня обедать. Мы были втроем, с преданным ему Гамбургером. Я сказал князю, что, уезжая в провинцию, я желал бы сообщить живущим там русским людям какие-нибудь утешительные известия насчет вопроса, за которым они следят с таким напряженным вниманием; что ж я могу сказать? «Скажите, что уступок никаких не будет», – отвечал Горчаков. Я заявил, что эти слова будут истинною отрадою для всякого русского сердца; но как должно их понимать? Значит ли это, что мы на все требования иностранных держав ответим решительным отказом, каковы бы ни были последствия? «Я еще не знаю, что я буду отвечать, – сказал Горчаков. – Это – дело импровизации. Я всегда так поступаю; когда я встаю в Государственном совете, я никогда не знаю, что я буду говорить. Затем, если этот импровизатор вам не нравится, берите другого». Меня крайне удивил этот способ обсуждения государственных вопросов; прирожденное легкомыслие Горчакова высказывалось здесь вполне. Однако на этот раз импровизация вышла удачною. Я в деревне с восторгом прочел окончательную ответную ноту русского правительства, которою твердо и с достоинством отвергались все предъявляемые нам притязания. Если бы князь Горчаков в эту минуту сошел со сцены, остался бы в истории как один из выдающихся государственных людей России, крепко державший русское знамя. К сожалению, вся его последующая карьера была рядом самых крупных ошибок, которые более чем изгладили минутный успех.
В сентябре я вернулся в Москву. Университет я нашел в новом настроении, которое оправдывало все мои опасения. Торжествующая пошлость сияла самодовольством и била ключом во все стороны. Аркадские времена с субботними собраниями были порою преобладающего влияния молодых профессоров; теперь настало владычество старых, погрязших в рутине прежнего порядка. Большинство, сомкнувшееся вокруг «Московских Ведомостей», было упоено успехами своего патрона, которые отражались и на нем, приобретая ему все больше и больше приверженцев. Воспетый Вяземским «Бобчинских и Добчинских род» неустанно кадил новому божку, провозглашая его спасителем отечества и низводя самый патриотизм до какого то нахального и противного лакейства.[38] Никольского земля не носила: он лебезил перед ректором, лебезил перед Катковым, ораторствовал в Совете. О субботах, разумеется, не было и помину. Они заменились вечерними собраниями по пятницам у ректора, куда сходились все, и где царила непроходимая скука, завершавшаяся водкой и колбасой. Я раза два был на этих вечеринках; но все, что я тут видел и слышал, было мне так противно, что я перестал ходить. Дмитриев утешал себя советскими стихотворениями, которые обыкновенно экспромтом выливались из-под его пера во время заседаний. Однажды прямо против нас сидел профессор сельского хозяйства Калиновский, который был вместе и директором Зоологического сада. Он только что перед тем получил чин действительного статского советника, составлявший предмет самых пламенных помышлений известного разряда профессоров. В Совете шли какие то глупые прения. Никольский ораторствовал, а Дмитриев что-то строчил. Я сидел возле него; он подал мне бумажку, и я прочел:
Новый блеск у нас в компании,
Радость новая в сердцах:
Калиновский в новом звании,
В генеральских он чинах.
Он с своею важной рожею
Ныне сделался вельможею;
Вот куда его завез
Изученный им навоз!
А в саду-то беззаботные
Так и прыгают животные;
Но всех более процвел
Светлой радостью осел.
Скоро муза Дмитриева была призвана к более обширному поприщу. К концу года профессора вздумали дать новому ректору коллективный обед. Искали какого-нибудь повода. Одни говорили, что это будет отплатою за те закуски, которыми он угощал нас по пятницам. Другие старались придать этой демонстрации высшее, общественное значение: утверждали, что профессора хотят отпраздновать восстановление выборного права, хотя с тех пор прошел уже почти год, и никто об этом прежде не помышлял. В сущности, это было торжество ликующей пошлости, которая после временного принижения воспрянула с новою силою. Университет был спокоен; ректор был выбран совершенно по плечу господствующей партии, которая заискивала перед ним в ожидании наград и не могла нарадоваться своему представителю. Наконец в лице Каткова был приобретен патрон, голос которого звучал на всю Россию, исполняя гордостью сердца его приверженцев и давая им крепкую опору во всех их маленьких делишках. Как же было не ликовать при таком неожиданном обороте дел? Очевидно, надобно было, по русскому обыкновению, устроить попойку.
Меньшинство, с Соловьевым во главе, ни на минутку не колебалось насчет своего образа действий. Можно было, как неизбежное зло, иметь Баршева ректором; но чествовать коллегиальным обедом такого пошляка казалось нам унизительным для собственного нашего достоинства и несовместным с достоинством университета. Надобно было, чтобы русское общество знало, что не все профессора с наслаждением купаются в этом омуте, что есть между ними люди, которые иначе понимают честь университета. Мы решили не ехать. Напечатанное в газетах описание обеда оправдало все наши ожидания. Один за другим представители факультетов и выдающиеся профессора курили фимиам сидящей перед ними старой и глупой бабе. На сцену выступил и Катков, который указал на Баршева, как на одного из зачинателей либеральных реформ в уголовном судопроизводстве. Не забыты были и обычные для всякой пирушки телеграммы князю Горчакову, Муравьеву и Бергу. Все завершилось громким «Gaudeamus», который заревели отяжелевшие от вина старички, после чего деканы торжественною депутацией поднесли супруге ректора коробочку конфект. Одним словом, все было как следует, и все веселились всласть.
Дмитриев вздумал увековечить этот обед торжественной одой. Однако, на этот раз вдохновения хватило только на отрывки. Он написал первые три строфы, затем мастерски пародировал речи Юркевича, Крылова и Любимова; но на этом он остановился. Я все побуждал его докончить это историческое произведение; но он говорил, что как то не пишется, хотя у него уже подобраны некоторые рифмы, которые он непременно вставит, а именно: медицинский и свинский, Анке и стклянки. Тогда я вспомнил свои прежние похождения по этой части, взялся пополнить пробелы. Исходя от придуманных им рифм, я написал остальное. Произведение вышло удачное и всех наших друзей насмешило не мало. Общий тон был хорошо поддержан; трудно было даже догадаться, что ода писана в две руки. Помещаю ее здесь, как памятник тогдашней университетской жизни.
Ода на обед, данный ректору профессорами Московского университета
В дни верноподданных скандалов,
Когда пел оды Шевырев,
В честь тупоумных генералов
Давали много мы пиров.
Но ныне времена другие:
Стремясь к развитью своему,
Теперь покорствует Россия
Уже не силе, а уму.
Изобразит ли стих мой слабый,
Как старший университет
Однажды в честь беззубой бабы
Задал торжественный обед?
На пир сей истинно-московский
Стеклись друзья из всех углов:
Из синагоги Гивартовский,
Из океана Соколов[39].
Враг независимости польской,
Сей препоясанный на брань,
Сей ярый патриот Никольский
Принес сюда свою гортань;
И вместе с ним, послушен гласу
Леонтьева, сюда пришел
Пеховский, воротясь из лясу,
Где он ваканции провел.
Тут был премудрый Калиновский,
Преподаватель для коров,
Сладкоглаголивый Лясковский,
Страдающий теченьем слов;
Мильгаузен, отец уступок,
Всем сердцем возлюбивший всех,
И все, что только есть поступок,
Уже считающий за грех;
И факультет тут медицинский
Весь в сборе, эка благодать!
Читатель просит рифмы: свинский
Ну нет, уж лучше промолчать!
Все дружно яства пожирали,
При громе Сакса скрипачей,
И длань игуменьи лизали
С приправой тостов и речей.
Вот Николай Богданыч Анке,
О чудо! встал и говорит;
Он знал лекарственные стклянки,
А также херес и лафит;
Но было вовсе не по нраву
Ему публично говорить,
И красноречия отраву
С трудом он силится испить.
За ним бесцветны, но приятны,
Потоки полились речей;
Давыдов, Лешков непонятный
И сам Полунин Алексей,
С дьячковским голосом и видом,
Поют игуменье хвалу.
Сравнишься мудростью с Давидом
И Валаамову ослу
Подобна ты, о мать святая,
И всех чаруешь нас вполне,
Ты, в юбке ректорской блистая,
С звездой на левой стороне!
Гостеприимна ты по-русски,
Мила в ужимках и в речах;
Ты даже в пятницы закуски
Для нас устроила на днях;
И мы за сыр и за селедку,
За колбасу и за икру,
За то, что смачиваешь глотку
Ты нам бутылкой ввечеру,
Тебе днесь пиршество на славу
Всей корпорацией даем,
Как будто выборному праву
Мы честь поздненько воздаем.
Мы, верь, давно тебя желали
И ясной дождались поры;
Забудь лишь, матушка, что клали
Тебе мы черные шары,
И возвратившееся стадо
Ты попеченьем не оставь,
Не обойди ты нас наградой
И всех in corpore представь!»
Так пел Полунин вдохновенный,
Какой-то издавая стон,
И слышен клик одушевленный
Ему в ответ во всех сторон.
Но чтоб беседе этой росской,
Которой тон немного прост,
Придать оттенок философский,
Юркевич предлагает тост.
Он пьет за наше единенье,
Вне всяких партий и преград,
Союз во имя просвещенья
И получения наград;
И с Матюшенковым, с Пеховским,
Ни от кого не сторонясь,
И с Калиновским и с Лясковским,
Со всякой пошлостию связь.
Он говорит: «Я к вам в обитель
Судьбой недавно занесен,
И на нее смотря, как зритель,
Советом вашим я прельщен.
Хотя и ссоритесь вы дома,
Хоть и деретесь вы слегка,
Но вам пословица знакома:
Рукою моется рука.
Там говорит Никольский в меру,
Имеет Лешков должный вес,
И мнится ветренную Геру
Прогнавши, царствует Зевес».
И мать игуменья, вздыхая,
Стыдливо говорит в ответ:
«Извольте видеть, честь большая
Мне выбор ваш и ваш обед.
Ах, знаю я, что недостойна
На этом месте я сидеть;
Все говорят, что непристойно
Меня вам ректором иметь.
Но хватит все ж у нас умишка,
Чтоб вам, где нужно, угодить,
И своего чтобы делишка
При этом тоже не забыть.
Да и смирна я непомерно;
Зато от вас такая честь!
Всяк думает: на ней уж верно
Верхом мне можно будет сесть.
Не выставляюсь я осанкой,
Не оскорбляю вас умом;
Большой, вот видите, приманкой
Нам служит пошлости диплом.
Не любим важности посольской,
Свой брат кому из нас не мил?
Вот и оратор наш Никольский
Ко мне в дворецкие вступил.
Он у меня на побегушках;
Я прикажу: плясать пойдет,
И чай подаст и на пирушках
Гостям шампанского нальет.
Всего вернее путь лакейский,
Гласит нам опыт, и держась
Смиренно мудрости житейской,
И я чинишка дождалась;
И ректорства и генеральства
Меня сподобила судьба.
Раба я высшего начальства,
Совета нашего раба!»
«Хвала, – изрек Крылов ученый, —
О, милый ректор наш, тебе!
Ты, правда, малый не мудреный,
Но ты пришелся по избе.
Под властию Аркаши[40] строгой
Наш голос оставался нем;
Хоть бунтовали мы немного,
Но все как будто не совсем.
Но днесь казенному указу
Конец, конец уже настал;
Auspicia sunt fausta![41] сразу
Наш выбор на старуху пал».
Не утерпел тут и сладчайший,
И медом речь его лилась:
«Друзья, на праздник величайший
Семья вся наша собралась.
Семья! ах, кто при этом звуке
Не скажет: университет!
О alma mater! и в разлуке
Ты слаще меду и конфект.
В стенах сих университетских
Нам сладко все: хвалы друзей,
Интриги кумушек советских
И гром Никольского речей;
И здесь, на маленьком просторе,
Как может маленький субъект
С ходуль болтать о всяком вздоре,
И выйдет маленький эффект…
Друзья, здесь все наш дух пленяет!
А потому я, так сказать,
Коли никто не возражает,
На стул свой сесть хочу опять».
Так рек Лясковский, улыбаясь
На весь профессорский комплект,
И все с ужимкой озираясь,
Чтоб видеть, вышел ли эффект.
Но вот для новых комплиментов
Археолог и либерал,
Искатель милости студентов,
Буслаев антикварный встал.
«Почтим мы ныне силу слова!
Где сила, тут при ней и хвост;
В честь, понимаете, Каткова
Я предлагают этот тост».
И на привет сей отвечая,
Восстал в величии Катков;
Глазами медленно вращая,
Он рек всей тяжестию слов:
«Я силы слова представитель,
Таким сам клуб меня признал,
России нашей я спаситель,
Я всю Европу застращал.
В моем журнале помещает
Кто и плохие лишь статьи,
Тот лавры вечные стяжает,
Тому приветствия мои.
Когда-то ректор ваш для формы
В моих напакостил листах,
И вот от дряни сей реформы
У нас подвинулись в судах».
«Ну так уже если за Каткова, —
Гласит игуменья, – мы пьем,
Так и за Берга, Муравьева
И Горчакова мы тряхнем.
То пира всякого программа;
Привет им клуб Немецкий шлет;
Бахмутских барынь телеграмма
Их вновь на подвиги зовет.
От сих народных ликований
Ужель отстанет наш порыв?»
И встретил гром рукоплесканий
Патриотический призыв,
И долго длится пир громадный.
И всякий речи говорит;
Один Любимов плотоядный
Все ест, все пьет и все молчит.
И только светится во взоре
Душевный ректору привет,
Зане он с баснью не в раздоре:
«Сильнее кошки зверя нет».
Распорядитель угощений,
Молчит он больше на пирах,
И лишь наевшись, наш Менений[42]
Встал с мудрой притчей на устах.
Он говорит им: «Это шутка;
Наш пышный ректорский обед
Есть праздник истинный желудка,
И смысла в нем иного нет.
Желудок – враг разъединенья,
Раздора он не признает;
Он одинакие внушенья
Глупцу и мудрому дает.
В еде никак не разойдемся
Мы и при разности натур,
При всех тенденциях напьемся,
Так gaudeamus igitur!»
«Пока мы молоды, – запели
Всем сонмом вдруг профессора, —
Возвеселимся; надоели
Давно нам лекции. Пора
Не миновала наслаждений,
И час пока наш не настал,
В честь легких дев и обольщений
Полней нальем вина бокал!»
Трикраты песнью огласился
И кликами высокий зал;
Сам Брашман тут остервенился,
И Фишер пуще всех орал.
Но все проходит в этом мире;
Напиткам даже есть конец.
Побушевав на долгом пире,
Домой все идут, наконец.
Отяжелев, немного пьяны,
Чтоб дружный завершить обед,
В подарок ректорше деканы
Несут коробочку конфет.
Отверзла ректорша затворы:
Легко коробка отперлась,
И, как из ящика Пандоры,
Оттуда пошлость понеслась.
Удушлива и бесконечна,
Во все углы она вошла,
И по Никитской быстротечно
И в новый дом переползла;
Затем и в клиники вселилась
И в медицинский институт;
Повсюду вонь распространилась,
Науки русской атрибут.
И долго стены сохраняли
Зловония протухлый след,
И долго други вспоминали
Веселый ректорский обед[43].
Разумеется, мы это произведение держали в секрете, сообщая его только самым близким людям из опасения возбудить непримиримую вражду. У нас не было даже писанного экземпляра. Но чем более мы смеялись, тем грустнее было на душе. К университету мы были привязаны всем сердцем; с ним соединялись лучшие наши воспоминания. Мы мечтали о том, что после временного гнета и последовавшей затем неурядицы он воспрянет обновленный и освеженный. Эта мечта казалась даже близкою к осуществлению. И вдруг все это повернулось разом. Под влиянием двух негодяев, которые свои крупные дарования обращали в орудия чисто личных целей, вся накопившаяся годами и временно придавленная пошлость всплыла наружу и затопила все. Больно было присутствовать при этом падении университета, и противно было дышать этим смрадом. На зимние ваканции я с удовольствием уехал в Петербург.
Там я нашел Николая Алексеевича Милютина, который из-за границы вызван был по польскому делу. Я виделся с ним почти каждый день, и он подробно рассказывал мне свои разговоры с государем. Все, что он мне сообщал, внушало мне глубокое уважение к царю, который освобождением крестьян и целым рядом предпринимаемых преобразований приобрел уже право на безграничную благодарность всех русских людей. Государь умно и отчетливо излагал перед ним все положение дел. Он говорил, что если бы можно было решить польский вопрос дарованием конституции России и Польше, то он ни на минуту не поколебался бы это сделать. Но он был убежден, что в настоящее время подобная мера может принести только величайший вред; она повела бы к разложению России. Он понимал также, что высшие классы польского народа умиротворить нельзя. Единственное, что можно сделать в интересах России, это стараться привлечь к ней низшее народонаселение широкою мерою крестьянских реформ. Польские крестьяне со времен Наполеона были лично свободны, но их поземельный быт не был устроен. При Николае были приняты некоторые частные меры; теперь надлежало обратить их в поземельных собственников. Для этого и был призван Милютин.
Он взялся за работу с тою обдуманною страстностью, которая его отличала. Немедленно был кликнут клич всем прежним сотрудникам по крестьянскому делу. Из Москвы были вызваны Черкасский и Самарин; в Петербурге завербованы Соловьев и другие. Милютин сам со своими товарищами отправился на места, под конвоем объезжал деревни, допрашивал народ, собирал документы, и, вернувшись, принялся за разработку проекта. Он нисколько не обманывал себя насчет успеха своего предприятия. Он сам мне говорил, что умиротворить Польшу и привязать ее к России несбыточная мечта; но с помощью крестьянской реформы хватит на 25 лет, может быть, даже и более, а это все, что может предположить себе государственный человек. И он, и его сотрудники добросовестно и с полным успехом совершили возложенное на них дело. А между тем, пославший их государь, которого волю они честно и усердно исполняли, одною рукою поддерживал их, а другою давал оружие их злейшим врагам, подставлявшим им бесчисленные препятствия на пути. Впоследствии мне довелось читать всю их переписку, относящуюся до этого времени. Я не мог надивиться этой двойственной политике со стороны монарха, прямо и трезво смотревшего на вещи. Но таковы печальные плоды безграничной власти, в которой самые противоположные свойства державного лица ведут к одинаково вредным последствиям. Один, превозносясь, верит только себе и не терпит противоречия; другой, не доверяя себе, не доверяет и другим, и сам себе возбуждает противодействие. В конституционном правлении есть оппозиция, которая громко высказывает свою критику, выясняя оборотную сторону каждого вопроса; в самодержавии, где общество молчит, надобно, чтобы среди тех самых лиц, которым вверяется дело, были люди, которые бы эту оборотную сторону доводили до сведения монарха. Вследствие этого правительство составляется из противоречивых элементов, которые ведут между собою глухую борьбу, и сама верховная власть их в этом поддерживает, видя в этом гарантию своей независимости. А что в этой борьбе бесплодно расточаются силы, теряется вера в свое дело, приобретается привычка действовать тайными путями, лукавить и изгибаться, об этом всего менее заботятся. Самодержавный монарх привык смотреть на людей, как на простые орудия, которые должны двигаться по его воле, и которые откидываются в сторону, как скоро в них оказывается призрак независимости. Он сам иногда устраивает сражения, где каждый должен играть свою роль, не смея жаловаться на то, что ему намеренно ставятся препятствия под ноги. При таких условиях, при том глубоком презрении к людям, которое водворяется в силу этого порядка, сила характера и честность убеждений, конечно, всего менее ценятся. Все кругом раболепствует; каждый считает долгом исполнить то, что ему приказано, хотя бы это шло наперекор всему его образу мыслей. Вследствие этого можно было графа Панина назначить председателем редакционных комиссий, а графа Берга наместником в Царстве польском. Подлецам подобная политика приходится совершенно на руку; но порядочные люди или выбрасываются вон или удаляются сами, видя бесплодность своей работы. Редкие исключения вызываются чрезвычайными обстоятельствами. Самодержавная власть бережет людей только тогда, когда не может без них обойтись.
Милютин желал, чтобы я написал статью о крестьянском деле в Царстве польском. Он дал мне все документы, и я, вернувшись в Москву, усердно принялся за работу. Статья была написана, но никогда не увидела света. Причина была та, что мы несколько разошлись во взглядах, как относительно общих вопросов, так и относительно самого способа осуществления крестьянской реформы в Царстве польском.
С одной стороны, я хотел воспользоваться случаем, чтобы откровенно высказаться насчет возможности дарования конституции как Польше, так и России. Этот вопрос в то время сильно занимал умы, а между тем, при других условиях, трудно было обсуждать его в печати. «Время ли теперь начать подобные опыты? – спрашивал я. – Организация русского общества достаточно ли крепка, чтобы вынести на своих плечах такой порядок? На это нельзя отвечать иначе, как отрицательно. Россия вся обновляется; у нас нет ни одного учреждения, которое бы осталось на месте; которое бы не подверглось коренным переменам. Изменяется местная администрация, изменяется все судебное устройство, а без суда не мыслим конституционный порядок. Ныне пошатнулись основы всего общественного здания, отношение различных классов между собою и участие их в местном управлении. Освобождение крестьян нарушило весь прежний порядок, а новый еще не создался… Нужно время, чтобы все сладилось, устроилось, свыклось с новыми учреждениями. Тут неизбежно возникнет множество недоразумений, столкновений, неудовольствий, и только после многих опытов и колебаний русское общество придет опять в твердое, нормальное положение. В таком переходном состоянии чего можно ожидать от народного представительства? Какие практические сведения принесут в собрание земские люди, когда для них все ново, все неизвестно. В совещаниях дворянства о земских учреждениях, те и другие партии неизменно отправлялись от теоретических начал, потому что практических данных никаких не было. То же случится и в общем представительстве. Между тем, теоретическое образование, само по себе недостаточное для политической жизни, у нас весьма слабо. Нестройный хор бессвязных мнений, составляющий неизбежное последствие всякой переходной эпохи, целиком проявится в общем земском соборе. Всякое замешательство, всякое столкновение внизу – отразятся наверху. Силы и внимание, нужные на местах, оттянутся к центру; общественное брожение, едва начинающее утихать, возбудится с новою силою. Одним словом, при настоящем положении дел, от народного представительства ничего нельзя ожидать, кроме хаоса. Созвать думу, да еще с неопределенными правами, и значением без твердых основ, полагаясь единственно на патриотизм и здравый смысл общества, это значит пуститься на всех парусах в неизвестные моря. Это хуже, нежели сочиненная конституция; это конституция на авось… Пробьет час, – говорил я далее, – и новые права, укрепившись в народе, получат дальнейшее развитие. Но преждевременные попытки ведут только к бесплодному брожению, к разочарованию и диктатуре. Крепкому и разумному народу свойственно идти медленным, но верным шагом. Россия слышала из уст государя многознаменательные слова: торопиться было бы не только вредно, но и преступно».
Милютин говорил, что все это совершенно верно; но все-таки нежелательно, чтобы из нашей партии исходило осуждение конституционного порядка, хотя бы и временно. Не придавая важности современным конституционным стремлениям русского общества, подбитым главным образом помещичьим неудовольствием, он думал, что лучше об них умалчивать, нежели поднимать вопрос, в сущности не имеющий практического значения. В этом была своя доля истины; но мне казалось, что для общественного самосознания весьма важно выяснение политических вопросов; я считал полезным заявить громко, что предложенное либеральное решение устраняется не в силу закоснелых предрассудков, а вследствие разумно понятого положения дел.
Другое разногласие было важнее. Изучая ход крестьянского дела в Польше, я пришел к убеждению, что каково бы ни было состояние страны, русскому правительству не следует прибегать к чисто революционной мере даровой раздачи земли крестьянам. Правда, революционный ржонд в своей прокламации объявил землю собственностью крестьян без всякого вознаграждения помещиков, и крестьяне фактически уже ею владели, считая ее своею. Но мне казалось, что революционная прокламация не составляет права и что законному правительству не подобает следовать этому примеру. Поэтому я остановился на мысли прямо приложить к помещичьим землям ту весьма невысокую меру повинности, которая была установлена для имений казенных и майоратных, с выкупом этих повинностей путем кредитной операции. Милютин же утверждал, что проведение такой меры требует времени, а у нас его нет. Революционное положение заставляло прибегать к революционным средствам. Нам нужно было во что бы то ни стало положить конец восстанию и привлечь польских крестьян на свою сторону, а это можно было сделать только дарованием им от имени правительства того, что им было обещано ржондом и чему уже подчинились польские помещики. Вследствие этого учрежденная под его председательством комиссия остановилась на даровом наделе, и эта система, одобренная Главным комитетом под председательством князя Павла Павловича Гагарина, была утверждена государем и приведена в исполнение.
Таким образом, моя работа пропала даром, на что я впрочем не сетовал, но понимал серьезность возражений, если и не мог с ними согласиться. Впоследствии возложенный на меня труд, в виду ознакомления с вопросом иностранной публики, был поручен Катакази, который в Министерстве иностранных дел считался умным человеком и бойким пером. Ему также были доставлены все документы; но из этого вышло весьма плачевное произведение. Я уже говорил, что брат Василий, бывший тогда советником посольства в Париже, адресовал ко мне Катакази за справками о крестьянском деле в западных губерниях, о чем ему также было поручено написать статью для иностранных газет. Из разговора с ним я убедился, что он в этом вопросе ничего не знает, не понимает, и по крайнему легкомыслию даже и понять не в состоянии. Его расспросы представлялись мне какою-то комическою сценою, а потому я нисколько не удивился, когда, прочитавши статью, основанную на известных мне материалах, я увидел в ней только пошленькую газетную компиляцию, не способную не только произвести впечатление на иностранную публику, но и дать сколько-нибудь ясное понятие о ходе дела. Это показало мне вместе с тем полное отсутствие у нас надежных орудий для действия путем печати.
Не вполне сочувствуя способу проведения крестьянской реформы в Царстве польском, но признавая ее в существе своем мерою необходимою и справедливою, я вовсе не мог сочувствовать тому обороту, который приняло польское дело после удаления Милютина и Черкасского. У них уже родилась мысль уничтожить наместничество и подчинить польские губернии прямо министерствам. Ведя борьбу с графом Бергом, они пришли к убеждению, что пока существует наместник, он непременно будет противодействовать всякому исходящему из Петербурга направлению, стараясь по возможности играть роль местного царька. Будучи не в силах сместить графа Берга, они били на то, чтобы уничтожить самую его должность. Насколько эта мысль у них созрела и была близка к исполнению, не могу сказать. Но когда Милютина постиг удар, а Черкасский, несмотря на все настояния, вышел в отставку государь хотел показать, что он и без них проведет самые радикальные меры. Царство польское было включено в число русских губерний. Этим думали навсегда покончить с Польским вопросом.
Я считал и считаю эту меру крупною ошибкой. Росчерком пера национальные вопросы не разрешаются, а принятый способ всего менее мог содействовать правильному решению. Через это смешивались и сливались в одно два вопроса, которые поляки всегда старались связать, но которые в самых интересах России должны быть строго разделены: вопрос о западных губерниях и о Царстве польском. Мы не можем допустить отторжения русского края, случайно присоединенного к Польше и впоследствии возвращенного России, каким бы путем ни совершилось это возращение. Но столь же мало имеем мы право держать под своим гнетом чисто польский край и лишать отечества братское нам население. Доводы, которые приводятся в защиту русского владычества, в моих глазах не имеют силы. Говорят о ненависти к нам поляков; но разве поляк, сохранивший искру любви к отечеству, может любить Россию? Я чувствую, что если бы я был поляк, я бы ото всей души ненавидел русских. Ссылаются на интересы России; но интересы притеснителей не имеют ни малейшего права на существование. В настоящем же случае, интерес далеко не первостепенный. Я не могу допустить опасности для стомиллионного народа со стороны пяти миллионов соседей, имеющих притом с другого бока враждебное им сорокамиллионное немецкое население. Не только в интересах человечества, но во имя нравственного достоинства своей родины, которую я люблю более всего на свете, я от всей души желаю, чтобы полякам была, наконец, оказана справедливость, и я не сомневаюсь, что когда-нибудь этот час пробьет, хотя последнее польское восстание, может быть, более всего другого содействовало его отдалению. В настоящее время говорить о справедливости в политике есть глас вопиющего в пустыне; но когда в Европе поднимется славянский вопрос, – а это время по-видимому не очень отдалено, – судьба поляков ляжет веским элементом в его решении. Тогда Россия увидит, какую фальшивую роль она играет, выступая освободителем одних братьев и угнетая других. Русский народ довольно крепок и могуч, чтобы не быть притеснителем; он имеет в себе довольно нравственной силы; чтобы принести в жертву низкие интересы требованиям справедливости и человеколюбия. Конечно, я этого не увижу, но я всем сердцем призываю этот исход. Самое пламенное мое желание состоит в том, что бы мое отечество не осталось в истории с печатью Каина на челе.
В этой работе, среди лекций и экзаменов, протекла весна. Она ознаменовалась для меня печальным событием. Умер старый друг нашей семьи, человек, который приголубил нас в первый наш приезд в Москву и с которым я постоянно оставался в самых близких отношениях – Николай Филиппович Павлов. Последний год его жизни протек спокойнее, нежели прежние. В конце 1862 года, уезжая в Петербург, я оставил его в самом ужасном положении. «Наше Время» имело мало подписчиков. Расходы не окупались, а денег взять было неоткуда. Приходилось закрывать журнал; а, между тем, на руках была довольно значительная семья, которую надо было содержать. Старик не знал, что ему делать. Каково же было мое удивление, когда он вдруг явился ко мне в Петербург, бодрый, живой, с новыми планами и надеждами. Эта удивительно эластическая натура не поддавалась никакому гнету обстоятельств. Из всякого положения он умел вынырнуть и воспрянуть с обновленными силами: «Знаешь, что я придумал? – сказал он мне. – Я хочу издавать газету для народа, по три рубля; она наверное пойдет. Этим миллионам освобожденных крестьян надобно дать какое-нибудь путное чтение, чтобы они знали, что делается на свете. Я уверен, что само правительство окажет мне помощь в этом деле. Нельзя ему оставаться безучастным и отдать народ всякому писаке». И точно, помощь была оказана. Со своею вкрадчивою убедительностью, Павлов сумел сразу обворожить министра государственных имуществ Зеленого, который взялся разослать его газету во все волости государственных крестьян. То же самое обещал и Валуев. Дешевая газета нашла многочисленных подписчиков и среди низшего московского и провинциального населения. Предприятие удалось вполне, и Павлов мог наконец вздохнуть свободно. Но именно тут настигла его смерть. Он был очень мнителен и еще со времени возвращения из Перми все щупал свой пульс и говорил, что у него перебои. Друзья над ним подсмеивались, но оказалось, что опасения не были напрасны. У него сделалось ожирение сердца, которое в марте 1864 года пошло весьма быстро. Он все задыхался; наконец призванные на консультацию доктора объявили его безнадежным. Я почти целые дни присутствовал при этом медленном и мучительном угасании. «Мне бы хотелось поговорить с Филаретом», – сказал он мне однажды. Разумеется, этого нельзя было исполнить; обычные же утешения не способны были на него повлиять. Накануне смерти ему стало как будто немного лучше, хотя говорил он с трудом. Я сидел возле его постели и старался чем-нибудь его развлечь. Я читал стихи наизусть, между прочим по какому то случаю вспомнил стихи Лермонтова:
Но спят усачи гренадеры
В равнинах, где Эльба шумит,
Под небом холодным России,
Под знойным песком пирамид.
Вдруг старик воспрянул на своем ложе. «Холодной России, как можно: холодным!» – воскликнул он с жаром. Так до самых последних минут живо сохранялось в нем чувство литературного изящества. Думаю, что в настоящее время немного найдется людей, которые в состоянии даже понять этот тонкий оттенок.
На следующий день, в семь часов утра, за мною прислали. Я со Спиридоновки отправился на тот конец Москвы с гнетущим чувством неотразимого исхода. Он уже не говорил и не узнавал никого; мозг был поражен. Но еще целый день длилась тихая агония. К вечеру он стал дышать все реже и реже. Наконец, он медленно повел рукою, положив ее на грудь, и все было кончено. В первый раз я видел торжество смерти во всем его величии.
Павлова похоронили на Пятницком кладбище. Немногие друзья сопровождали его гроб. После похорон Кетчер, Н. М. Сатин, Дмитриев и я отправились обедать вместе. Нам хотелось совершить последнюю тризну по усопшем. Мы вспоминали те богатые дары, которыми наградила его природа, и ту бурную жизнь, в которой он их растратил, его блистательный ум, его разносторонние таланты, умение увлекать людей, мастерство писать, а вместе горячее сердце, неизменное в дружбе, отзывчивое на добро, чуткое к нравственным требованиям, хотя слишком часто поддававшееся страстным увлечениям, из-за которых люди, не знавшие его близко, не могли разглядеть таившегося в нем огня. Не я один, связанный с ним многолетнею дружбою, оставшеюся наследием от отца, но все мы в один голос произнесли над свежею могилой примиряющий приговор и с сердечным чувством подняли бокал в память умершего. Для меня в этой могиле хоронились воспоминания о лучших днях моей молодости, о первом вступлении в обаятельную сферу умственных интересов, наполнявших московское общество сороковых годов, о теплом участии, которое приветствовало первые мои успехи в университете и на литературном поприще.
Надобно было хлопотать о судьбе «Русских Ведомостей», которые оставались единственною опорою многочисленной семьи. Наследником являлся законный сын Ипполит, который жил с отцом и страстно его любил. Но распространялись ли права наследства на издание газеты? Это был вопрос сомнительный, ибо разрешение дано было лицу известному правительству, а не случайным его наследникам. В настоящем случае дело осложнялось еще тою поддержкою, которую правительство оказывало предприятию, рассылая газету по волостям. Я написал письмо к Валуеву, и Ипполит Павлов отправился с ним в Петербург. Валуев принял его благосклонно и согласился утвердить за ним издание. Новому редактору приходилось получать деньги, собранные с волостей. В департаменте ему объявили, что их передаст ему сам министр. Но когда он явился на частную аудиенцию, Валуев, вместо 33 тысяч рублей, вручил ему три. Куда девались остальные деньги, осталось неизвестным. Можно думать, что не казна вознаградила себя на счет редакции за оказанную помощь.
Имея значительную частную подписку, «Русские Ведомости» могли вынести этот налог. Но Ипполит Павлов был вовсе не создан для журнального дела. Весьма неглупый, литературно образованный, талантливый, но легкомысленный и неспособный к усидчивому труду, он мог отлично переводить стихи, мог даже, когда хотел, быть хорошим преподавателем, но писать газетные статьи было ему не по силам и не по нраву. К счастью, нашелся человек, который вынес предприятие на своих плечах. То был Скворцов, постоянный сотрудник И. Ф. Павлова как в «Нашем Времени», так и в «Русских Ведомостях», человек еще молодой, недавно кончивший курс в университете, небольшого ума, со скудным образованием, но с некоторым талантом, натура добрая и мягкая, хотя крайне неустойчивая. Однажды он пришел к Павлову, прося у него работы. Тот, увидя в нем способность писать и нуждаясь в сотрудниках, оставил его при себе. Скворцов к нему привязался, переносил с ним самые тяжелые времена, отказывался даже от выгодных предложений, а после его смерти остался главною опорою «Русских Ведомостей». Последние перешли наконец совершенно в его руки. Ипполит Павлов женился самым легкомысленным образом, без любви и без расчета; брак вышел неудачный. Тогда он бросил и редакцию, и жену, предоставив то и другое Скворцову. Но Скворцов не довольствовался народною газетою. Успех предприятия доставил ему порядочные средства, которыми он воспользовался, чтобы превратить журнал в политический орган. Когда «Московские Ведомости» приняли решительно попятное направление, «Русские Ведомости» остались единственным представителем либерализма в Москве. Но придать им серьезное общественное значение Скворцов был не в состоянии. У него не было ни ясной политической мысли, ни основательного образования. Он мог быть хорошим сотрудником под руководством умного человека, как Павлов, но к самостоятельной роли он тем менее был способен, что по слабости характера он легко поддавался чужому влиянию. К этому присоединилась вызванная достатком наклонность к разгульной жизни. Вследствие этого «Русские Ведомости» сделались органом различных радикалов довольно низкого пошиба. После смерти Скворцова они перешли в руки акционерной компании социал-демократов, которая владеет ими доселе.
В конце апреля я получил от графа Строганова письмо с извещением, что путешествие наследника, наконец, решено. Он спрашивал, согласен ли я их сопровождать, прибавляя, что наследник очень этого желает, и сам он особенно дорожит моим содействием. Я не имел ни малейшей причины отказываться и охотно дал свое согласие. Мы отправились в половине июня. Кроме графа Строганова и меня, свита состояла из постоянно находившегося при наследнике полковника Рихтера, секретаря Оома, доктора Шестова и двух молодых ординарцев, Козлова и князя Барятинского.
Рихтер был еще молодой человек; ему было не более 30 лет. Он учился в Пажеском корпусе, затем служил на Кавказе. Оттуда вызвал его бывший воспитатель великого князя Зиновьев, который обратил на него внимание, еще будучи директором Пажеского корпуса. Он был назначен к наследнику, при котором состоял безотлучно. Действительно, для этой должности нельзя было сделать лучшего выбора. Ума он был посредственного и, как все воспитанники Пажеского корпуса и вообще гвардейские офицеры, имел весьма скудное образование; но это был истинно порядочный человек. Немец по происхождению, но вполне обрусевший и преданный России, он сохранил лучшие черты своего племени. Это была натура честная, правдивая, чуждая искательства и лести, а тем более интриги. Спокойный, сдержанный, молчаливый, с безукоризненно светскими формами, он держал себя всегда с величайшим достоинством, но открыт был всякой благородной мысли и всякому сердечному побуждению. С ним можно было откровенно говорить обо всем; он понимал все оттенки человеческих отношений. Были, конечно, и недостатки, свойственные среде, в которой он воспитывался и жил. В нем иногда не совсем приятно поражали замашки так хорошо описанных Тургеневым молодых генералов: порою с важным видом занятие пустяками, великосветские позы, со сверстниками особого рода фамильярность, долженствующая быть высокого тона, но в сущности довольно пошлая. Он любил отпускать плохие каламбуры, что вовсе не шло к его вообще серьезному и сдержанному тону. Но эти мелкие стороны совершенно исчезали перед его прекрасными свойствами. С наследником поведение его было безупречно. Я внимательно всматривался в их отношения и не мог ими налюбоваться: с одной стороны постоянная, неусыпная заботливость, преданность без малейшего угождения, мягкость без уступчивости, неустанное стремление воздержать все мелкое и дурное, направить молодую душу на все хорошее, внушить искреннее и благородное отношение к людям и вещам; с другой стороны горячая, нежная, почти женская привязанность, самое чуткое внимание, самая ласка, в которых ясным пламенем светилась чистая и любящая душа привлекательного юноши. Глядя на них нельзя было не полюбить того и другого. Путешествуя вместе в течение года, я подружился с Рихтером, а общее горе еще более нас сблизило. Когда после смерти наследника он сделался начальником штаба гвардейского корпуса, я останавливался у него во время поездок в Петербург. Скоро, однако, он должен был оставить это место и временно удалиться из столицы. Он женился на своей родной племяннице, дочери бывшего русского посланника в Брюсселе. Для всех это было неожиданностью. Рихтер любил позировать великосветским львом, ухаживал не без успеха за модными дамами, и никто не подозревал в нем глубокой привязанности к девушке, которая при отменных качествах ума и сердца, не блистала ни красотою, ни богатством, ни даже светским положением. По протестантским законам такие браки дозволялись; но она была православная. Ценя его прежнюю и настоящую службу, на это смотрели сквозь пальцы; но оставить его в Петербурге было невозможно. Его назначили военным агентом во Флоренции. И там я у него гостил среди самой счастливой семейной обстановки. Потом ему дали дивизию на юге, где он умел снискать всеобщую любовь. Наконец, в новое царствование он опять был призван в Петербург, на должность начальника главной квартиры, а вместе управляющего преобразованною комиссией прошений. Он стал одним из самых приближенных людей к царю. Тут, однако, ему пришлось пройти через всякого рода испытания. Сначала он откровенно высказывал свои мысли и взгляды, но скоро увидел, что лучше от этого воздержаться. Жестоким ударом был для него погром, постигший родные его балтийские губернии. Он говорил мне, что прослужит еще три года до полной пенсии, необходимой ему при недостатке средств, и затем удалится. Но три года прошли, и он не удалился. Придворная жизнь и высокие почести взяли свое. Это отразилось и на наших отношениях. Несмотря на то, что мы по целым годам не видались, дружеская связь поддерживалась дорогими нам воспоминаниями, и мы встречались всегда с искренним чувством. Но это продолжалось только до тех пор, пока я за слишком независимый образ мыслей не подвергся немилости. Тогда я, вместо прежнего теплого привета, при сохранении внешних форм, почувствовал внутренний ледяной отпор. Отношения к людям вообще, испытываются во времена невзгод, которые служат пробным камнем истинного и ложного. Опыт жизни научает нас, что дружба придворных обращается в ледяную кору там, где перестает светить верховное солнце. Видя такие примеры перед глазами, я иногда спрашиваю себя: что есть истинного в душе человека? Были ли пустым призраком проявлявшиеся в молодости прекрасные свойства? Или, может быть, развращающая среда действует с неотразимою силой на всякую душу, не закаленную в борьбе, оттесняя в ней все хорошее, выдвигая все дурное, и мало-помалу превращающая наконец человека в совершенно иное сочетание качеств, нежели каким он являлся в молодых летах? Думаю, что немногие, крепкие как скала натуры способны противостоять растлевающему действию почестей и власти; обыкновенные же смертные легко поддаются гибельным их чарам, а при слабости характера совершенно утопают в грязи. К сожалению, мне пришлось это видеть на близких людях.
Отменным, безукоризненно честным и добрым человеком был другой наш спутник, Федор Адольфович Оом. Он весь был предан своему долгу и тому лицу, к которому он был приставлен. Живой, веселый, общительный, участливый, он сердцем стоял, может быть, выше всех остальных, но ума он был весьма недалекого, и мелочные стороны его характера выказывались иногда довольно забавно. Он важно обсуждал все вопросы, придавая преувеличенное значение мелочам, вкривь и вкось толковал о людях, пытался разыгрывать несвойственную ему великосветскую роль, обижался, когда ему давали слишком маленький крестик. Я полюбил его, как доброго человека, и всегда остался с ним в очень хороших отношениях; но общего было, в сущности, мало.
Еще менее я мог сойтись с доктором Шестовым. Он был человек не дурной и обходительный, но пошлый. К наследнику он был определен по рекомендации лейб-медика Енохина, которому он приходился племянником, и который всячески старался выдвигать русских. На этот раз выбор был неудачный. Шестов, говорят, учился хорошо, но доктор он был плохой; он не имел ни любви к медицине, ни каких-либо научных интересов, а любил пожуировать и обладал весьма низкопробными артистическими наклонностями: делал наброски карандашом без всякого таланта и покупал старые галебарды, которые годились только на дрова. Увидав, что я собираю гравюры, он тоже накупил всякой дряни и очень огорчился, когда я ему сказал, что все это не имеет никакой цены. С Оомом они были в дипломатических отношениях, друг над другом исподтишка подсмеивались, однако, с соблюдением полного приличия.
Что касается до двух молодых ординарцев, то это были добрые, милые, веселые ребята, но настоящие гвардейские офицеры, без всяких умственных интересов и без малейшего образования. Козлов был больше идеалист, за что его особенно любил наследник. Впоследствии он сошел с ума, будучи женихом очень богатой, но некрасивой княгини Орбелиани, рожденной Сомовой, вышедшей потом замуж за Мюрата. Говорили, будто он не мог вынести мысли, что женится на деньгах, явление довольно редкое, которое делает ему честь. Барятинский, напротив, очень красивый собою, более прилегал к прозе. Отец его, Анатолий, брат фельдмаршала, был известный кутила, мать столь же известная красавица и кокетка[44]. Сам он был добрейший малый, без всяких претензий, веселый товарищ, но совершенный младенец, родившийся еще до изобретения различия между добром и злом, и таковым он остался всю свою жизнь. Каково же было всеобщее удивление, когда много лет спустя, другого наследника, тоже Николая Александровича, отправили путешествовать на восток и руководителем поставили Владимира Барятинского! Граф Сергей Григорьевич Строганов и Владимир Барятинский! Одно сопоставление этих имен показывает, какое коренное изменение во взглядах произошло в промежуток двух царствований, как прежде смотрели на путешествие наследника и как смотрят на него ныне.
Граф Строганов действительно был проникнут сознанием своих высоких обязанностей. Он хотел, чтобы путешествие принесло серьезную пользу, чтобы наследник видел и понял все замечательное в Европе, чтобы он набрался новых, возвышенных впечатлений. Объезд германских дворов, с сопровождающим их пустым церемониалом, был неизбежен; имелось в виду и приискание невесты. Но главная цель поездки был Рим, где мы должны были провести четыре или пять зимних месяцев. Я скоро увидел, что я был в путешествии необходимым элементом, ибо мы одни с графом Строгановым могли поддерживать серьезный умственный разговор, в котором наследник, с свойственною ему восприимчивостью, всегда принимал живой интерес. Остальные делали свое дело. Молодые люди веселились и хохотали; на Ооме лежала вся хозяйственная часть; доктор исполнял свои обязанности. Все клеилось, как нельзя лучше. Все жили в полном согласии; в течение годичного путешествия не было и тени неприятности. Отношения были самые непринужденные; стеснения не было ни малейшего; разговор был всегда оживленный и дружественный; можно было высказываться обо всем с полною откровенностью.
Мы путешествовали как кружок друзей, разных возрастов, различных положений, но все соединенные общим чувством и общими стремлениями. Центром этого маленького мира был прелестный юноша, с образованным умом, с горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимающий во всем живое участие, распространяющий вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство. И как хранитель этого драгоценного цветка, «надежды отечества», стоял русский вельможа старого времени, пользовавшийся всеобщим уважением, имевший за собою незабвенные заслуги, одушевленный самыми возвышенными стремлениями к просвещению и самою пламенною любовью к отечеству, с цельным характером, выражавшимся в строгих внешних формах, но мягкий и обходительный в частной жизни. Все преклонялись перед его авторитетом, но рука его не тяготела ни над кем. Впоследствии говорили, будто граф Строганов сурово обходился с наследником, особенно во время его последней болезни. Я, близко видевший их отношения, могу свидетельствовать, что ничего подобного не было и не могло быть. Тут было благоговейное уважение с одной стороны и самое мягкое попечение с другой. Лучшего ничего нельзя было желать.
Так мы отправились в путь. Могли ли мы предчувствовать, как мы через год вернемся?
Первая остановка была в Берлине, где на этот раз мы только переночевали. Мы не избегли мундиров и представлений, но все это было в весьма умеренном количестве. Нас поместили в доме русского посольства. Вечером я пошел к наследнику и застал его одного с князем Николаем Алексеевичем Орловым, в то время нашим посланником в Брюсселе. Он случайно был проездом в Берлине и пришел откланяться великому князю, с которым был близок
Орлова я знал уже прежде. Еще в 1858 году, во время моего кратковременного пребывания в Париже, где он в ту пору жил, он сам приехал ко мне знакомиться, позвал меня обедать, и с тех пор между нами завязались хорошие отношения. Это была одна из самых странных личностей, каких мне доводилось встретить. Сын первого любимца императора Николая, воспитанный в придворной сфере, близкий к великим князьям, он был совершенно чужд господствовавших в этом круге понятий, а, напротив, питал в себе неодолимое стремление к просвещению, при ярко либеральном образе мыслей. А так как он не был довольно умен, чтобы сладить с этим противоречием между стремлениями и средою, то он в сущности не знал, что делать с своим умственным достоянием, и часто попадал в неловкое положение. Сначала он служил в военной службе. Под Силистрией безрассудная храбрость, которая побудила его настаивать на предприятии несчастного ночного штурма, была причиною потери глаза. Он вышел в отставку и поселился в Париже. Там он водился преимущественно с литераторами, часто без большого разбора. Он был в коротких отношениях с Тургеневым, с графом Салиас, с Феоктистовым; в Брюсселе, куда он был назначен посланником после внезапной смерти Рихтера, одним из его приближенных был Молинари. Во время Польского восстания он вдруг выкинул самую удивительную штуку. Как либерал, он стоял за независимость Польши, а как человек, витающий в облаках, он вздумал осуществить эту мысль немедленно, по собственной инициативе. С этой целью он отправился к Людовику-Наполеону и на частной аудиенции предложил ему решить польский вопрос назначением великого князя Константина Николаевича королем Польши. Император французов, разумеется, скоро согласился, о чем Орлов тотчас поехал сообщить государю. Для дипломата это было нечто чудовищное. Только высокое положение и мягкость государя, который любил его за его честность и прямоту, спасли его от отставки. Впоследствии он сделался послом, сначала в Вене, потом в Париже. Везде он умел снискать любовь подчиненных, которых привлекали его мягкий, обходительный нрав и безукоризненное благородство характера. Отношения были чисто товарищеские, чему я сам был свидетелем, проезжая через Вену. Но света он по-прежнему чуждался, что для посла было не совсем удобно. В Париже он часто видался с Тьером, а после смерти последнего жил почти в полном уединении. С летами его яркий либерализм несколько угомонился; но в то время, о котором идет речь, он выражался иногда в весьма резкой форме. После довольно продолжительной беседы, прощаясь с наследником и со мною, он меня обнял и сказал: «До свидания, надеюсь, в русском парламенте, хотя мы с вами, по всей вероятности, будем сидеть на разных скамьях, ибо я, наверное, буду сидеть налево». Эта странная выходка, не вызванная даже предшествующим разговором, поразила как меня, так и великого князя, который очень любил князя Орлова. Что она означала? Хотел ли он внушить молодому человеку мысль о необходимости конституции или это была просто либеральная поза? Всего менее я мог понять, зачем ему нужно было заранее обрекать себя на оппозиционную роль, между тем как созвание русского парламента очевидно предполагало в правительстве такое направление, которое должно было найти сочувствие и поддержку всех либеральных людей. После смерти наследника, Орлов хотел почтить его память проведением в русском законодательстве отмены телесного наказания. Он явился ко мне в Москву с этим проектом, которому я, разумеется, вполне сочувствовал. Он был главным двигателем этого дела, чем оказал серьезную услугу России.
Из Берлина мы проехали прямо в Киссинген, где императрица пила воды и где находился сам государь. Наследнику тоже было предписано лечение ваннами. Перед отъездом из России у него вдруг сделалась сильная боль в пояснице. В отсутствии Рихтера, который уехал на несколько дней в Остзейский край проститься с родными, он в сырую погоду отправился на охоту с Николаем Максимилиановичем Лейхтенбергским. Говорили, что он тут простудился и схватил lumbago. Доктора, созванные на консилиум, не нашли ничего серьезного и предписали киссингенские ванны и затем морские купания в Схевенингене. Но ваннами великий князь не пользовался, ибо чувствовал себя совершенно хорошо. На вид он казался бодрым и здоровым. Никто не подозревал, что в нем таилась уже болезнь, которая через несколько месяцев должна была свести его в могилу.
В Киссингене был большой съезд. Тут находился Баварский король[45], в то время еще совершенно юный, с интересною наружностью. Он был неразлучен с наследником, которому однако скоро надоел своими фантазиями. Был также большой сбор дипломатов: сам канцлер князь Горчаков, наш посол в Париже – барон Будберг, человек умный, сметливый, живой, но интриган и неразборчивый на средства; приехал из Турина и граф Штакельберг. Горчакова сопровождали ближайшие его сотрудники, Гамбургер и Жомини. Были и другие высокопоставленные лица, которые толпились около двора.
Свиту наследника разместили по разным гостиницам. Я обедал обыкновенно за обер-гофмаршальским столом, под председательством графа Андрея Петровича Шувалова, в пестрой компании скучных стариков и не менее скучных молодых. Иногда меня приглашали к царскому столу, где чопорный этикет царил во всем своем величии. Разговоров почти не было; все больше молчали и глядели подобострастно, в ожидании, что на них упадет милостивое слово. После чинного обеда были столь же чинные обходы; каждому дарилось пустое словечко, которое делало его счастливым. Когда нас распускали, я уезжал с чувством невольного облегчения. К счастью, придворная жизнь для меня этим ограничивалась. Граф Строганов и Рихтер, которые почти ежедневно приглашались по вечерам, говорили, что там царила такая невообразимая скука, что они просто не знали, куда деваться.
В Киссингене происходили, однако, важные дипломатические совещания. Это был тот момент, когда раздавленная немецкими войсками Дания готова была сдаться на всех условиях. Англия и Франция предлагали России сделать для ее защиты совокупную морскую демонстрацию. К этому, сколько мне известно, подбивал Будберг, который вел интригу против Горчакова и громогласно порицал его политику, как лишенную всякой цели и всякого содержания. Он мне самому высказал это, вовсе не стесняясь. Я отправился к Горчакову и нашел его в очень дурном расположении духа вследствие затеянных против него подкопов. «Говорят, зачем канцлер в Киссингене, – сказал он мне. – А затем, что присутствием канцлера в Киссингене предупреждена европейская война». Действительно, Горчаков настоял на отказе русского правительства в совместном действии. Дания была отдана на жертву врагам, и у Пруссии были развязаны руки. Это был роковой шаг, из которого вытекли все последующие события. Князь Горчаков ничего этого не предвидел. Впечатлительный и тщеславный, он руководствовался в своей политике не глубоко обдуманными целями, не сознанием истинных интересов России, а случайным настроением в пользу той или другой державы. В первые годы после Крымской войны вся наша дипломатия двигалась одним чувством: ненавистью к Австрии, которая отплатила нам неблагодарностью за оказанные ей услуги. После Польского восстания предметом негодования сделались французы, хотя Людовик-Наполеон заранее предупреждал государя о разногласии по польскому вопросу. В то время Пруссия, которая не менее нас была заинтересована в подавлении польского мятежа, одна оказала нам дипломатическую поддержку, и за эту ничего не стоившую ей услугу она теперь получила существенное вознаграждение.
Из Киссингена мы прямо отправились на морские купания в Голландию. Мы выехали с царским поездом. Императрица оставалась еще допивать свои воды, а государь вернулся в Россию. Часть пути мы ехали вместе; на станциях были общие завтраки и обеды за царским столом. Я все всматривался в фигуру монарха, который здесь являлся мне в обыденной жизни, и я все удивлялся, как мало его наружность говорила о величии совершенных им дел. В нем не было ни обворожительных приемов Александра I, которые покоряли сердца, ни внешнего величия Николая, поражавшего всех, кто к нему приближался. Лицо было довольно красивое, с мягким выражением, но ничего не значащее; какие-то телячьи глаза, тщательно приглаженные наперед виски, пустая речь, довольно пошлые ухватки. Вместо самодержавного венценосца, я видел перед собой армейского майора. Откуда же взялись все эти великие деяния, которые перевернули русскую землю и разом поставили ее на новый путь? За эти деяния я готов был любить его всем сердцем, но понимал, что личным обаянием он действовать не мог. Этого дара ему не было дано. Мягкий, добрый, снисходительный, одушевленный самыми благими намерениями, он не доверял ни себе, ни другим, а потому не в состоянии был никого к себе привязать. Его трагическая смерть поразила всех ужасом, но мало возбудила сожалений. Он мог служить примером того, что провидение для совершения величайших дел употребляет иногда весьма обыкновенные орудия. Когда вопрос созрел в общественном сознании, для решения его не нужно гения; достаточно человека благонамеренного и здравомыслящего.
Прибыв в Голландию, мы прежде всего заехали на поклон к вдовствующей королеве Анне Павловне, весьма известной в России тем, что ее имя последнее провозглашалось на ектенье в те времена, когда диакон с амвона перечислял одних за другими нескончаемых членов царской фамилии. Она приняла нас в своем загородном дворце, и тут я увидел настоящий старый тип вдовствующей королевы, тип, исчезнувший навсегда среди новых условий и понятий. Во всей ее особе выражалась какая-то торжественная важность и павлинность, прикрывающая совершенную пустоту. Она двигалась и поворачивалась медленно и плавно, снисходительно роняла поочередно любезные слова, и в каждом слове выражалось глубокое сознание, что этим самым оказывается милость и что эту милость должны чувствовать.
За обедом я сидел возле секретаря русского посольства, Сиверса, который приехал встретить наследника. Чтобы завязать разговор, я самым невинным образом спросил его: давно ли он в Гааге. Вдруг он выстрелил, как бомба – это было самое больное его место: «Представьте, двадцать лет! – воскликнул он с жаром. – Никто не понимает, отчего я так долго здесь сижу. Я давно бы имел право на высшее назначение, но вследствие интриг меня все обходят». Конечно, все, кроме самого Сиверса, очень хорошо понимали, отчего он так долго сидел на месте. Карикатурист Всеволожский, незадолго перед тем состоявший при посольстве в Гааге, оставил там прелестный альбом с жизнеописанием Сиверса, который завершал свою дипломатическую карьеру тем, что в придворном мундире, с глубоким поклоном подавал свою кредитивную грамоту какому-то негритянскому корольку.
В Схевенингене мы пробыли месяц, и это время осталось для меня лучшим воспоминанием всего путешествия. Мы жили исключительно в своей компании, купались в море, гуляли, осматривали достопримечательности страны. Все были бодры и веселы. Никаких придворных приемов не было. Ежедневно к обеду приезжал приставленный к наследнику адъютант короля, ван Капеллен, очень милый человек, которого мы расспрашивали о Голландии и который сопровождал нас иногда в наших экскурсиях.
Все мы Голландиею очень заинтересовались. Мне в первый раз доводилось быть в этой совершенно оригинальной стране, отвоеванной у моря; и непохожей ни на какую другую. Свежая зелень лугов, во все стороны перерезанных каналами; пестрые пасущиеся на них стада; всюду вертящиеся мельницы, оживляющие ландшафт; паруса, которые, вздымаясь над невидимою лодкой, как бы скользят по траве, и рядом с этим безбрежное море с тысячами переливов, усеянное судами, пенистые валы, прибивающиеся к плоскому берегу, окаймленному грядою песчаных холмов, – все это представляло своеобразную и привлекательную картину. Кругом все носило печать мирной и довольной жизни: необыкновенно опрятные жилища; голландки с их чистыми юбками и золочеными головными уборами; крепкие рыбаки, вытаскивающие с судов ежедневную морскую добычу; всюду следы заботливости, бережливости и труда. И среди этой обстановки целый рой воспоминаний о героических временах и чудеса искусства, свидетельствующие о высоком некогда подъеме народного духа. Создания художества делают особенно сильное впечатление, когда их видишь в той среде, которая их произвела. Граф Строганов был любитель и знаток картин. В этом мы с ним сходились вполне. Мы с жадностью посещали музеи в Гааге, Амстердаме, Гарлеме, Лейдене, Роттердаме. В первый раз я увидел это чудо голландского искусства, единственное произведение, достойное стать на ряду с итальянскою живописью, «Ночной дозор» Рембрандта, где яркость, сила и игра красок и света, вместе с энергическим выражением лиц, могут соперничать с лучшим, что производила человеческая кисть. Я любовался и изумительно тонкими переливами теней в знаменитом «Уроке анатомии», и полными жизненной правды фигурами Ван-дерТельста, и смелыми, выразительными портретами Франца Гальса, быком Поль Поттера, внутренностями жилищ Питтер-де-Гуга, которым врывающийся в окно солнечный луч придает какое-то чарующее освещение, прелестными семейными сценами, животными, пейзажами, подобных которым не производила никакая школа. Каждая маленькая картинка представлялась перлом, на который нельзя было наглядеться.
Здесь я положил начало и своему собранию картин. Однажды, когда мы с графом Строгановым осматривали в десятый раз Гаагский музей, директор сказал нам, что у него в задней комнате есть картины для продажи. Граф Строганов тотчас же накинулся на два маленьких пейзажа ван-Гойена, за которые он заплатил триста франков, а я столько же дал за два фамильных портрета Петра Назона, которые продавались каким-то разорившимся роттердамским семейством. Они теперь висят у меня в Карауле.
Я продолжал собирать и гравюры. Каждый день после завтрака, когда не было других предположений, я отправлялся пешком через лес, соединяющий Схевенинген с Гаагою. Я или шел в музей или чаще заходил к продавцу гравюр Фишеру, у которого был порядочный материал. Я показывал свои приобретения наследнику, который тоже любил и умел ценить искусство. Он, в свою очередь, заинтересовался гравюрами и положил начало собранию, которое после его смерти исчезло неизвестно куда. Там, между прочим, были довольно ценные портреты Вильгельма Оранского, которого великий князь высоко чтил. Живя в Схевенингене, он читал историю Мотлея, которая могла внушить уважение к изумительной стойкости этого маленького народа и к доблестям его героев.
В наших поездках, разумеется, не был забыт и Заандам, эта колыбель русского величия. С глубоким благоговением вошли мы в низенький деревянный домик, где жил могучий гений, создавший новую Россию; мы видели простые стулья и убогую кровать, на которой богатырь едва мог растянуться. Здесь он в униженном виде работал неутомимо для славы своего народа, и теперь, на поклонение его памяти, в эту ветхую хижину являлся наследник русского престола, хранитель великих преданий, будущий властитель земли, разросшейся во все стороны и ставшей одною из могущественнейших держав в мире. Мы нашли здесь и следы прежних посещений русских царственных особ: подписи в книге, стихи Жуковского, некогда сопровождавшего тогдашнего наследника Александра Николаевича; нашли и курьезный перевод, сделанной на доске голландской надписи: «Ничто великому человеку мало» (Nichts ist dem grossen Mann zu klein)[46], Посещение Заандама могло исполнить нас патриотическою гордостью при сравнении прошедшего с настоящим, при мысли о великом начале, принесшем столь обильные плоды.
Среди этой приятной жизни нас постиг неожиданный удар. Из России пришло известие, что старший сын графа Строганова[47] скончался внезапно. Он лег спать здоровым, а поутру его нашли мертвым в постели. Старик был совершенно сражен горем. Он обыкновенно разыгрывал из себя спартанца, но тут он не выдержал; таившаяся в сердце любовь выразилась самым трогательным образом. Он немедленно по телеграфу просил позволения поехать недели на две в Петербург, чтобы утешить жену. Разумеется, разрешение было тотчас дано. При своей ненависти ко всяким демонстрациям, он просил, чтобы его не провожали на железную дорогу. Но я рассудил, что ему слишком грустно будет уезжать одному, и все-таки поехал; он был этим тронут. Я нашел там и старого его товарища, тогдашнего русского посланника в Гааге, добрейшего старика Мансурова. Они оба были адъютантами Александра Павловича и вместе, еще молодыми офицерами, сопровождали тело императора из Таганрога.
Нас крайне озабочивало назначение временного заместителя. Ну как пришлют какое-нибудь высокопоставленное лицо, которое нарушит весь строй нашей жизни! Скоро однако мы успокоились: назначен был граф Матвей Юрьевич Виельгорский, брат весьма известного в петербургских литературных кружках, в то время уже покойного Михаила Юрьевича, добрейший и милейший человек, обходительный, ласковый, страстный музыкант. Я знал его давно по родственным связям с Веневитиновым, который был женат на его племяннице, дочери Михаила Юрьевича, и мог только радоваться этому назначению.
Прежде, однако, нежели он прибыл, наша компания умножилась лицом совсем другого типа. На свидание с наследником приехал в Схевенинген Владимир, или, как его называли, Вово Мещерский, будущий редактор «Гражданина». Рихтер объяснил мне, что его старались сблизить с великим князем вследствие того, что из всех петербургских молодых людей высшего общества он один имел некоторые умственные и литературные интересы. Действительно, он был внук Карамзина и хранил в себе литературные предания семьи. Но рядом с этим у него была прирожденная наклонность к самому утонченному искательству и раболепству. Еще будучи совершенно молодым человеком, чуть ли не двадцати лет, он выхлопотал себе весьма характеристическое поручение в Западном крае: он должен был присутствовать на экзаменах в мужских и женских заведениях и лучшим ученикам и ученицам раздавать фотографические карточки императрицы. Такое начало обещало много. С тех пор заветною его мечтою сделалось сближение с наследником русского престола. Он всячески подольщался к Николаю Александровичу, но вследствие ранней смерти последнего хлопоты его пропали даром. Тогда он обратился к новому цесаревичу. Однако, тут его искательство было до такой степени беззастенчиво и назойливо, что он наконец совершенно подорвал свой кредит. Как видно, он с летами не научился тонкости, а потому иногда самым забавным образом попадался в просак. Однажды он встречает Оома и, глядя на него с участием, говорит: «Федор Адольфович, вы что-то очень бледны и худы; вам бы следовало полечиться. Поедемте в Карлсбад». «Куда мне в Карлсбад! – отвечал тот – Я должен сопровождать наследника[48] в его путешествии по России, и мне некогда разъезжать по водам». Через несколько дней произошла новая встреча. «Федор Адольфович, на вас лица нет! – воскликнул Мещерский. – Поверьте, вам необходимо лечиться. Поедемте вместе в Карлсбад». Тот опять решительно отказался. Вдруг, несколько времени спустя, Оому приносят список лиц, назначенных сопровождать наследника, и оказывается, что его имени тут нет, а вместо него назначен Мещерский. Он тотчас отправился к великому князю узнать, что это означает. «Да разве вам не нужно ехать лечиться в Карлсбад? – спросил цесаревич. – Мещерский мне сказал, что вам это необходимо, но что вы совеститесь об этом говорить». «Я, ваше высочество, никогда не отказывался от исполнения своих обязанностей и вовсе не в таком положении, чтобы мне нужно было непременно ехать на воды. Мещерский меня уговаривал ехать вместе с ним, и я решительно отказался». «Я тебе давно говорила об этом Мещерском», – воскликнула сидевшая тут цесаревна. Тотчас было приказано назначить Оома для сопровождения во время путешествия, а Мещерскому запрещено было даже являться в те места, где будет проезжать наследник.
Он успел однако опять втереться в милость. Чтобы заманить к себе великого князя, он устраивал у себя вечеринки, на которые приглашал более или менее интересных людей, способных вести серьезный разговор. Но и это была неудачная выдумка. До умственных интересов Александр Александрович был не охотник, и это скоро ему надоело. В 1871 годуя проводил зиму в Петербурге. Однажды я получаю записку от Мещерского, с которым мы даже не обменивались визитами; он приглашал меня на вечер, устроенный будто бы по желанию наследника для известного педагога, барона Корфа, который в это время гостил в Петербурге. Барон Корф был человек интересный, и я поехал; но меня заранее предупреждали, что эти вечера – дело известное: они всегда устраиваются по желанию наследника, и наследник никогда на них не бывает. И точно, Мещерский встретил меня с выражением сожаления, что великий князь никак не может быть, потому что отозван на вечер к государю. После я узнал, что никакого вечера у государя не было, и наследник преспокойно просидел дома. Для меня это было безразлично, и я провел приятный вечер с бароном Корфом, в котором нашел человека очень живого и страстно преданного своему делу. Но сам Корф был в большом затруднении. Мещерский уверил его, что великий князь пламенно желает его видеть, а, между тем, ему необходимо было ехать в Новгород, где ему готовились овации и хотели дать обед. «Я не могу медлить поездкою в Новгород, – говорил он, – но для нас так важно, что наследник русского престола интересуется народными школами, что я готов пожертвовать всем». Несколько времени спустя я случайно встретил Мещерского. «Ну, чем же кончились затруднения барона Корфа?» – спросил я. Он только отвернулся и замахал рукой. «Лучше не говорите», – сказал он грустным тоном. Оказалось, что несчастный Корф съездил в Новгород наскоро и нарочно оттуда вернулся, чтобы видеть великого князя, и все-таки его не видал. Нельзя не сказать, что симпатическую роль играл тут один барон Корф.
Видя, что не удается ему сделаться другом наследника, Мещерский избрал другой путь: он затеял газету с ярко крепостническим направлением, нечто вроде «Московских Ведомостей», но без ума, без образования и без таланта. На этот раз предприятие вышло удачное. Несмотря на то, что газета была смесью пошлости и нахальства, она имела успех в высших сферах, которые на этот счет весьма неразборчивы. Я слышал, что она получает довольно значительные субсидии. Даже случившаяся с редактором грязная история, наделавшая скандал, не лишила его оказываемых ему милостей. Мещерскому не удалось снискать дружбу царственных особ, но он сделался лицом в русском обществе.
В отсутствие графа Строганова королева София вздумала развлечь наследника, устроив для него маленький вечер. Она пользовалась репутацией значительного ума и любезности, но вечер вышел один из самых невыносимых, какие мне доводилось проводить в своей жизни. Для увеселения гостей устраивались разные хитроумные игры (jeux d’esprit). Я вспомнил баронессу Раден, которая говорила, что это страсть всех царственных особ. Сама королева заранее к этому приготовилась и хотела блистать своим остроумием, но все остальные были поставлены в тупик. Тут, между прочим, был лорд Нэпир, бывший английский посол в Петербурге, человек очень умный, образованный и приятный, который нарочно приехал в Гаагу на поклон к королеве. С его помощью можно было вести салонный разговор, оживленный и интересный. Вместо того его заставляли разгадывать разные глупые загадки, и он играл роль совершенного дурака. До сих пор не могу забыть его печальной физиономии, когда он в раздумьи стоял перед королевой, не зная, что ему вымолвить. Столь же неудачны были попытки выказать ум принца Оранского[49]. Он тоже не умел ничего разгадать и ответить и постоянно убегал в соседнюю комнату болтать с фрейлинами, что для него было гораздо интереснее. Наследник, разумеется, не мог отвертеться, а мы все время старались прятаться по углам, чтобы нас не притянули к этой пытке. Когда кончился вечер, мы вздохнули свободно и с чувством облегчения от нестерпимого гнета вернулись домой. Перед отъездом пришлось раскланяться с королем, и тут опять произошла комическая сцена. Тяжелый и неповоротливый король голландский[50] видимо не находил, что ему сказать этому ряду облеченных в мундиры людей, совершенно ему незнакомых. Он подходил по очереди к каждому и с грустным видом повторял одну и ту же фразу: «Et vous aussi, vous nous quittez!»[51]. Кто-нибудь один из нас мог отвечать, что жаль расставаться с таким интересным краем; но разнообразить ответ было мудрено. Из всех венценосцев, которыми нам приходилось представляться, я нашел, что самый изобретательный был король португальский[52]. Обходя всех по очереди, он каждому шептал что-то на ухо, так что соседи не могли расслышать. Этим способом можно было одну и ту же фразу отпустить всем, не будучи смешным.
Из Схевенингена мы прямо проехали в Копенгаген. Это была одна из главных целей нашего путешествия, ибо тут находилась та юная особа, которую наследнику прочили в невесты [53]. С первого взгляда впечатление было самое благоприятное: мы увидели прелестную молодую девушку, с миловидным лицом, с скромным и симпатическим выражением. Наследнику она тотчас полюбилась, и мы все были очарованы. Под этим впечатлением все окружающее показалось нам в привлекательном виде: и добрый датский король и его умная и глухая жена[54], и несколько патриархальный пошиб двора, и любезная и приятная статс-дама, графиня Ревентлов, прогулки, обеды, даже обходы и вечера. Нам было так весело на душе, что мы ничем не тяготились.
Русским посланником в Дании был в то время барон Николаи, женатый на сестре жены моего брата, рожденной Мейендорф[55]. Они были очень милые люди, и я был с ними в хороших отношениях. Они стали расспрашивать меня о наследнике; я сообщил то, что я видел и знал. Они чрезвычайно обрадовались. «Представьте, – сказали они мне, – в виду предполагаемого брака, мы старались собрать сведения о великом князе, и от людей, по-видимому весьма близко стоящих к этим сферам, получили самое безотрадное изображение его характера. Нас уверяли, что он очень сердит, очень лукав и очень скуп». Этот отзыв показал мне, какие чувства господствуют в окружающей престолы среде, где самое низкое раболепство умеет сочетаться с самым беззастенчивым злословием.
Через несколько дней мы уехали с самым радостным чувством и направились в Дармштадт, где наследник должен был сообщить родителям о результатах своего посещения. Императрица гостила там у своего брата; вслед за тем подъехал и государь. По этому случаю великий герцог[56], большой любитель театра, задал парадный спектакль. У государя спросили: какую пьесу он хочет видеть. Он выбрал «Robert et Bertrand», историю двух воришек. Для парадного представления это был довольно странный выбор. Государь любил театр, как отдохновение, и особенно, как случай посмеяться. Когда он несколько лет спустя, поехал в Париж, он еще с дороги по телеграфу заказал себе ложу и в самый вечер приезда отправился смотреть оперетку «La duchesse de Geroldstein». Великий герцог дармштадтский, который гордился своим театром, при вторичном представлении сам уже назначил пьесу: давали «Гугенотов». Во время антрактов выходили пить чай в боковую залу, где на двух противоположных концах накрыты были большие столы, один для высочайших особ, другой для придворных и свиты. Матвей Юрьевич Виельгорский приходил от этого в негодование. «Посмотрите на этих немецких князьков, – говорил он мне, – как они держат себя особняком. У нас к царскому столу всегда приглашают и других, а тут они считают ниже себя мешаться с обыкновенными смертными». «А я нахожу этот этикет очень удобным, – отвечал я, – мы тут сидим и разговариваем без всякого принуждения, а если бы произошло смешение, непременно почувствовалось бы общее стеснение».
В Дармштадт приехал и граф Строганов. Он остановился в Франкфурте и прислал пригласить меня к себе. Мы обедали вдвоем. Он расспрашивал о Копенгагене, и я сообщал ему свои впечатления. Во время обеда старик вдруг остановился. «А мне, право, совестно, – сказал он, – что я в Схевенингене вел себя совершенно ребенком». И при этом он опять не выдержал, слезы полились градом. Напускная спартанская твердость не в состоянии была побороть внутреннего горя.
Надобно было опять ехать в Копенгаген с формальным предложением. Но прежде этого пришлось сделать несколько родственных визитов. Мы отправились в Фридрихсгафен, резиденцию Вюртембергского короля[57] на Боденском озере, где собралась вся царская семья праздновать полное совершеннолетие наследника. 8 сентября ему минуло 21 год.
Пошла обычная рутина придворной жизни: представления, мундиры, парадные обеды, скучные обходы с пустыми разговорами и, к довершению всего, пожалование крестиков. Я питал к ним неодолимое отвращение, видя как суетные люди страстно их домогались и с гордостью их носили, и я не раз упрашивал, чтобы меня от них избавили; но мне говорили, что это невозможно. Утром 8 сентября нам принесли вюртембергские ордена, которые мы должны были надеть к обеду. В первый раз мне приходилось украшаться этою вывескою человеческой пошлости, и я сделал это с каким то чувством негодования и отвращения. Перед обедом наследник, увидев меня в полном параде, подошел ко мне и сказал с улыбкою: «А, наконец, и вы в ордене!» «Мне очень жаль, ваше высочество, – отвечал я, – что мне пришлось в первый раз оскверниться в день вашего рождения». Он рассмеялся. Скоро пришлось к этому привыкнуть, а после смерти наследника я, при парадной форме, всегда надевал датский орден, как грустное воспоминание прошлого.
К счастью, в Фридрихсгафен приехала великая княгиня Елена Павловна со своею свитой. Среди придворной суеты и пустоты это было для меня умственное и сердечное отдохновение. После первого вечера мы возвращались домой вместе с баронессой Раден. «А знаете ли, – сказал я – ей, что король вюртембергский, который слывет далеко не за умного человека, сделал на меня хорошее впечатление. Он подошел ко мне и стал говорить о своих путешествиях. Это – первое человеческое слово, которое я слышу на этих придворных обходах». Она расхохоталась. «Это я ему непременно скажу, – отвечала она. – Представьте, он вас принял за отчаянного республиканца; говорит, что вы слушаете с таким высокомерным видом, как будто все, что вам говорят, не стоит внимания». Я заметил, что это вероятно происходит оттого, что они все привыкли видеть вокруг себя раболепные физиономии, и когда их не встречают, находят это странным и неприличным. На следующий день король вюртембергский отыскал меня в толпе и долго беседовал со мною. Он, видимо, был польщен моим отзывом.
Из Фридрихсгафена мы поехали на поклонение к другому старому родственнику, будущему императору Вильгельму, который в это время находился в Потсдаме. Опять пошли представления, мундиры, парадные обеды, которые отличались только тем, что здесь была несметная толпа генералов и все носило военный характер; пошли обходы с пустыми разговорами и, наконец, неизбежное пожалование крестиков. Федор Адольфович пришел сообщить мне с огорчением, что нам дали самый маленький орден короны. Я воспользовался пребыванием в Потсдаме, чтобы всякий день ездить в Берлин, где я проводил утро, осматривая музеи и рыская по продавцам гравюр.
Наконец, в Киле мы сели на царскую яхту, которая привезла нас в Копенгаген. Наследник с графом Строгановым и Рихтером тотчас отправились в загородный дворец, где находилась королевская семья, а прочие остались в Копенгагене дожидаться результата. К вечеру нам прислали сказать, что мы можем ехать с поздравлением. Мы встретили молодую чету в коридоре, отправляющуюся вдвоем, под руку, в свои апартаменты. Это была одна из самых радостных минут моей жизни. Оба были молоды, красивы, влюблены друг в друга; оба сияли счастием. Будущее представлялось в самом радужном свете не только для них самих, но и для всей России. Мы с неудержимым порывом бросились их поздравлять. А шесть месяцев спустя, мы провожали гроб нареченного жениха, увядшего в цвете лет.
Однако любовь его не пропала даром. Избранная им невеста сделалась русскою императрицею и проявила на престоле те прекрасные сердечные свойства, которыми одарила ее природа. Иным это казалось мало. Граф Строганов, который требовал от императрицы ума, образования и характера, способных поддержать высокое общественное и всенародное положение, приходил иногда в отчаяние. Глядя на сохранившуюся до зрелых лет неумеренную любовь к танцам и нарядам, он с горечью говорил: «C’est une poupee de Saxe!»[58]. Ho этот приговор был слишком строг. Она гораздо более, нежели саксонская кукла: она – чистое и любящее существо, добрая жена и нежная мать. Ей в значительной степени нынешняя царская семья обязана тем счастливым семейным бытом, который составляет лучшее ее украшение. Когда изредка случается представляться императрице, меня всегда пленяет ее милый и приветливый взгляд, ее ласковая улыбка, даже некоторая робость и неумение выражаться, несвойственные высокому сану. Я вспоминаю ту поэтическую минуту, когда я видел ее молодою и счастливою, под руку с столь же счастливым царственным женихом, и мне кажется, что не даром он отдал ей свое сердце. Мы две недели прожили в находящемся близ Эльзенёра загородном дворце датского короля, Фреденсборге. Для влюбленной четы время, конечно, быстро летело, но мне оно показалось очень долгим. Придворная скука совсем меня одолела. Для человека, привыкшего к серьезным умственным интересам, этот быт через некоторое время становится невыносимым. Я не тяготился этикетом; напротив, я находил его чрезвычайно удобным, ибо знаешь заранее все, что нужно делать. Меня даже забавлял вид торжественных церемоний в довольно патриархальной среде. Перед обедом все собирались в аванзале, а царственные особы проходили в гостиную. Старый гофмаршал с важностью затворял двери, пока те строились в ряд. Затем дверь с шумом растворялась, и вся процессия попарно шествовала торжественным ходом мимо нас. За нею все устремлялись в обеденную залу, где каждому назначено было свое место. За обедом еда была некоторого рода развлечением; но самое убийственное начиналось после. Каждый из членов королевской семьи считал непременною обязанностью ежедневно обойти всех и всякому сказать приветливое слово. Намерение было самое похвальное; но приветливые слова исчерпывались, и говорить было решительно нечего. Я старался прятаться где-нибудь сзади, в надежде, что меня не заметят, но редко удавалось ускользнуть от разговоров. Однажды я в грустном ожидании стоял поодаль, рядом с милейшим и добродушнейшим капитаном царской яхты Дмитрием Захаровичем Головачевым, и вдруг мы видим, что после всех пускается в движение какая то молодая королевская родственница, гостившая в Фреденсборге. «Господи, и эта со своими подходцами!» – воскликнул он в отчаянии. Хорошо еще, когда этим все кончалось; но обыкновенно после роспуска нас ловили и приглашали на вечер. Не могу забыть, как я раз, получивши такое приглашение, зашел сообщить это печальное известие графу Строганову. Старик только что снял мундир, облекся в халат и уселся спокойно писать письма домой. Как теперь вижу его негодующую физиономию: «О, о, о! Это уж слишком», – воскликнул он, качая головой. Чтобы избавиться от придворных приемов, он уезжал на несколько дней в Копенгаген, будто бы для осмотра древностей, а я ездил с ним под предлогом, что нельзя старика оставлять одного. Я разыскал там у одного любителя собрание гравюр, где среди всякого хлама были отличные вещи. Здесь я приобрел перл своей коллекции, великолепный оттиск «Поэта Виргилия в корзине» Луки Лейденского, что вознаградило меня за всю испытанную скуку.
Приезд принца Вельского[59] с семейством и свитой внес более внешнего оживления, но нисколько не более занимательности в патриархальную атмосферу копенгагенского двора. Я увидел здесь, какие глупые игры могут веселить англичан. Есть игра, которая вся состоит в том, что сосед говорит соседу: «Хотите купить мою утку?» (Will you buy my duck), и эта фраза идет кругом. Другая игра заключается в том, что один говорит: «Тот может мало сделать, кто не может сделать это, это, это» (He can do little, who cannot do this, this, this), и при этом три раза известным способом постукивает чем-нибудь по столу. Каждый по очереди должен это повторить, и так идет кругом, после чего первый говорит туже фразу, но уже постукивая иным способом, и опять все должны повторить те же слова и жесты. Это называется игрою. Когда же хотят веселиться безумно, то садятся вокруг стола, посреди которого кладут большой кусок ваты. Все начинают дуть на эту вату, стараясь направить ее на соседа, который должен отдуваться. Если он не успеет этого сделать, и вата на него упадет, то возбуждается всеобщий хохот. Веселее этого уж ничего нельзя придумать.
Среди этих забав и развлечений, которые для молодежи могли иметь свою прелесть, наступила минута отъезда. Прощание было самое сердечное и трогательное. Мы прямо проехали в Дармштадт, где царская семья с радостным чувством встретила молодого жениха. Теперь нам предстояло отдохнуть от всех этих волнений среди возвышенных впечатлений Италии. Но предварительно надобно было сделать еще несколько официальных визитов к родственным германским дворам. От этого граф Строганов меня избавил. Он советовал мне поехать в Кассель посмотреть картинную галерею и затем присоединиться к ним в Мюнхене. Баварский король находился в загородном дворце, куда наследник поехал один с Рихтером. По его возвращении, мы через Тироль проехали в Венецию. Здесь нас встретило полное очарование. Погода была дивная, и Венеция сияла в полном блеске. Мы были опять одни, в своем дружеском кружке, и могли, не стесненные ничем, с легким сердцем наслаждаться окружающим нас великолепием. Днем мы с увлечением осматривали дворцы, церкви и галереи; а вечером, на следующий день после нашего приезда, при открытых окнах, наследнику дана была серенада, представлявшая совершенно волшебное зрелище. Десятки гондол, украшенных разноцветными фонарями, собрались на Большом канале перед нашею гостиницею, и мелодические голоса итальянских хоров распевали нарочно сочиненную для этого случая песню. У меня осталась в памяти последняя строфа, грустно напоминающая то время:
Delia Neva sulle sponde
Fra i pompi ed i tetori,
La conzone dei pittori
Forte in mente ti verra
E ricordo di Venezia
Essa mai per te sara[60].
Бедному юноше не суждено было, среди пышности и блеска, вспоминать очаровательную Венецию на берегах Невы. Здесь в первый раз появились признаки той болезни, которая должна была свести его в могилу. Он почувствовал сильную усталость и в последние дни уже с видимо ослабевшим интересом осматривал картины. Мы приписывали это всем предшествующим волнениям и не придавали этому особенного значения, тем более, что доктор был совершенно спокоен.
Из Венеции мы отправились в Турин, остановившись на день в Милане, где в то время находился принц Гумберт. Граф Строганов не преминул воспользоваться остановкой, чтобы съездить в Павию, посмотреть прелестную Чертозу[61], которую мне довелось видеть в первый раз. В Турине Виктор-Эммануил задал нам большой обед, на котором присутствовали значительнейшие политические деятели Пьемонта. Это было, конечно, гораздо интереснее, нежели придворные церемонии. Меня посадили возле министра народного просвещения, с которым я вел приятную беседу. Короля мы нашли в мрачном настроении духа. Это была та минута, когда решено было перенести столицу из Турина во Флоренцию. Коренные пьемонтцы были от этого в негодовании. Председатель Сената, почтенный и ученый граф Склопис, которого я знавал еще во время первого моего путешествия, вышел в отставку. В спокойном Турине произошло нечто вроде народного возмущения; сам король подвергся неприязненным демонстрациям. Это глубоко его оскорбило, ибо он свой Пьемонт любил больше всего, и если решился на такую жертву, то единственно в виду блага Италии. После обеда он к нам подошел и долго, в общих выражениях, распространялся о неблагодарности людей, говоря, что он находит утешение только в охоте, где он может удалиться в горы, подальше от человеческого общения. Я с сочувствием смотрел на эту странную фигуру, невысокую, толстую и безобразную, с глазами на выкат, с громадными усами и эспаньолкой, имевшую вид какого то зверя, но с умным и энергическим выражением.
Из Турина мы проехали в Геную, где осматривали великолепные дворцы; затем, вместо того, чтобы прямо ехать во Флоренцию, мы завернули на несколько дней в Ниццу, куда прибыла на зиму императрица. Оттуда уж, на русском военном корабле, мы переправились в Ливорно и в тот же вечер прибыли во Флоренцию.
В самый день приезда я почувствовал себя нехорошо. Данное мне потогонное не подействовало, и на другое утро мне было еще хуже. В следующие дни болезнь шла, все возрастая. Я слег в постель. Открылся сильнейший тиф, который осложнился опасною местною, так называемою просяною горячкою (fievre miliaire), с сыпью и судорогами. Больше месяца я пролежал в этом положении. И доктора и мои спутники считали меня безнадежным. Тело мое превратилось в щепку; у меня сделались мучительные пролежни. Меня переворачивали с боку на бок, ибо сам я поворачиваться был не в состоянии. Мне постоянно клали лед на голову и каждый час давали бульон для поддержания упадающих сил. За все это время я ни единой минуты не смыкал глаз, а, между тем, оставался в сознании, хотя временами довольно смутном. Была даже критическая минута, в которой я метался в бреду; об этом мне рассказывали после. Особенно мучительны были долгие ночи, когда все спало кругом, и не слышно было ни малейшего шороха. Час за часом считал я бой часов на колокольне по ту сторону Арно, пока, наконец, в семь часов утра я с каким-то облегченным чувством приветствовал стук молотков на мостовой, которая была повреждена недавним наводнением и чинилась перед нашей гостиницей. Я сам был уверен, что я умираю; не раз мне казалось даже, что жизнь так и утекает из меня каким-то тихим журчащим ручьем. Я подзывал приставленную ко мне сиделку, добрую старуху Терезу, и просил ее посидеть возле меня в мои последние минуты. Эти минуты не были для меня страшны. Смерти я не боялся; во мне не было того инстинктивного чувства, которое побуждает человека хвататься за жизнь, как за последнее убежище бренного его существования. В загробную жизнь я в то время не верил, но и прошедшая моя земная жизнь не научила меня ею дорожить. Я прощался с нею, как некогда прощался с молодостью, с грустным чувством чего-то неисполненного, каких-то неудовлетворенных стремлений, несбывшихся надежд и не успевших выказаться сил. В эти долгие ночи, когда я был как бы оторван от всего земного и погружен исключительно в себя, все мое прошлое восставало передо мною, в смутных, но вместе существенно ясных чертах. Подробности исчезали, но все заветное, все затаенное в глубине души, все, что составляет временно затмевающуюся, но в сущности, вечную и незыблемую основу человеческого существования, всплыло наружу с неудержимою силою. Одно непоколебимое отныне чувство овладело мною: сознание невозможности для бренного человека отрешиться от живого источника всякой жизни, от того, что дает ему и смысл, и бытие. Мне показалось непонятным, каким образом я мог в течение пятнадцати лет оставаться без всякой религии, и я обратился к ней с тем большим убеждением, что все предшествующее развитие моей мысли готовило меня к этому повороту.
Я сказал уже, что под влиянием гегелизма и построенной на нем собственной философии истории, я верил в будущую религию духа, ведущего человека к конечному совершенству; все же существующие и существовавшие религиозные формы я считал преходящими моментами человеческого сознания, не достигшего полноты. Мои исторические исследования убедили меня, что мы в настоящее время стоим на перепутье между двумя религиозными эпохами: между христианством, которое я считал религиею прошлого, и поклонением духу, в котором я видел религию будущего, еще не раскрывшуюся человеку. На этом я и успокаивался, уверяя себя, что в такие переходные эпохи человеку мыслящему волею или неволею приходится оставаться без религии. Однако, более зрелое размышление убедило меня, что то, что я считал преходящими моментами сознания, в действительности выражает собою вечные, неустранимые начала мирового бытия. Если дух составляет конечную форму абсолютного, то есть и форма начальная, – никогда не оскудевающая всемогущая сила, источник всего сущего; есть и форма посредствующая, бесконечный разум, дающий всему закон. Христианство есть религия верховного разума, слова божьего, открывающегося в нравственном мире и полагающего нравственный закон человеку. Будучи совершенным в своей области, оно может только восполниться, а не замениться другою религиею, также как оно само только восполнило, а не устранило ветхозаветную религию бога силы. Это убеждение созревало во мне мало-помалу, и я говорил себе, что на старости лет я обращусь к этим вопросам и постараюсь дать им посильное решение. Болезнь ускорила этот процесс. Я живо почувствовал, что каково бы ни было умственное состояние современного человечества, отдельный человек не может, не отказавшись от себя, от глубочайших основ своего духовного естества, от всего, что в нем есть самого высокого и святого, оторваться от абсолютного начала всякого бытия, сознание которого запечатлено в нем неизгладимыми чертами. Я понял, что всякая религия служит живою связью между человеком и божеством, а потому человек не может и не должен от нее отрекаться, хотя бы она была несовершенна и не вполне отвечала его убеждениям. Это чувство возбудилось во мне с тем большею силою, что я вместе с тем живо сознавал, что сам человек, своею личною волею, не в состоянии себя обновить. Нужна высшая духовная власть, которая, проникая в тайны человеческого сердца, сказала бы ему: «прощаются тебе грехи твои», и благословила бы его на новый путь. И во мне возгорелось страстное желание приобщиться вновь к христианству. Как только мне стало несколько лучше, я попросил к себе находившегося на фрегате священника, который навещал меня во время болезни, и после многолетнего перерыва исповедовался и причастился.
В то же время во мне родилось и другое убеждение. В эти долгие, мучительные ночи, когда перед моим умственным взором проходила вся моя прошлая жизнь: мое счастливое детство, обуреваемая страстями молодость, – я живо почувствовал, что для человека нет и не может быть счастья вне семейной среды. До тех пор я об этом не думал; но теперь вся пустота одинокого существования представилась мне с такою же поразительною ясностью, как и горькая доля человека, отрешившегося от бога. Я понял, что для нормального человеческого существования необходимо основание собственного семейного очага.
Этим мечтам суждено было сбыться. Крепкая природа взяла свое, и я, неожиданно для всех, воскрес. Пробуждение к жизни имело ни с чем несравнимую прелесть. Физические страдания исчезли; в душе водворилось какое-то ясное, безмятежное, почти райское состояние. Всякая мелочь казалась мне полною чарующей поэзии. Когда в первый раз мне отдернули занавески и показали свет, я не мог оторвать своих глаз от пошлых обоев комнаты, где я лежал. На них изображались китайские беседки, окруженные гирляндами из роз с зелеными листиками. Эти цвета казались такими привлекательными, что я не мог ими налюбоваться. Когда затем открыли окно, окутав меня с головы до ног фланелью, и в комнату внезапно ворвался весь городской шум, голоса людей, стук экипажей, плеск бегущего под окнами Арно, мне казалось, что я нахожусь в каком-то волшебном мире, где раздаются райские звуки. В окно как будто влетало все обаяние бытия, мечты, надежды, радости и волнения, уносившие меня в бесконечную даль. Самые детские яства, тюря из белого хлеба с теплым молоком, напоминавшая мне детские годы, парное ослиное молоко, которым поили меня ежедневно в семь часов утра, были для меня источником неизъяснимого наслаждения. Просыпаясь после тихого и глубокого сна, я с сладкими мечтами ждал свою ослицу и, выпивая стакан пенистого молока, говорил, что это наверное был тот нектар, который боги пили на Олимпе. Но еще более, нежели вещи, радовали меня люди. Каждый человек, который приходил меня навестить, представлялся мне ангелом, посланным с небес; я любил его всем сердцем и приветствовал его, как давно желанного друга. При известии о моей болезни приехал из Парижа брат Василий. Это было для меня величайшее счастье; но я был еще так слаб, что мне позволили видеть его только на минуту. Он долго не мог тут пробыть, а потому из Петербурга выписали брата Андрея, который и остался при мне до полного выздоровления. Когда я стал поправляться, мне сообщили, что мои спутники уезжают и, вследствие нездоровья наследника, не в Рим, как предполагалось, а обратно в Ниццу. После я узнал, что во время моей болезни с великим князем сделался жесточайший припадок: вдруг появилась такая сильная боль в пояснице, что он должен был слечь в постель. Все переполошились; созвали консилиум. Один итальянский доктор сказал, что у него нарыв в спинной кости. Впоследствии оказалось, что это был единственный верный диагноз. Скоро, однако, ему сделалось лучше, и медики пришли в сомнение. Но двигался он все-таки с трудом и ходил сгорбленный. При таких условиях везти его в Рим было бесполезно. С другой стороны, доктора советовали уехать из Флоренции, опасаясь неблагоприятного климата. Решили возвратиться в Ниццу к императрице, которая очень беспокоилась о сыне. Но наследник не хотел уезжать, оставив меня между жизнью и смертью. Только когда моя болезнь приняла благоприятный оборот, он решился отправиться в путь. Из Ниццы мне писали, что вызваны были знаменитейшие французские медики Рейе и Нелатон, которые не нашли ничего опасного. Они определили болезнь, как застарелую простуду, и предписали оставаться пока в Ницце, а на весну ехать в Баньер или Люшон, около По, для лечения ваннами. Эти известия меня успокоили.
Мое выздоровление шло медленно, но правильно. Все представлялось мне в радужном цвете. Воспрянув к новой жизни, я мечтал о возвращении домой, о разных работах, которые я хотел предпринять. Большим развлечением в моем затворничестве были собранные мною во время путешествия гравюры. Я часто рассматривал их со стариком Липгартом, который навещал меня почти ежедневно. Это был поселившийся во Флоренции немец из Остзейского края, высокий, сухощавый, необыкновенно живой, образованный, страстный любитель и знаток художества, на которое он потратил значительную часть своего состояния. У него также было отличное собрание гравюр, впоследствии пущенных в продажу. Было и собрание рисунков, которые он приносил мне показывать, что для меня было истинным наслаждением. Он все жалел о том, что в моем положении нельзя было со мною обегать все уголки Флоренции, которую он знал, как свои пять пальцев. У него можно было многому научиться, хотя у него были свои коньки. Подобно многим записным знатокам, он пренебрегал тем, что было всем известно, и склонён был давать преувеличенное значение тому, что он сам отыскивал. Его оригинальность выражалась иногда в забавных выходках. Десять лет спустя, когда я, женатый, приехал опять во Флоренцию, он с первого слова объявил мне, что он покончил с Перуджино и Франчиа. «Они скучны; у них все одно и тоже», – сказал он и тут же в лицах, с разными ужимками, начал представлять, как держит себя богоматерь Перуджино на известной фреске Распятия. Я познакомил его с женою. Он тотчас спросил ее, что она видела во Флоренции. Она отвечала, что пока мы успели побывать только в Уффици и Питти. «Я желал бы, чтобы эти галереи сгорели дотла!» – воскликнул он с негодованием. Жена с удивлением спросила его, отчего он так их не жалует. «Оттого, что они отвлекают внимание от фресок, которые несравненно важнее», – отвечал Липгарт.
Почти ежедневно по вечерам навещал меня и Юрий Федорович Самарин, который на обратном пути из Рима остановился на несколько дней во Флоренции. После освобождения крестьян он три года был членом Губернского присутствия в Самаре. Совершив свое дело, он вышел в отставку и поехал отдохнуть за границу. С ним мы беседовали больше о русских делах. В это время приходили из Москвы известия о бывшем там дворянском собрании. Газеты приносили речи Голохвастова, Безобразова, Орлова-Давыдова. Мы с Самариным сходились вполне в оценке тогдашнего напускного дворянского либерализма. Его тянуло туда, и ему, видимо, было досадно, что он не участвует в этих прениях. Впрочем, он был в отличном расположении духа и необыкновенно забавно передразнивал разных членов редакционных комиссий. Особенно памятна мне воображаемая речь, произнесенная при возвращении в Полтаву В. В. Тарновским. Все ужимки и акценты этого типического представителя Малороссии передавались с неподражаемым мастерством.
Как скоро я в состоянии был выехать, доктор – немец, пользовавший меня в течение всей болезни, советовал мне уехать из Флоренции, говоря, что я скорее поправлюсь с переменою климата. Но путешествие в Ниццу было еще слишком утомительно. Мы с братом Андреем решили поехать на несколько дней в Рим. Там мы нашли семейство Алексея Васильевича Капниста, богатого малороссийского помещика, сыновья которого воспитывались в Московском университете и были товарищами моих младших братьев. Андрей был очень дружен со всею семьей, и я был знаком с ними еще в Москве, в конце пятидесятых годов, перед первою поездкою за границу. Но я не знал старшей дочери, в то время 19-летней девушки, которая славилась красотою. Молва была не напрасна. Я увидел прелестный ангельский лик, напоминавший мадонны Беато Анджелико. Это был первый женский образ, который представился после моей болезни, образ полный грации и поэзии. Провидение как будто указывало мне ту, которая должна была осуществить мои мечты. Но в то время я еще не подозревал, что несколько лет спустя, она сделается моею женою.
В Риме я быстро поправился и мог уже ехать к своим спутникам. Брат сопровождал меня до Ниццы и оттуда отправился обратно в Россию. Я был очень тронут его приездом и его заботами.
В Ниццу я приехал, как в свою семью. Все меня встретили с искренней радостью, как воскресшего из мертвых. Но мое впечатление было невеселое. Я нашел наследника исхудалым, осунувшимся, сгорбленным. Болей он не чувствовал, но он не мог разгибать спины, а потому лишен был возможности гулять пешком и ездить в общество. В ожидании будущих ванн в Люшоне, его лечили электричеством, но оно приносило мало пользы. Для молодого человека, и притом жениха, положение было незавидное. Он сделался задумчив, порой даже раздражителен. Прежняя беззаботная веселость, радужные мечты исчезли. На масленице ему наняли комнату на главной улице, и он как будто встрепенулся: бросал букеты, даже бегал по лестницам. Но это была только вспышка. Однако опасности никто не предвидел. Успокоенью французскими знаменитостями, мы все считали его болезнь упорно засевшим ревматизмом. Один граф Строганов беспокоился. Ему казалось неестественным, чтобы молодой организм не мог осилить ревматического состояния. Слабость и худоба внушали ему сомнения. Он поехал в Париж, чтобы повидаться с братом, но, в сущности, чтобы поговорить с докторами. Вернувшись, он рассказывал свой разговор с Рейе, который его успокоил. Он прямо поставил последнему вопрос: считает ли он возможным для великого князя жениться. «Я не вижу никакого препятствия», отвечал Рейе. «Но подумайте, что это наследник русского престола; от его здоровья зависит судьба его потомства, а вместе и судьба России». «Если вы так на это смотрите, – отвечал Рейе, – то отложите свадьбу на три месяца. Другого я ничего не могу посоветовать». Граф Строганов несколько успокоился, но продолжал зорко следить за вверенною его попечению молодою жизнью. Когда его впоследствии обвиняли в том, что он ничего не видел и даже побуждал наследника делать чрезмерные усилия в видах спартанского воспитания, то это опять одна из тех клевет, которые так легко возникают в придворных сферах и оттуда обильными потоками распространяются по великосветским гостиным.
Одно время казалось, что великому князю стало лучше. «Знаете ли, – сказал он мне однажды, недели за две до последней болезни, – я сегодня посмотрел на себя в зеркало и увидел, что моя спина почти совсем выпрямилась». Он сам несколько повеселел. По вечерам у него обыкновенно сидели некоторые из нас, и он откровенно беседовал о себе и о братьях. Мне врезалось в память одно его изречение: «У нас у всех несколько лисья натура, – сказал он, – у одного брата Александра хрустальная душа». Это был любимый его брат, с которым он в детстве был неразлучен. Увы! развращающее действие самодержавной власти таково, что от нее тускнеет самый чистый кристалл. Даже сильные характеры принуждены лукавить; слабые неизбежно заражаются двоедушием.
Я воспользовался вынужденным затворничеством великого князя, чтобы заинтересовать его чтением. Я дал ему прочесть Токвиля: «L’ancien Regime et la Revolution». Эта книга произвела на него сильное впечатление. Между прочим, его поразила мысль, которую в одной из своих речей привел Кавур, именно, что отобрание имуществ у католического духовенства оторвало его от почвы и обратило его к ультрамонтанизму. Я не совсем был согласен с пригодностью такого лекарства для отвращения католического духовенства от излишней преданности папе, но уже одно то, что эта мысль поразила молодой ум, показывало в нем недюжинные политические способности, которые со временем могли принести благодатные плоды.
Этому не суждено было быть. Незамечаемая никем, уже приближалась роковая развязка. В конце марта великому князю стало хуже. Болей он не чувствовал, но он был в нервном состоянии, спал плохо, принужден был отдыхать днем. После прогулки он не мог уже всходить по лестнице; его вносили на креслах. Собранные на консилиум доктора решили, что это вероятно происходит от приморского климата. Послали Оома нанять виллу на берегах Комского озера, а, между тем, великого князя, который дотоле жил на набережной, перевезли в отдаленную от моря Villa Bermond, которую занимала императрица. Мне давно хотелось съездить на несколько дней в Париж – повидаться с братом Василием, которого я только мельком видел во Флоренции; но я все медлил, не желая оставить великого князя в таком положении. Мне сказали, что теперь самое удобное время для поездки в Париж, откуда я могу прямо проехать на Комс-кое озеро. Накануне отъезда я провел вечер у наследника на Villa Bermond. Он был оживлен, разговаривал охотно; на нем не заметно было болезненное состояние. Я решился ехать и сообщил ему свое намерение. Но на следующее утро, когда я пришел с ним проститься, он мне не понравился. Я застал его сидящим в саду, сгорбленным, осунувшимся, с зеленоватым цветом лица. Он как будто устал и простился со мною с несвойственным ему равнодушным видом. Отказаться от поездки не было возможности; это значило только возбудить тревогу. Но я просил Рихтера телеграфировать мне каждый день о состоянии здоровья великого князя.
Я уехал на страстную среду и первые дни по приезде в Париж получал самые успокоительные телеграммы: великий князь чувствовал себя лучше, спал хорошо. Вдруг, в понедельник на святой неделе, я получаю известие, что у него сделался мозговой припадок и что он почти безнадежен. Я немедленно полетел в Ниццу и застал его уже в беспамятстве. У него оказался туберкулезный менингит, от которого не было спасения.
Отовсюду созваны были знаменитейшие доктора. Из русских приехали Пирогов и Здекауер; из Вены выписан был Оппольцер. Все было напрасно. При первом известии о болезни наследника государь приехал из Петербурга с Александром Александровичем; из Копенгагена прибыла молодая невеста с матерью. Как недавно еще мы видели ее рука об руку с женихом, обоих сияющих счастьем, и вдруг, вместо брачного венца, она явилась к одру умирающего! Говорят, он ее узнал, но только сквозь туман; он едва мог произнести несколько слов. Было что-то раздирающее душу, и вместе и высоко поэтическое в этой торжественной драме, которая разыгрывалась перед лицом всего мира: этот царственный юноша, надежда отечества, угасающий на чужом берегу, вдали от любимой родины; всевластный повелитель необъятного государства, из своей северной столицы поспешающий к одру умирающего сына, пораженного недугом, против которого тщетны были все человеческие усилия; мать, удрученная горем, в эти последние дни не отходившая от больного; молодая, полная прелести невеста, встречающая жениха на пороге смерти; вдали миллионы сердец, которые с напряженным вниманием и горячими молитвами следили за медленною борьбою угасающей жизни; а кругом великолепная обстановка южной природы, сияющее солнце, голубое Средиземное море, цветущие померанцевые деревья, разливающие в воздухе свой упоительный аромат. Когда я выходил из дома, где лежал умирающий, душа еще мучительнее надрывалась при виде этого контраста между ликующею в невозмутимой красе природою и исполненными скорбью сердцами людей. Весна сияла в полном блеске; безоблачное небо простирало свой лазоревый свод над цветущими долинами, над пышно вздымающимися горами, над сверкающими тысячью переливов волнами безбрежного моря; все воскресало к новой роскошной жизни; а там смерть сторожила свою обреченную жертву, готовая унести все человеческие радости и надежды.
12 апреля с утра уже ждали конца. Царская семья окружала постель больного. Нареченная невеста стояла возле него на коленях, даруя ему последние ласки и последние заботы. В соседней комнате, куда отворены были двери, собрались все окружающие, а также сановники, сопровождавшие государя или находившиеся в то время в Ницце. Все стояли безмолвно или говорили шепотом. Страшны были эти долгие томительные часы в ожидании неизбежной развязки. Агония была тихая, но продолжалась весь день. Только поздно вечером он испустил последнее дыхание. Все было кончено. Царь, обливаясь слезами, обнял и благодарил графа Строганова и Рихтера, благодарил и других спутников покойного. Все молча разошлись, убитые горем.
На следующее утро, также молча, собрались все к первой панихиде. Посреди комнаты стоял смертный одр и на нем лежал юноша, с тем торжественным и привлекательным обликом, который налагает на человека смерть. Духовенство облачилось в свои ризы. Диакон хотел возгласить: «Упокой, господи, душу раба твоего», но, вместо слов, из груди его вырвалось громкое рыдание, и за этим стоном зарыдали все стоящие кругом. Так продолжалось несколько минут. Немного успокоившись, диакон хотел снова начать надгробную молитву, и снова неудержимые рыдания прервали его голос, и за ним опять громким воплем зарыдали все. Это была раздирающая душу сцена.
Вернувшись к себе, я почувствовал неодолимую потребность излить свое горе и вместе возвестить России понесенную ею утрату, не в официальных выражениях, а в исходящих от сердца словах. Я написал статью, которую передал Рихтеру для представления на одобрение государя. Адлерберг сказал мне, что государь и императрица были ею очень тронуты. Она была напечатана в «Инвалиде» и других газетах[62].
Вскрытие тела обнаружило не только туберкулезный менингит, но и внутренний нарыв в спинной кости, который был коренным источником болезни. Оказалось, что итальянский доктор один был прав в своем диагнозе.
Пошли догадки, откуда мог произойти этот нарыв. Тогда вспомнили, что года два тому назад наследник, в присутствии всей царской фамилии, скакал вперегонки с принцем Ольденбургским. В отсутствии Рихтера, который на несколько дней был в отпуску, он велел себе положить новое, щегольское, но непривычное для него английское седло и на всем скаку слетел с лошади. Он тут же встал на ноги; казалось, падение не оставило по себе следа. Но прирожденная ему золотуха, по-видимому, устремилась в ушибленное место, медленно и незаметно подтачивая организм. С тех пор он изредка стал жаловаться на боль в пояснице. Бывший с ним перед отъездом из России припадок, который приняли за ревматизм, был очевидно признаком таившейся в нем болезни. Если бы его не унес менингит, он мог умереть в страшных мучениях.
Решили тело покойного везти в Россию морем, на русском фрегате, представлявшем уже русскую землю. Граф Строганов отказался ехать. Дело его было кончено; пользы он принести уже не мог, церемоний не выносил, а в Петербурге терпеливо ждала его семья, тоже постигнутая недавним домашним горем. При таких условиях, в его летах, совершить такое далекое плавание было ему невмочь. Вместо него для сопровождения тела назначен был проводивший зиму в Ницце генерал-адъютант Анненков. По старым отношениям к наследнику, просил позволения ехать и прибывший на похороны Владимир Павлович Титов. Кроме лиц, сопровождавших наследника в его путешествии, с телом ехали также Скарятин и Стюрлер, недавно назначенные, один гофмаршалом, другой шталмейстером вновь образованного двора великого князя.
Бесконечная похоронная процессия двинулась из Ниццы в Виллафранку, где стоял фрегат «Александр Невский», который должен был везти тело в Россию. Для сопровождения собрана была целая эскадра: корвет «Витязь», под командой капитана Кремера, другой корвет, которого имени не помню, под начальством Бирилева, и клипер «Алмаз», с капитаном Зеленым. «Александром Невским» командовал Федоровский, а всею эскадрою адмирал Лесовский.
Шествие продолжалось несколько часов. Одни были верхами, другие пешком. Я шел с находившимся тут князем Петром Андреевичем Вяземским, с которым беседовал о понесенной Россией утрате. К вечеру уже прибыли на место. Убранный цветами гроб взвился на воздух и был поставлен на фрегат. Отслужена была панихида. Когда все уже почти разошлись, я пошел бродить по палубе. В уединенном углу я нашел сидящего, убитого горем старика. Это был граф Строганов. Воспитанию наследника он отдал всю свою душу; казалось, на склоне своих дней, он мог еще оказать отечеству незабвенную услугу, и вдруг все исчезло, как дым. Сраженный столь недавним своим личным горем, он постигнут был новым, еще более жестоким ударом. И сердечная привязанность, и любовь к отечеству, и мысль о собственном его назначении в жизни, все соединилось, чтобы повергнуть его в прах.
Между нами слова были излишни; мы молча пожали друг другу руку. Я проводил его до трапа, и мы простились с глубоким чувством общего, связывающего нас горя. Фрегат уже разводил пары; скоро зашумел крутящийся винт, и корабль медленно отошел от берега, неся драгоценные останки через голубое Средиземное море, через бурные валы океана, в отдаленную северную родину.
Путешествие продолжалось целый месяц. Три дня мы стояли в Гибралтаре. При входе в океан нас застигла сильная буря. В первый раз я видел вздымающиеся, как горы, валы, по которым громадный фрегат носился, как щепка. Но мне было не до грозных картин. Я, вместе с большинством своих спутников, лежал в каюте, как пласт. Все люки были забиты, и все-таки по полу переливалась морская волна. Прикрепленные вещи иногда с грохотом отрывались и кидались в противоположную сторону. О принятии пищи не было помину. Надо было лежать с чувством невыносимой тошноты, с далеко неутешительной надеждой, что авось либо через много часов успокоится взволнованная стихия. Так мы пришли в Лиссабон, где также простояли несколько дней, нагружаясь углем. Затем были стоянки в Плимуте, в Христиании и в Эльзенёре прежде, нежели мы вошли в Балтийское море.
Это долгое плавание было тем томительнее, что в нашей компании были элементы, вовсе не подходящие к общему настроению. Николай Николаевич Анненков был совершенный контраст с графом Строгановым. Ума у него было очень мало, а образования еще меньше; разговор был самый пошлый, тоску наводящий. Это был не вельможа с независимым положением, а человек, пробивший себе дорогу бюрократическим путем. Когда-то, при графе Чернышеве, он был главным деятелем в военном министерстве. С тех пор его употребляли на все руки; ему давали самые важные поручения. При Николае он послан был ревизовать Сибирь; в 1849 году его сделали председателем верховного цензурного комитета, который должен был решать судьбу несчастной русской литературы. В Крымскую войну он был генерал-губернатором Одессы, во время польского восстания – генерал-губернатором в Киеве. Наконец, он занимал должность государственного контролера. Глядя на него, я все удивлялся, какие способности могли побудить русских монархов дорожить такого рода деятелем. Он невольно напоминал известное изречение Бомарше, вложенное в уста Фигаро: «mediocre et rampant, avec cela on parvient a tout»[63]. Другое, совершенно такое же лицо, может быть, с еще более низким нравственным уровнем, я узнал впоследствии в московском генерал-губернаторе, князе Владимире Андреевиче Долгоруком. Иногда Анненков забавлял нас своими выходками. Однажды за обедом доктор Шестов вздумал вольнодумничать: отрицал существование бесов. Анненков обратился к нему с строгим увещанием: «Как, – воскликнул он, – неужели вы не признаете ничего в пространстве между вами, планетами и всемогущим богом?». Этот анекдот рисует человека. Сей великий государственный муж воображал, что всемогущий бог сидит где-то непосредственно за планетами, а что между ними и землею непременно должны витать бесы. Каково же было мое положение, когда несколько лет спустя, мне случилось посетить в деревне его вдову, важную и напыщенную Веру Ивановну, которая приходилась деревенскою соседкою семейству моей жены, и после обеда эта почтенная дама отвела меня в отдаленный кабинет, заперла за собою двери и, показавши мне целый ряд тщательно переплетенных документов, обратилась ко мне с такою речью: «Вы так близко знали моего покойного мужа, что я должна вам прочесть свои воспоминания о нем». И я принужден был в течение целого часа слушать тошнейшее повествование о том, какой великий государственный деятель был Николай Николаевич. Будущие историки, может быть, ей поверят.
Совсем иной человек был Владимир Павлович Титов. Это была честнейшая душа, мягкий, образованный, обходительный. Тем не менее, он в этом путешествии смертельно всем надоел. Мы были поражены глубоким горем, не оставлявшим места ни для каких других интересов. Не хотелось ничего смотреть и ни о чем говорить. А Титов был в вечной суете; ему нужно было все видеть, все осмотреть самым подробным образом; он приставал с разговорами о разных предметах, болтал без умолку. Однажды мы узнали, что он велел разбудить себя ночью, оделся и вышел на палубу, чтобы видеть отстоящий на несколько миль маяк, мимо которого мы проходили. Как это ни было забавно, но нам было вовсе не до того. Поэтому мы по возможности устранялись от сопутствовавших нам государственных людей и радовались, когда видели их погруженными в интересные разговоры друг с другом. Мне случилось выходить погулять на палубу; вижу: с одного бока ходит Владимир Павлович, а с другого Николай Николаевич, и я печально скрывался в свою каюту.
В Балтийском море, перед входом в Финский залив, нас опять настигла буря. Фрегат кренило на 45 градусов на один бок и столько же на другой. Все опять были больны; однако, в силу привычки, я выдержал пытку несколько лучше, нежели в первый раз. Наконец, мы кинули якорь в Кронштадте. Встреча была торжественная; весь Балтийский флот убрался трауром. Приехал великий князь Константин Николаевич и отслужил панихиду. Дежурными к гробу были приставлены два старых адмирала, один из них наваринский герой Епанчин. Лежа в своей каюте, я слышал, как один рассказывал другому, что он может съесть целое ведро соленых грибов.
Через день мы пошли в Петербург. Погода была тихая, но мрачная и холодная, совершенно подходящая к общему настроению. Однообразное серое небо уныло расстилалось над северной столицею. Одетые гранитом берега Невы, с их величественными дворцами, были уставлены многими тысячами народа. У пристани возвышался убранный трауром павильон, где ждала царская семья. Все в глубоком безмолвии смотрели на приближающуюся эскадру. Зрелище было торжественное и внушительное. Тихо и плавно подошел фрегат, неся дорогие останки. Гроб был поставлен на катафалк, и длинная процессия, состоявшая из всех чинов государства, двинулась к Петропавловской крепости. Нас распределили в разные места; мне пришлось идти с ученым сословием. Я встретил тут Победоносцева, которому очень обрадовался. Я был с ним в то время очень дружен; близко зная покойного, он горевал, так же, как и я. Были и другие профессора Московского университета – Бабст, Соловьев – преподававшие великому князю. Я находился опять в своей родной среде.
Пробраться в собор при такой толпе не было никакой возможности. Я дождался, пока все разбрелись, и вошел в опустевший уже храм, чтобы поклониться дорогому праху. Погруженный в воспоминания, я стоял в раздумье перед едва закрывшеюся могилой. Услыхав шорох, я обернулся: за мною стоял Владимир Мещерский. Он тотчас приступил ко мне с модными в то время нападками на графа Строганова. Я отвернулся с негодованием. Для Мещерского восходило новое светило, и он кидал грязью в то, что окружало старое. Он являлся как бы представителем того, что ожидало нас впереди. Для меня не было нового солнца. В этой ранней могиле были похоронены лучшие мои мечты и надежды, связанные с благоденствием и славою отечества. Россия рисковала иметь образованного государя с возвышенными стремлениями, способного понять ее потребности и привлечь к себе сердца благороднейших ее сынов. Провидение решило иначе. Может быть нужно было, чтобы русский народ привыкал надеяться только на самого себя.
31
Письмо приведено в подлиннике на французском языке.
32
Урожденная Тютчева. (См. А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров., М., 1928, вып. I, стр. 76–81).
33
Соловьев. История России, XVII, стр. 373, 392. – Прим. Б. Н. Чичерина.
34
Автобиография Сиверса целиком не напечатана. Б. Н. Чичерин читал, вероятно, изданный в 1857 г. в Лейпциге очерк К. Л. Блюма: «Ein Russischer Staatsmann. Des grafen 1.1. Sievers. Denkwurdigkeiten zur Gesehichte Russlands».
35
В 1865 г. в Париже вышла книга: «Alexandre I et le pr. Czartoryski. Conversations et correspondence particuliere, publiees par le pr. L. Czartoryski»; русский перевод помещен в «Рус. Архиве»,1871 г.
36
Под заглавием «Аркадские времена (подражание Ломоносову) известна злая эпиграмма на ректора Московского университета Арк. Алексеевича Альфонского, напечатанная в «Рус. Арх.», 1912 г. № 1 и начинающаяся строфой:
О, ты, что в горести напрасно
Так сильно ропщешь на Совет,
Аркаша, ректор мой прекрасный
Внемли сей праведный ответ.
Где был ты, как перед тобою
Наш попечитель Исаков
Музеи дерзостной рукою
Перенести уж был готов?..
37
Пародия написана на речь ректора на заседании 22 апр. 1863 г. Текст исправлен по напечат. в «Рус. Архиве», 1912, № 2.
38
Б. Н. Чичерин намекает здесь на эпиграмму кн. Вяземского, направленную против Каткова, которую он приводит в VI гл. своих Воспоминаний и в которой имеются следующие строки:
Все это вздор; но вот в чем горе:
Бобчинских и Добчинских род
С тупою верою во взоре
Пред ним стоит, разинув рот.
39
Профессор сравнительной анатомии, вследствие массивности прозванный Левиафаном. – Прим. Б. Н. Чичерина.
40
Аркадий Алексеевич Альфонский, ректор Моск, ун-та.
41
«Предзнаменования благоприятны!» – формула римских жрецов.
42
Менений Агриппа, согласно рассказу Т. Ливия, успокоил волнение среди плебеев притчей о возмущении членов тела против желудка (Liv. II, 33).
43
Сатира напечатана в «Рус. архиве» за 1912 г. № 2, где она входит в состав «Шуточной хроники Моск, университета полвека назад». «Хроника» разбита на две части: «Времена Аркадские», относящиеся к ректорству А. А. Альфонского и «Времена Исторические» – к ректорству С. Баршева. Сатира помечена в «Рус. Архиве» – октябрем 1863 г.
44
Олимпиада Владимировна Каблукова.
45
Людвиг II (род. 1845).
46
Ничто не мелко для великого человека.
47
Александр Сергеевич Строганов (1818–1864).
48
Будущего Александра III.
49
Вильгельм (род. 1840).
50
Вильгельм III.
51
Вы тоже нас покидаете!
52
В 1864 г. королем Португальским был Людвиг! брат умершего в 1861 г. Педро V.
53
Принцесса Дагмара, будущая ими. Мария Федоровна.
54
Христиан IX и королева Луиза.
55
Софии Егоровне Мейендорф/
56
Людвиг III.
57
Карла, женатого на дочери Николая I, вел. кн. Ольге Николаевне.
58
Это кукла из саксонского фарфора!
59
Альберт-Эдуард, будущий король Эдуард VII.
60
В виду особенностей народного диалекта, на котором составлена песнь, редакция воздерживается от перевода.
61
Certosa di Pavia (основ, в 1396 г.), в 28 км от Милана.
62
Эта статья (см. «Военный Сборник,» 1866 № 5: «Несколько слов о вел. князе наследнике») здесь опускается.
63
«Посредственный и раболепный – с такими качествами можно всего достигнуть».