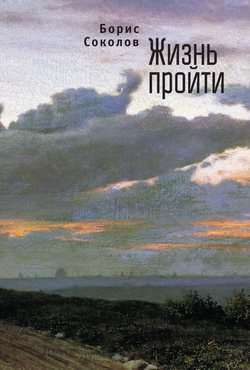Читать книгу Жизнь пройти - Борис Соколов - Страница 13
Часть вторая
Осколки минувшего
(рассказы из авторского архива)
Верблюжье житьё
ОглавлениеПамяти В.В. Гурского
(30.01.1939, Орск – 1.11.2014, Германия)
Была весна в оренбургских степях.
Где-то далеко шла война. Сталина Антоша представлял плохо, Гитлера не мог вообразить никак. Воевали они, сколько он помнил, всегда.
Там, на войне, пропал без вести отец. Но он обязательно найдётся. Просто отец временно заблудился где-нибудь, и у него пока ещё нет голубя – из тех, что почту приносят, – чтобы послать с ним письмо или записку. Сам-то он, когда прошлым летом мать брала его с собой на работу в поле, как-то долго блукал в лесопосадке – не мог найти выход, а потом всёж-таки отыскал и вышел к людям. Так думал он и про отца, он и матери сказал про это, а она вдруг заплакала. Он ничего не понял – чего же тут плакать?
А весна была кругом: что-то переменилось вокруг под высоким, необъятным, распахнутым во всю ширь небом. Пацаны бежали по тонкому, хряскому льду схватившихся за ночь луж среди почерневших подушек ещё нестаявшего снега – неслись со всех ног туда, где верблюд вытаскивал застрявший в грязи «студебеккер».
Они опоздали. Шофёр, привалившись к дверце кабины, докуривал папиросу, лениво посматривал на торчавших поодаль баб. Те глядели на него, молодого, белозубого, с тоскующей и ласковой жадностью: в деревне давно уж мужиков-то – раз-два и обчёлся. Да и этот вряд ли здесь задержится – идёт война. Выпряженный верблюд стоял сбоку, одинокий и высокомерный.
Животи́не этой доставалась работа самая тяжёлая, но судьбу свою верблюд нёс без ропота. Соседи завидовали деревне, имевшей такого работягу. Во всех окрестных хозяйствах было всего несколько замордованных лошадей и потому пахали и на коровах. А вот он был один-одинёшенек на всю округу.
Бог знает, откула он взялся. И в армию его не брали – может, верблюдам на фронте нечего делать, а скорей всего был он приблудный и просто не значился в списке колхозного имущества.
Жилось ему не сладко. Ни в какие стойла он не влезал, да никому и в голову не приходило, что верблюду не помешало бы убежище. Но к людям он привязался, и, когда ему случалось быть не в упряжи, он всё время слонялся у околицы, где-то рядом с жильём, как настоящий, преданный друг.
Ясное дело, работу любить он не мог. Она была каторжной, а еды перепадало немного, но он терпеливо сносил все тяготы жизни. Лишь зимой в жестокие бураны делалось ему совсем невмоготу. Оголодавший, дрожащий от холода, он против воли отправлялся воровским путём промышлять кормёжку. Занимался этим верблюд не в пример стеснительно, переходя от избы к избе и дёргая пучок-другой из подвернувшейся на пути копны – способ ужасно глупый, потому что его чаще заставали за таким делом и били чем попадя (а попадались тут хозяевам под руку осиновые жерди и вилы).
Но вот перед самой-то войной ему стало как-то легче существовать – нежданно явилось внимание к его неприкаянной жизни. И пришло оно издалека в образе деда Яниса, ссыльного из Латвии, одного из тех крестьян, у которых было гектара по четыре худородной земли. Как раз в тот зимний лютый день, когда привезли ссыльных, – на перевозке дров измученный, озверевший колхозник, ударив верблюда, нечаянно выбил ему глаз. Старик, которого подселили к ним, согрел воды, промыл бедолаге вытекающий глаз и кое-как приладил на время тряпицу. А потом, когда деда отрядили работать на конюшне, он подкармливал одноглазого как мог: то угостит охапкой сена, то сунет ему твёрдый, но такой вкусный, кусочек жмыха. И верблюд, когда бывал без дела, вечно торчал около ихней хаты, высматривая своего друга.
Антоша побаивался деда Яниса из-за всегдашнего его угрюмства. Какой лихой бедой занесло его в чужие края, в деревне никто не знал, старик молчал как немой и почти не выпускал изо рта большую чёрную трубку.
Но однажды в долгий, унылый зимний вечер его прорвало.
За белым, обросшим инеем, окном чернела тьма, истошно завывала метель. Втроём они сидели в молчании. Мать вязала носки, Антон исподтишка подглядывал за дедом, а тот, зажав в заскорузлом кулаке давно погасшую трубку, не мигая, из-под седых нависших бровей уставился на огонёк керосиновой лампы… Что там виделось ему в тусклом язычке пламени?
И вдруг, путая и коверкая русские слова, он глухо выговорил, что его сын, который там партайфункционир, мог бы замолвить за него слово перед властями, но не захотел – а может, и побоялся…
Это всё, что удалось узнать. А когда уже легли, Антоша не мог уснуть – всё думал об этом длинном, странном слове, которым старик назвал своего сына. И, замучившись, спросил у матери, что оно такое.