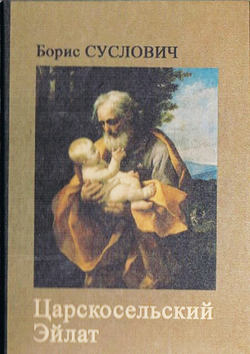Читать книгу Царскосельский Эйлат (сборник) - Борис Суслович - Страница 2
Монолог повитухи
или
От издателя
ОглавлениеМоя роль проста – я повитуха, и моё дело дойти до момента, когда
… задышит учащённо
И первый крик издаст ребёнок,
Тебя за палец ухватив…
Книга Бориса Сусловича должна была появиться на свет, как всякий зачатый ребёнок. Зачем? А Бог его знает!..
Равно неважно, что думают об этом любые люди, в том числе и я, её повитуха, её издатель.
Я полюбил эту книгу. Так акушерка, помощница при родах, любит первый крик дитяти.
Поэтому моё «акушерское» мнение не оценка: оценивать живую душу книги глупо и невежливо. Я просто скажу несколько слов о том, что интересного я в книге нашёл. Как в детстве – помните? – что там, в книшке есть интересненького?
Запомнилось яркое стихотворение про «окурочек» (простите за ассоциацию с Алешковским). Про перерыв в театральном спектакле.
Сильные стихи в конце первого раздела книги, начиная с «Ташкент 1943». Там есть такие глубокие ноты, что во мне, читавшем стихи впервые, отзывался какой-то камертон.
Интересной мне показалась русская соцреалистическая проза на современный израильский лад. Например, произведение под названием «Милашка» ярко напомнило производственные фильмы 60-х, 70-х годов, названий которых уже не удерживает память. Кстати, рассказ о «милашке» слился во мне ещё с одним вполне советским рассказом об инженерах-наладчиках, спешащих из командировки к семьям.
Энергичная, вроде бы, скучища, подражателю которой, американцу А. Хейли, за это платили деньги… Но мне скучно не было. Почему, сам не знал. Теперь всё же знаю: потому, что в сюжетах Сусловича не столь важно, чем кончится история, сколь населяющие их людские лица. И не потому, что автор всегда их любит, а потому, что хорошо видит, помнит, рисует, поскольку в чертах этих лиц, врезавшихся в память, я слышу больше, чем щелчок фотокамеры. Что-то насекомообразное наплывает на меня со страниц, где рассказывается о «милашке», что-то из «превращения» Кафки, из «Маски» Станислава Лема. Рожица менеджерши внезапно оснащается тараканьими усиками и жучиные надкрылки оттопыривают на стройной спине нежно-голубую блузку.
Насекомая жестокость жизни, превращающая людей в странных богомолов из сериала «вайлд нэйча», пожирающих кузнечиков.
Вот ещё типаж: школьная учителка на пороге аборта, который она не знает, то ли делать, то ли нет. И всё же решается: отец будущего ребёнка ей не слишком по вкусу. А вот от другого, пробегающего мимо персонажа, нет сомнения, родила бы. И снова в чертах почти человеческого лица проступает диковатая хищность. Вспомнился печальный рассказ Чехова о том, как мещаночка не имела денег заплатить врачу в отсутствии мужа и отдалась вместо платы. Нетеплокровность, бесчеловечность лучше всего проступает сквозь простой сюжет, спокойно рассказанную незамысловатую историю. Мерзость именно тем и мерзость, что притворяется обычной жизнью. А мы думаем, что всё нормально, как фотограф из фильма Антониони «Блоу ап» полагал, что снимает влюблённых, пока не различил за любовным снимком чёрное малозаметное пятнышко тайного убийства. «Обдуманное тайное коварство», – написал поэт Е. Рейн в своём «Мальтийском соколе». Хочется возразить: не обдуманное коварство, а врождённое зверство недолюдей, не знакомых с «не убий» и полагающих деторождение аналогом похода в супермаркет.
Ещё один персонаж энтомологической коллекции Сусловича – не вымышленный, а вполне себе всамделишный критик по фамилии Гуданец, взявшийся для чего-то с остервенением кусать хрестоматийные стихи Пушкина и стравливать Пушкина с Достоевским…
…Один из аспектов книги по моему впечатлению – невидимые простому глазу муравьишки, как в знаменитом древнем кино «Андалузский пёс», пытающиеся расправиться с людьми, пожирающие их изнутри и снаружи. И второй (или первый) ряд: люди, чьи судьбы определены Божьей рукой, скрыты за таинственными небесными печатями. Дуэль Пушкина, смерть Анненского, умирание Блока, Цветаева, шагнувшая в сторону будущего самоубийства… да речь не только о великих, тут и школьник, за всю жизнь единственный раз поговоривший с соседом, тут и две женщины, из Тбилиси и Тель-Авива, с наслаждением пророчествующие на разных языках, но с тем же чувством, тут и тренер по плаванию, устало понимающая призрачность надежд юных пловцов на чемпионство, и врач-грубиян, напуганный возможным взысканием…
Вся книга Сусловича, как видно, состоит из второстепенных персонажей. И в прозе, и в стихах. Персонажи эти играют свои роли в отсутствии героя совершенно спокойно и по этому герою вовсе не скучая. Автор часто ставит на место героя самого себя, рассказчика истории, но фокус в том, что и себя он, если приглядеться, числит второстепенным персонажем.
Суслович нашел замечательный ход, не сразу ставший очевидным мне, заносчивому, ленивому и пресыщенному читателю, но яркий при внимательном прочтении: его книга не о маленьком человеке, как половина русской классики, нет, потому что нет «больших людей» для сравнения, лишь большие чуковские «Тараканищи», в которых тут же превращаются все лица, претендующие на первенство… Книга о второстепенном человеке, о негероическом мире, где каждый из людей может заполнить собой разве что эпизод или анекдот.
Этот мир у Сусловича получился благодаря странной, почти неофитской, и от того неожиданной языковой работе.
Да-да, вы не ослышались, этого автора, чей лирический герой порой говорит вполне дилетантским слогом, точно эдакий «нью-капитан Лебядкинд» в фуражке с орлом и лапсердаке, я числю создателем весьма диковинного языка, языка-химеры, в котором сквозь кириллицу проступают клинья иврита и готика идиша, и который, как всё живое, содержит в себе жутковатую тайну Творения.
Сначала я полагал, что книга распадается внутри меня на два блока: блок Пушкина и блок Бродского (читай, Соломона Михоэлса, Переца Маркиша, Моисея Тейфа…) В этом втором блоке уместно слово «Б-гъ», в первом же только «Бог».
Этот второй блок пронизан этнографией еврейства, как Гоголь малороссами, а Искандер своим Сандро… это такой нынешний, глубоко провинциальный Шолом-Алейхем. У этого второго блока есть своя мощная традиция во главе с… Бабелем в том числе. До больших авторов, полагал я, наш писатель не дотягивает, но корни именно в них. Имя этой традиции простое – русскоязычная еврейская книга.
А первый блок произведений русский, пушкинский. К нему относятся стихи об иврите, как о языке, не ставшем родным, зарисовки об Анненском, Цветаевой, некоторые житейские зарисовки, где нет яркого, бьющего в глаза национального колорита…
Единственный вопрос, который стоял передо мной, куда отнести мне внутри себя Мандельштама. Он, «зинаидин жидёнок», а впоследствии великий «крестник» Гумилёва, посредине, как тело птицы меж двумя крыльями.
Для меня эти два блока произведений были как две отдельных части двухчастной книги. Оная двухчастность казалась мне личной трагической двухчастностью автора: одна его половина – в России, вторая – в Эрец-Исраэль.
Иначе говоря, я самоуверенно полагал, что в этой книге две части, каждая состоит из эссе, прозы и стихов, одна из них русская, а другая – «пархатостей больших и малых». И бьются они друг о друга лбами, и отражаются, как в зеркале, в Мандельштаме.
Но прошло время – и мнение моё изменилось. Мне стало ясно, что нет никаких двух частей. Автор в самом деле говорит на языке, прочно слитом из двух компонентов. Это вызвало ужас и интерес…
Борису Сусловичу удалось убедить меня, что его химерический язык не только автопортрет во времени. Это живой язык, таинственный и привлекательный по-своему. В нём заключено некое прекрасное уродство, притягательное и страшноватое.
Автору больно. Его химера, раздувая жабры, хватает раскалённый воздух горлом. «Царскосельский Эйлат», – судорожно хрипит она, и в пене слюны проступает кровь. Я улыбаюсь и говорю: «Здравствуй, милый дракончик, будешь борщ?» «Царскосельский Эйлат», – отвечает химера и лениво слизывает трубчатым языком свекольный навар с ложки…
Вячеслав Пинхасович