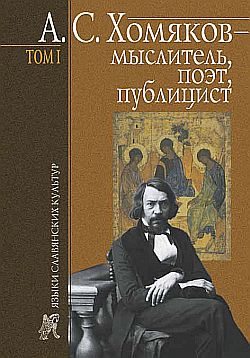Читать книгу А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1 - Борис Тарасов - Страница 11
Раздел 1
А. С. Хомяков как личность и как мыслитель
Е. А. Солодкая
Русское западничество славянофила А. С. Хомякова: дискурсивный парадокс национальной традиции
ОглавлениеФилософское наследие А. С. Хомякова, вероятно, одного из самых значительных религиозных философов России, по утверждению Ф. А. Степуна[41], – явление сложное и многоплановое, как следствие, представляющее собой пластичный материал для построения различных интерпретационных стратегий, вплоть до альтернативных. Принимая во внимание возможность таких альтернатив, трудно не согласиться с тем обстоятельством, что независимо от выбранной линии интерпретации рассмотрение творческого наследия А. С. Хомякова вряд ли видится возможным вне истории не только религиозного вопроса в России, но и вопроса о российском национальном самоопределении, самоуважении, как сказал бы Хомяков. Более того, именно вопрос национального самоопределения и выступает, по нашему мнению, той точкой отсчета, той общей системой координат, что делает возможным прочтение разрозненных текстов, писем, заметок, стихотворений А. С. Хомякова как одного вполне продуманного и достаточно последовательно реализованного целого. Это касается как великого множества тем, которые затрагивал Хомяков, так и общего стиля его высказываний, способа выражения, особого строя хомяковской мысли и речи, вызвавшего к жизни разноречивые оценки его наследия, вплоть до известных сетований на отсутствие системы в его воззрениях, внутреннюю незаконченность и даже некоторого рода дилетантизм многоохватных его рассуждений.
Словом, вопрос этот позволит несколько иначе взглянуть на некоторого рода «вторичность» и даже «риторичность» текстуального наследия Хомякова. Как известно, многие его работы написаны по преимуществу «вослед» и «по поводу» других текстов, скажем, в продолжение и развитие уже появившихся статей И. В. Киреевского. Как осторожно отмечает В. В. Зеньковский, подчеркивая «яркую индивидуальность» старших славянофилов, Хомяков обладал особого рода умом, «склонным к диалектике», потому он в известном смысле, скорее, вдохновлялся диалектическим противопоставлением своих взглядов чужим[42]. Однако не будучи профессиональным ученым ни в области богословия, ни в области философии, ни в области литературы или истории, Хомяков оказался не только одним из самых значительных религиозных философов России, но и остался в воспоминаниях современников человеком исключительно образованным, с огромной эрудицией в самых различных областях, универсально начитанным и наделенным даром слова.
Сам Хомяков, судя по его высказываниям, не считал системосозидающий разум идеалом ясности мысли, а страсть – ее препятствием. Если разумом все управляется, то страстью все живет, говорил он, а потому беда не в страстях, а в утрате «внутренней устроенности» в разуме и здоровой цельности в духе. Если наличие системы во взглядах А. С. Хомякова часто ставилось под сомнение, то в здоровой цельности духа ему не могли отказать даже самые ярые его оппоненты. «Внутренняя устроенность» его собственного разума, безусловно, укорененная в целостности самой его личности, глубоко верующего православного человека, определялась вместе с тем и целостностью задачи, которую эта личность перед собой ставила. Для «рыцаря церкви» и «светского богослова» Хомякова задача эта имела «духовную» природу. Вопрос о церкви, бесспорно, исходный, она не разделяла с вопросом о национальном самоопределении России. Последний же для Хомякова носил по преимуществу не политический, но духовный характер. В этом понимании данный вопрос и задавал некую вполне определенную форму всей его мыслительной деятельности, собирая воедино страстное и рациональное, поэта и мыслителя, полемиста и богослова, рыцаря и разумного хозяйственника. Потому он может быть рассмотрен сегодня вполне и как стилизующее начало философских исканий А. С. Хомякова, их основной пафос, и как начало логически собирающее, такой их риторический модус, который в то же время является и модусом логическим.
По замечанию известного «русского неокантианца» Ф. Степуна, национальное самоопределение России началось с выяснения ее отношения к Западу. Причем, как он полагает со всей вытекающей отсюда осторожностью в оценке самобытной русской мысли, началось оно не с «влияния» Запада, естественно предполагавшего весомый перечень заимствованных формул мышления и программ действия, но имело своим истоком «живое общение между Западом и Россией». Общение это дало о себе знать «сразу же после раскрытия Петром окна в закрытый до тех пор заморский мир»[43]. Из этого «общения», пожалуй, только и можно понять, почему в России с течением времени появилась не только «проевропейская атеистическая революционная интеллигенция», на которую сетовали в сердцах Н. Трубецкой и евразийцы, но и «русские европейцы», определившие тот особый горизонт действий российской интеллигенции, который был далеко не тождественен столь неприятным для Трубецкого проевропейским феноменам атеистичности и революционности.
Вследствие «общения» процесс самоопределения осуществлялся не просто через противопоставление России Западу, но и через последовательно проводимую в рамках этого самоопределения «диалектическую» критику Запада, начатую «русскими европейцами». Критика эта была не сводима к неприятию западной цивилизации и порожденного ею абстрактного парламентаризма, неприятию католицизма и порожденного им рационалистического богословия, а впоследствии и реформационного движения, неприятию отвлеченных начал западноевропейской философии и порожденного ими механистического, страдающего редукционизмом типа науки. Скорее, ее можно отнести к тому критическому типу мышления, который был порожден самим Западом и с легкой руки И. Канта вошел в определение европейского Просвещения: «Просвещаться – значит мыслить самому!» Иначе говоря, «диалектическая» критика Запада выражала волю к самостоятельности российского мышления и была во многом следствием опыта, почерпнутого в «общении» с Европой, залогом возможности русских европейцев в том числе.
В процессе критического общения с Западом в России, как известно, образовались две партии: славянофилы и западники. Но расстановка этих сил до сих пор составляет предмет оживленных дискуссий. То, что западники были европейцами, пишет Ф. Степун, доказывать не приходится, однако «не всеми еще освоено то, что в сущности и славянофилы были ими»[44].
В самом деле пафос «критичности» выпал по преимуществу на долю славянофильства. Во всяком случае, именно славянофилы публично продемонстрировали критический настрой, напомнив России о ее самобытности, о «Московии», о допетровской Руси, о ее особой религиозной миссии – словом, о том, что история России не исчерпывается историей салонов. Однако история самого славянофильства мало чем напоминала процесс самобытного движения русского народа к национальному самосознанию. Тем более что нечто подобное в недавнем прошлом пережил и пресловутый Запад, открывший – независимо от России – в глубинах своей истории и мистическую драму Востока и Запада, и критические национальные самоопределения. Как настаивает Ф. Степун, скорее, «славянофильство совершенно тождественно духовному и бытовому патриотизму западных народов», тогда как «западническое отрицание Руси, начатое Петром и законченное Лениным, неизвестное Западу, типично русское явление»[45]. Во всяком случае, типично русским явлением оказалось занятое у Запада, по едкому замечанию Хомякова в адрес автора «Философического письма», неуважение к себе.
Русские европейцы не могли не знать опыта критического превращения «европейцев» в «англичан», «французов», «немцев», «американцев», которому предшествовало не только превращение европейцев в католиков и протестантов, самого Запада в Старый и Новый свет, но и нарастающий пафос просветительской критики западного разума. Кантовская критика разума, как и его формула «Просвещаться – значит мыслить самому!», органично дополняла национальные превращения европейцев. В этом контексте требование мыслить «по-русски», то есть «самостоятельно» и «критично», было столь же естественным, как требование мыслить, скажем, «по-немецки» или «по-французски». Западная критика разума в свою очередь сопровождалась не только последовательной критикой самой западной цивилизации с известной немецкой спецификой противопоставления французскому Civilisation немецкого Kultur-Bildung, но и критикой католицизма как основы западной цивилизации, с последующей легитимацией не просто национально-религиозного своеобразия, но особого народного духа нации. Наконец, западноевропейская критика разума была не только конструированием, но и в некотором роде деконструкцией отвлеченных начал философии, которая подтолкнула западную философию к небезызвестному антропологическому повороту. Не только перечень новых проблем антропологического толка, но и национальный облик западноевропейской философии по праву может быть назван существенной составляющей такого поворота.
В этом контексте оценка славянофильства как «наиболее оригинального философского направления в России, которое сознательно стремилось к созданию русской философии»[46], и в особенности оценка А. С. Хомякова как «одного из самых значительных религиозных философов России», вполне позволяет настаивать на национальном своеобразии, сохраняя при этом пространство «общения» с Западом. Действительно можно сказать, что славянофилы «произошли из того романтического движения, в котором немецкий народ осознал самого себя, они взяли на вооружение органический и исторический методы как необходимые методы всякой философии, особенно национальной»[47], что дух философии Шеллинга и Гегеля неотступно сопровождал тех, кто «первыми выразил внутренний синтез русского народного духа и религиозного опыта восточной ортодоксии»[48]. Добавим к этому, что отсылка к такого рода истокам может быть принята лишь с некоторыми оговорками. Рекомендации В. В. Зеньковского, что надо всячески избегать той или иной стилизации славянофильства, в особенности когда речь идет о «старших» славянофилах – Хомякове, Киреевском, К. Аксакове, Самарине, на наш взгляд, вполне оправданны и в вопросах о западных влияниях, когда говорится об институционально не пережитом Россией кантианстве или о глубоко пережитом шеллингианстве. Теснейшее духовное общение с Западом русских европейцев, как и наличие влияний, отрицать бессмысленно, но при этом заслуживают куда большего внимания индивидуальность российской мысли и особенности истории ее формирования.
На наш взгляд, важно рассмотреть диалектические пристрастия Хомякова как адекватный способ разрешения тех задач, которые делали его полемический талант органичным и востребованным. Вряд ли можно найти лучшее объяснение тому удивительному факту, что именно Хомяков, многие идеи которого, по замечанию Зеньковского, скорее, «кристаллизовались при разборе и критике чужих идей», а «почти все философские (и богословские) статьи и этюды написаны “по поводу” чьих-либо чужих статей или книг», стал органично и востребованно русским философом.
Характеризуя А. С. Хомякова как одного из самых значительных религиозных философов России, необходимо обратить внимание на то, что способность к различению прикладных вопросов религии составляет, на наш взгляд, существо той российской религиозно-философской мысли, перспективы развития которой были им намечены.
Не секрет, что со времен классической античности задачи «апологетические и полемические» относились к тому спорному пространству «свободы слова», в котором философия встречалась с риторическим дискурсом и в котором формировалось предметное поле западной философской традиции. Сократический диалог как одна из возможных точек отсчета западной философии, по сути, впервые демонстрирует опыт различения и рассмотрения «прикладных вопросов» религии. Возможно, потому, вопреки всей неоплатонической традиции, В. С. Соловьев пишет «Жизненную драму Платона» именно так, что блестящий полемист и апологет зрячей веры Сократ выглядит куда более близким ему, нежели философ и человек Платон. Философия и наука рассматриваются при этом не как отвлеченное знание, а как образ и стиль жизни, за которыми стоит зрячая вера Сократа. Последняя и открывает сферу прикладных вопросов.
Трудно не заметить, что дилемма эта в толковании существа философии широко рассматривается и А. С. Хомяковым. Его критический настрой по отношению к западному рационализму подпитывался еще и тем, что иные вопросы выдавались за религиозные. «Религия в борениях Запада была только маской иных человеческих усилий», – замечает он в ответ на «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева[49]. Фигура самого Хомякова – «рыцаря церкви» и «бретера диалектики» – действительно выглядит, почти по Соловьеву, сократовской. Полемический талант Хомякова – подобно сократовскому – нацелен на резонирование в социальном пространстве России, которое не может быть отвлеченной абстракцией богословских экскурсов или ученых штудий, но всегда только вполне определенным, живым, публичным и адресным, а именно российским. Российская адресность русского европейца А. С. Хомякова и обозначила интенции его религиозно-философских размышлений. Мы имеем в виду ироничный парафраз Хомякова «тайна русского умолчания», который создает особую точку отсчета его дискурсивной практики.
Как известно, чаадаевское определение «тайна русского молчания» стало формулой отсутствия «свободы слова», соотносимого с исторической судьбой русского православия, обусловленной отличием апофатического и катафатического богословия, не пережитым опытом схоластики. «Тайна русского молчания» восходила к истокам апофатической традиции греческой патристики, доставшейся Руси в наследство от Византии, «священнобезмолвие» нарекалось существом православной культуры, православным роком России. Отсылка к апофатике, в свою очередь, создавала прецедент, обозначенный противостоянием «Хомяков – Чаадаев», «славянофильство – западничество». Не случайно различие между славянофилами и западниками почти официально проводилось по вопросам религии и понимания веры. Выход из состояния «молчания» потенциально имел своим следствием возможный отказ и от самой традиции, во всяком случае, он зачастую выглядел как ее попирание, как западничество.
Путь различения прикладных вопросов, которым шел, на наш взгляд, А. С. Хомяков, и был альтернативой этому драматическому разрыву, альтернативой апофатическому року, якобы довлевшему над православием. Не случайно Хомяков напоминал о вечных истинах, переданных на славянском языке. То, каким образом византийское наследие было усвоено, какие формы «священнобезмолвие» обрело в русском сознании и русской культуре, каковы особенности преломления апофатики в русском православии, аутентично ли русское апофатическое сознание его византийским истокам, превращалось в вопрос совершенно отдельный. Нельзя отрицать, что вопрос этот и сегодня сохраняет свою исследовательскую значимость[50]. Плодотворной, знаковой для судьбы русской мысли оказалась сама постановка этого вопроса. Она вызвала к жизни ту область «прикладных вопросов», которая спровоцировала рождение русской общественной мысли, и открыла перспективу для особого свойства богословия, не чуждого этой общественной мысли.
Показательной в этом отношении может быть характеристика, данная А. С. Хомякову: «светский богослов». Элемент «светской» иронии проскальзывает у Хомякова уже в определении русской традиции как «тайны русского умолчания». Ирония религиозного мыслителя тем примечательна, что намеченный им «богословский» проект явно не ставит под сомнение ценности апофатической традиции. Тут нет чаадаевских сетований на отсутствие в православии схоластики, как нет и слов о «жалкой Византии». Без сомнения, религиозная мысль Хомякова разворачивается в иной плоскости.
«Светское богословие» Хомякова сродни безусловно религиозной точке зрения, и как таковое оно отсылает нас не к чистому, «беспримесному», по выражению А. Я. Гуревича, богословию, но к некоему смешанному жанру. К такому жанру, например, принадлежала западноевропейская практика проповеди. Последняя, как известно, предполагала и широкую аудиторию, и мирской язык, и отчетливо выраженную социальную ангажированность. Интересно, что в качестве адресата эта практика вычленяет особый тип так называемого «среднего человека» эпохи, тип не богослова и не простеца, но интеллектуала[51].
Разумеется, что словесная культура «светского богословия» в России XIX века не могла быть похожа на западноевропейскую средневековую культуру проповеди, соответствовать ее литературным образцам, исследование которых в самой российской культуре стало достоянием более позднего времени[52]. «Несколько слов о Философическом письме», адресованных г-же Н., мало чем напоминают литературу Exempla или проповедь Бертольда Регенсбургского. Но их роднит артикуляция проблем так называемой «низовой» религиозности, преодоление пропасти между богословами и простецами, установка, близкая традициям западноевропейской христианской антропологии, прежде всего позиции Б. Паскаля[53], что к сути истины принадлежит и искусство убеждения. В этом контексте трудно обойти вниманием «неслучайность» формы «случайного светского разговора», которая так же может принадлежать пространству богословия, как история и культура принадлежат, согласно Хомякову, пространству церкви. На наш взгляд, вслед за Ф. А. Степуном можно называть такой принцип церкви «своеобразной антропологией» и «культурфилософией» именно потому, что у Хомякова этот принцип не ограничивается теоретической выкладкой, но превращается в основу его диалектического бретерства, его постоянного диалогизирования.
Дело не только в личных склонностях Хомякова к полемическому стилю. Традиции сократического диалога далеко не определяются его личными симпатиями. Повышенное внимание к сократической философии здесь некий фигуральный ход, сравнимый с известным поворотом к проблемам диалога в советской философии 1970-x годов. В «Жизненной драме Платона» Соловьева проблема диалога-разговора скорее родственна не античной маевтике, но проекту «общего дела», собирающего воедино всю российскую философию. Даже там, где речь идет непосредственно о «спасении» и «воскресении», «общее дело» – как следствие проективности догмата, на котором настаивал непосредственный автор «Философии общего дела» Н. Ф. Федоров, – требует такого условия своего осуществления, как свободное публичное слово, роль которого и берет на себя российская религиозная философия. Это «слово» и не может быть писательством как личным творчеством, отсутствие склонности к которому отмечал Н. А. Бердяев, например, у Н. Ф. Федорова[54], но именно «общим делом», «братским состоянием», особенным проявлением того, что у А. С. Хомякова получило название «соборности». «Соборность», как и «общее дело», в этом смысле не только предмет рассмотрения, некая идея, но, способ и стиль философствования, нечто, осуществляемое в философском действии.
Из «общего дела» и для Соловьева, и для Федорова, и для Хомякова происходят и вопросы, которые «затрагивают всякого», и способ их разрешения. В свете «общего дела» перестраивается и образ России, русского народа, русского государства, перестраивается как «общее дело» национального самоопределения. Это «общее дело» провоцирует переход и богословского, и научно-исследовательского дискурса в публичное пространство с его особыми артикулятивными законами, которые зачастую кажутся посягательством на строгий понятийный строй мысли. Не случайно вопрос этот с трудом укладывается в последовательно выстраиваемую систему понятий, оставаясь «русской идеей», русской «духовной» идентичностью, загадочной русской душой или даже «русским характером», а не строгой научной формулой. Впрочем, такого рода конфигурации при «решении» вопроса о национальном самоопределении опять-таки трудно назвать сугубо русским явлением.
41
Степун Ф. А. Дух, лицо и стиль русской культуры // Boпросы философии. 1991. № 1. С. 161.
42
Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 2. Гл. 3. Ростов н/Д, 2004.
43
Степун Ф. А. Россия между Европой и Азией // Новый журнал. 1962. № 269. С. 251– 277.
44
См.: Люсный А. П. Ф. А. Степун. Сочинения / Сост., вступит. ст., примеч. и библиограф. В. К. Кантора. М., 2000 // Вопросы философии. 2001. № 12. Критика и библиография. С. 176.
45
Там же.
46
Радлов Э. Л. Очерк истории русской мысли // Введенский А. И., Лосев А. Ф., Рад-лов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии / Сост., вступит. ст., примеч. Б. В. Емельянова, К. Н. Любутина. Свердловск, 1991. С. 124.
47
Лосев А. Ф. Русская философия // Там же. С. 78.
48
Там же.
49
См.: Хомяков А. С. Несколько слов о «Философическом письме» // Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1994.
50
На то, что эта тема для российской религиозной философии, скорее, была предметом «молчания», обращает внимание П. В. Кузнецов. См.: Кузнецов П. В. Метафизический нарцисс: П. Я. Чаадаев и судьба философии // Вопросы философии. 1997. № 8. С. 181.
51
См.: Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Exempla XIII века). М., 1989. С. 10.
52
Как отмечает А. Я. Гуревич, в России первым этой проблеме средневековой «низовой» религиозности уделил внимание Л. П. Карсавин в книге «Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках в Италии», вышедшей в 1915 году.
53
Как отмечал Зеньковский, Хомяков очень любил Б. Паскаля и даже, по свидетельству Самарина, называл его своим учителем.
54
Бердяев Н. А. Религия воскрешения («Философия общего дела» Н. Ф. Федорова) // Н. А. Бердяев о русской философии. Ч. 2. Свердловск, 1991. С. 51–95.