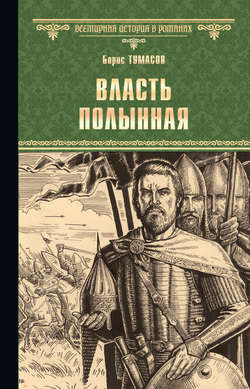Читать книгу Власть полынная - Борис Тумасов - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Иван – князь Московский
Глава 1
ОглавлениеНад Москвой сгущались сумерки. Заходящее за дальним лесом солнце отбрасывало последние лучи, на купола соборов и церквей, на кровли княжеских и боярских хором.
Смолкал перезвон молотов в Кузнецкой слободе, перекликались редкие сторожа на стенах города. Великий князь Иван Васильевич всё ещё оставался в малой думной палате. Одолевали мысли.
А они у него в заботах государственных. Отец, покойный великий князь Московский Василий Тёмный, в последние годы жизни не раз наказывал: «Тебе, Иван, надлежит княжество Московское укреплять, расширять, собирать воедино удельных князей. Да так, чтобы они зависимыми от Москвы были, с годами сели бы служилыми князьями, великому князю Московскому покорными».
Что ж, он, Иван Васильевич, частью отцовское завещание исполнил, унял попытки некоторых князей вровень с московским князем встать. Отныне они его, Ивана Васильевича, государем именуют. Но сколь ещё впереди дел предстоит, пока все князья и бояре назовут его государем всея Руси!
Но он, великий князь Московский Иван Васильевич, добьётся этого. Станут удельные князья в разряд служилых, а недруги почувствуют силу государства Русского…
Иван Васильевич поднялся и направился на женскую половину княжеского дворца.
В дворцовых переходах висел стойкий смоляной дух, пахло свежей стружкой. Намедни великий князь велел срубить новые переходы вместо старых.
Сквозь высоко проделанное оконце едва пробивался сумеречный свет. Он лениво рассеивался по переходу, выхватывая из настенных плах срубленные сучья, местами плакавшие янтарной смолкой. Брёвна тянули из московских лесов, которые вплотную подступали к городу.
Государь шёл неторопливо, легко неся своё ещё молодое тело. Ноги, обутые в мягкие сапоги, ступали бесшумно.
Лета его к тридцати годам подбирались. Но Иван Третий уже столько повидал, что другому на весь век хватило бы.
Память, она вольно или невольно возвращает человека в далёкое и близкое прошлое, заставляет переосмысливать поступки, судить прошедшее мерой строгой и доброй. Память, как ларчик, какой дозволено человеку приоткрывать, заглядывая в дни и годы быстротекущей жизни.
Длинным переходом шёл Иван Васильевич, и разные мысли врывались в его память, взбудораживали и тут же исчезали, уступая место другим воспоминаниям.
Он видел себя отроком, стоящим рядом с отцом, великим князем Московским Василием, в храме перед святыми образами. Оба молились, когда в храм ворвался князь Дмитрий Шемяка с челядью. Его люди сбили отца с ног, выволокли на паперть и тут же выкололи ему глаза. Шемяка силой захватил московский великий стол…
Князь Василий, которого с той поры прозвали Тёмным, с сыном, малолетним Иваном, с трудом добрались до Твери. Тверской князь Борис Александрович приютил их.
Василий Тёмный и Борис Тверской договорились совместно изгнать из Москвы Шемяку, вернуть московский великий стол Василию.
Там, в Твери, мальчишка Иван впервые увидел дочь князя Бориса, юную Марию. Их помолвили. Когда сравнялось по пятнадцать лет, тверской епископ повенчал молодых людей…
Вздохнул великий князь Иван Васильевич, прошептал:
– Марья, Марьюшка, отчего расхворалась? Я ль тебя не лелеял, не сберегал! Ан день ото дня таешь, ровно свеча церковная… Одна ты у меня утеха и радость, советчица в делах государственных, в беседах мирских…
Звякнул малый колокол на звоннице Успенского собора, призывая к вечерне. Перекрестился великий князь и вспомнил, как в тот вечер, когда Шемяка казнил Василия, он, мальчишка, выскочил из храма и увидел на паперти обливавшегося кровью отца с выколотыми глазами, как отец, корчась от боли, просил смерти у Бога.
Малолетнему Ивану было страшно. Страшно было и когда ехали, таясь, в Тверь, боялись, что тверичи не примут их.
Но Тверь не только дала приют, но и стала союзницей Москвы против Шемяки…
Иван Васильевич вновь прошептал:
– Распри княжеские, усобицы проклятые, будет ли конец им?
Великому князю казалось, что они подстерегают его постоянно. Братья родные, они ведь могут начать раздоры за наследство. Особенно после его смерти: княжество Московское примутся делить…
Миновав переход, великий князь вступил на женскую половину дворца.
Подойдя к низкой, обитой полосовым железом двери, он потянул за кованое кольцо. Дверь бесшумно открылась.
Марья сидела на скамье у стены. Опочивальню освещали лампада да заходящее солнце, пробивавшееся через цветные стекольца окошка.
Повернув голову, княгиня посмотрела на мужа. Иван Васильевич заметил в её глазах блеск слез. Он склонился, поцеловал влажные глаза.
– Любовь моя, Марьюшка… – Присел на скамью, приобнял. – Свет очей моих, ладушка… Помнишь, как впервой встретились? Ты былиночкой мне показалась, утехой в годину лихую.
Прижал жену к груди и, будто вспоминая, продолжил:
– Тогда отец мой, великий князь Василий Тёмный, уверовал в меня, рядом с собой в великие князья возвёл. Так я с той поры малолетком и княжить начинал. А ведаешь ли, Марьюшка, отчего он так поступил? Хотел меня от братьев своих коварных да от племянников хищных оградить. Чтоб никто из них после его смерти не мог помыслить на великое княжение московское.
Помолчал Иван Васильевич, давая Марье подумать над сказанным. Потом добавил:
– Рано я созрел. Видать, спешил отец, чтоб я на княжестве Московском укрепился, к власти приобщился. Он хоть и ослеплённым был, но лучше зрячих представлял, каким должно быть Московское княжество. Не в уделе своём замкнуться, а расшириться, земли русские на себя принять, государством быть, коему предстоит не токмо иго ордынское стряхнуть, но и прочно на западном рубеже встать…
Великий князь чуть отстранился от жены и улыбнулся:
– А ты не забыла, как я уже в шестнадцать сыну нашему Ивану отцом стал?.. Смекаешь, зачем я сейчас речь с тобой, Марьюшка, завёл?
Княгиня, потупив голову, молчала.
– Я, Марья, не о себе мыслю, о великом княжестве Московском заботы мои. Сама ведаешь, пока невелико оно, да и то братья норовят его по уделам разорвать. А что его делить, коли границы на севере к княжеству Тверскому примкнули, на юге до земель рязанских, на востоке до Волги, на западе до земель новгородских касаются. А новгородцы, аль нам то неведомо, к Литве льнут. Им, вишь, торговлю с союзом ганзейских городов[1] подавай. Поверь, Марьюшка, настанет день, когда укорочу я руки Новгороду Великому и удельные княжества заставлю склониться перед Московской Русью. Станут они у меня служилыми князьями. После смерти отца твоего брат твой Михаил тоже к Литве потянул! Не доведи Бог до беды…
Потёр лоб великий князь, будто вспоминая.
– Так о чём я? Да, о сыне нашем, Марьюшка, об Иване. Пока юн он, и в делах, и в поступках не муж, а отрок. Но пора ему в разум входить, в дела вникать, борозду государственную распахивать нам вместе. Потому пусть бояре ведают, что Иван со мной на великое княжение сядет. Как отец мой, князь Василий, меня при себе держал, так и я Ивана подержу.
К чему так, спросишь? А к тому, княгинюшка, что слишком много завистников на княжество Московское. Начиная с братьев моих, что Андрей, что Борис. На своих уделах сидят, а на мой стол рот разевают. У Юрия, брата моего старшего, детей нет, уделы его Дмитров, Можайск, Серпухов, но ему всё мало. Москве бы города свои завещал, ан нет… Да и мать моя, престарелая вдовая княгиня, как появлюсь в её светлице, плачется на бедность братьев моих. Не доведи Господь, что со мной случится, обидят они сына нашего Ивана. А коли я его великим князем нареку, никакая собака не посмеет куснуть.
А уж недругов князей удельных у нас предостаточно. На Москву многие из них зарятся. Какие к Литве льнут, подобно Новгороду, спят и видят себя под великим князем литовским, а иные ещё паче, не прочь с германцами познаться, им руку протянуть. Того невдомёк им, что татары почитай три века на Руси хозяйничают, и, коли не дать им отпор, русскому люду ещё многие лета под их нагайками ходить…
Почувствовав горячую ладонь Марьи на своей руке и услышав её тихий голос, великий князь вздрогнул.
– Князюшка мой Иван Васильевич, там, в Твери, я сердце тебе отдала, в дела твои уверовала. Ныне, на закате дней моих, ведаю: княжество Московское в руках твёрдых. Пусть же сын наш Иван, хоть он и молод, будет крепкой опорой во всех делах твоих и помыслах. Но береги его…
Марья передохнула, перекрестилась. Попыталась опуститься перед великим князем на колени. Иван жену подхватил, легко поднял, уложил в постель, поцеловал. Ни слова не сказав, вышел. В горле ком застрял. Пока шёл назад, дороги не видел. Девки-холопки плошки жировые зажигали, их тусклый свет в высоких серебряных поставцах выхватывал малые и большие сундуки, всякие столы и столики, костью изукрашенные, лавки вдоль стен, покрытые цветастыми холстами. На мужской половине на колках[2] сабли были развешаны, луки с колчанами, по стенам трофеи охотничьи: ветвистые рога лосей, клыкастые головы кабанов и свирепых туров. Лавки застланы разными шкурами. А посреди просторной горницы разбросаны медвежьи полости.
Великий князь вошёл в свою опочивальню. Боярин-постельничий свечу засветил, помог разоблачиться. Иван Васильевич улёгся на широкую лавку, но долго не засыпал, всё ворочался. Воспоминания опять нахлынули, и всё из далёкого прошлого.
Про день сегодняшний подумал, про разговор с Марьей. Пусть он будет ей утехой…
Поднялась Москва над всеми городами русскими. Встала из лесов стенами кремлёвскими, церквами, хоромами боярскими, посадами ремесленными. И ни Батыево разорение, ни набег татарского царевича Дюдени не остановили её роста.
Легла Москва в междуречье Оки и Волги, на перекрёстке больших торговых путей. Проходили через неё заморские товары с Балтики; в Великий Новгород – рязанский хлеб; из Крыма по Дону плыли гости из Сурожа и Кафы. Торговали купцы в московском Зарядье диковинными итальянскими и греческими, византийскими и персидскими товарами. Знали путь на Москву гости из Орды и Самарканда. От той торговли ещё больше богатела Москва, крепли её связи с другими русскими княжествами.
Поднималась Москва, поднималось и Московское княжество. От ордынского разорения бежали в Московию из других княжеств умельцы-ремесленники, купцы, воины, трудолюбивые пахари. Прочно оседали на земле, наполняли богатствами казну московского князя …
Крепла и ширилась Московская Русь.
Пятнадцатое лето пошло княжичу Ивану. Он крепкий, рослый, в кости широк: в отца. А волосы материнские, русые, густые, и глаза её, большие, серые.
Иван Москву с детских лет любил. Китай-город и Зарядье: улицы сплошь запутанные, площади торговые, слободы ремесленные, церкви многочисленные, бревенчатые, огороды и посады.
Всё это нагромождение построек с хоромами боярскими, с мастерскими и избами жалось к Кремлёвскому холму, обнесённому ещё со времён князя Дмитрия Донского каменной стеной с башнями и воротами, кованными медью.
А в самом Кремле, где у Фроловских ворот стоит Чудов монастырь, калитка, за которой кельи монахов, трапезная.
Мимо монастыря короткая дорога к соборной площади, где стоят древний Успенский собор и собор Благовещенский, за ними палаты митрополита. В стороне новый дворец великого князя с постройками и иными хоромами…
После вечерней трапезы отец, поднявшись из-за стола, сказал сыну:
– Завтра быть на Думе.
Молодой Иван хоть и поморщился, но отцовское слово не нарушишь. Княжич Думу не понимал да и не признавал высокоумничанья бояр. Рассядутся на скамьях вдоль стен, бороды из высоких воротников выставят. На посохи опираются да норовят слово умное вставить…
Но отец велел явиться на Думу. Для чего – княжич не спросил.
Едва солнце поднялось из-за леса, как он уже был на хозяйственном дворе, где на столбах стояла сбитая из тесовых брёвен просторная голубятня.
Улёгшись на прохладную траву, княжич смотрел, как над Кремлём выписывала замысловатые петли голубиная стая. Высокое небо, курчавые облака и голуби как бы отдалили мысль о необходимости явиться на Думу.
Москва тем временем пробуждалась. Ожили слободы, начал собираться люд на Торговой площади, в рядах послышались разговоры, крики.
На Торговую площадь Иван любил бегать с другом Санькой, поглазеть на лавки с товарами гончаров и чеботарей, кузнечных дел умельцев, на ряды зеленщиков и пирожников, калачников и сбитенщиков.
А ежели чуть в сторону податься, то можно попасть в ряды, где мясом и разной дичью торгуют, а на крюках туши подвешенные кровавят.
Сюда съезжались купцы со всех посадов, зазывно кричали торговки:
– Калачи домостряпные, не заморские, не басурманские, а русские, христианские!
– Горячий сбитень! Сбитень горячий!
Сбитень из подожжённого мёда отдавал пряностями, обжигал.
Рядом к Лубянской площади прилепился трактир. Из щелястых дверей тянуло луком жареным, капустой кислой. У коновязи стояли кони, розвальни, сани. Толпились мужики из окрестных сел. Было шумно, весело…
Иван задумался и не слышал, как появился дружок Санька Ненашев, сын дворовой стряпухи. Достал из-за пазухи краюху пирога с требушатиной, отломил половину.
Княжич только сейчас вспомнил, что ещё не ел. Санька схватил длинный шест, принялся пугать голубиную стаю, засвистел лихо. Голуби то взмывали ввысь, то падали камнем до самой земли.
На босоногом Саньке рубаха домотканая задралась, оголив ребра.
Иван поднялся, сказал со вздохом:
– Пойду я, Санька. Государь велел на Боярскую думу явиться…
1
Союз ганзейских городов – торговый и политический союз северо-немецких городов (ганза – товарищество, союз); окончательно сложился в 1367–1370 гг.; в XV в. насчитывал до 160 городов-участников (Любек, Бремен, Гамбург, Росток и др.), имел общую казну и военно-морские силы; стремился к установлению монополии в североевропейской торговле.
2
Колок – деревянный гвоздь, служащий вешалкой.