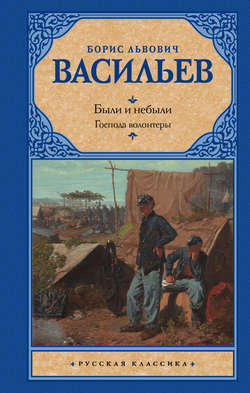Читать книгу Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры - Борис Васильев - Страница 5
Часть первая
Глава вторая
1
ОглавлениеГавриил получил телеграмму перед обедом; по счастью, догадались переслать из полка, куда она была адресована. Трижды перечитал: «Мама скончалась похороны субботу», поднял растерянные глаза на хозяйку, что торчала в дверях, сгорая от любопытства. Поймав его взгляд – вдовушка была молода и взгляды ловила жадно и преданно, – качнулась полным станом:
– Подавать, Гавриил Иванович?
– Что? – Он аккуратно сложил телеграмму, пытаясь собраться с мыслями. – Мне в полк надо. Вызывают.
Он боялся ее жалости, чувствуя, что может не выдержать. Прошел к себе, торопливо переоделся, прицепил саблю. И тут же сел и закурил, рассеянно уставившись в одну точку.
Ему казалось, что он думает о матери, но он ни о чем не думал. В голове, сменяя друг друга, мелькали какие-то случайные разрозненные воспоминания. То он видел себя еще маленьким на мосту, с корзиной для ягод. Он замахивался на огромную, какие бывают только во сне и в детстве, бабочку, и корзиночка падала в воду и плыла, и кто-то во всем светлом, добрый и ласковый, доставал эту корзиночку. То он видел себя на качелях и взлетал ввысь, к самой перекладине, и вдруг сорвался, и кто-то в светлом, добрый и ласковый, поднимал его, испуганного, с земли. То он видел бабки – простые, ничего не стóящие косточки, игра крестьянских ребятишек, – и кто-то в светлом, добрый и ласковый, протягивал ему их.
Этим светлым чудом, добрым и ласковым, была мама. Он знал, что это мама, но почему-то именно сейчас ему никак не удавалось увидеть ее лицо. Он лихорадочно ворошил вдруг нахлынувшие детские воспоминания, но там, где он искал, мама была без лица. Это было просто нечто доброе и очень ласковое, само воплощение доброты и ласки, но лица у нее не было. Вероятно, оно появилось бы в других воспоминаниях, более поздних, когда он уже подрос и научился видеть, а не только смотреть. Но эти иные картинки сейчас не хотели возникать в его памяти, мама не приходила, а двадцатичетырехлетний офицер чувствовал себя совсем маленьким и совсем забытым.
За дверью вздохнули робко, но томно и многозначительно, и этот рассчитанный женский вздох вернул Гавриила к действительности. Он погасил папиросу и встал. Он решил уже не только ехать к отцу с этим известием, но и выдержать бурю.
Сказав хозяйке, что пришлет за вещами, Гавриил вышел на улицу. Отец жил довольно далеко, на Пречистенском бульваре, но Олексин у Спасской взял лихача.
Дверь открыл не Игнат, старый камердинер отца, а лакей Петр, важный, толстый, ленивый, слушавший только самого барина. Гавриил молча отдал ему саблю и перчатки, прошел в столовую и так же молча поклонился отцу, уже сидевшему за прибором.
– Обедал? Нет? Садись. – Отец говорил отрывисто и глядел в сторону, сдвинув седые брови. – Хочешь рябиновой? Я что-то пристрастился. Вино дрянь стало, кислятина.
– Мама умерла, – сказал Гавриил, помолчав. – Я депешу получил от Вари.
– Кислятина, – строго повторил старик. – Налей барину рябиновой, Петр. У меня раковый суп. Пощусь. Удивлен? Впрочем, если хочешь бульону…
Он вдруг замолчал. Чисто выбритый кадык его круто пошел вверх, странно задергался, и старик торопливо стал гладить седые усы, чтобы скрыть это судорожное движение. Потом сердито махнул и, когда Петр вышел, поднял рюмку чуть заметно вздрогнувшей рукой.
– Помянем, поклонимся и Господа помолим мысленно. – Он большими глотками осушил рюмку. – Удивительно. И несуразно. Несуразно, Гавриил.
Он торопливо, расплескивая на скатерть, налил себе еще, выпил, пожевал корочку и откинулся к спинке стула, прикрыв старческие дряблые веки.
– А вы получили?.. – начал было Гавриил.
– Хорошо! – вдруг крикнул старик. – В эпоху всеславянского единения и православных идей пить рябиновую весьма патриотично. Знаменует русский дух. При выходе особливо. Петр! Подавай.
Он в упор глянул на Гавриила странными, отсутствующими глазами. Словно тяжело и упорно думал о чем-то совсем ином, мучительном и сладком одновременно, а шумел и ерничал просто так, для прикрытия собственных дум. Он никогда не допускал никого в царство своих размышлений и переживаний, думал не то, что говорил, и не говорил, что думал.
– Ты почему здесь? Ах да, отпуск. Надолго испросил?
– Надолго, – сказал Гавриил.
– А Черняев-то бежит! Бежит от нечестивых аскеров султана! – с какой-то злой радостью неожиданно сказал старик, и Гавриил испугался, не читает ли отец его мысли на расстоянии. – Мальбрук в поход собрался. Тебе, связанному с Комитетом, поди, вдвойне обидно, а?
– Генерал Черняев самоотверженно служит великой идее, – нехотя сказал Гавриил: не хватало еще спорить о политике в этот день. – Он рыцарь.
– Он легкомысленный искатель лавров, – перебил отец. – Ему наплевать на ваши идеи, и на султана, и на Сербию, ему наплевать на всё и на вся. Ему нужны лавры Цезаря: лучше быть первым в Сербии, чем вторым в Петербурге.
– И все же он был единственным, кто не бросил Сербию на произвол судьбы. Согласитесь, что одно это достойно уважения.
– Не соглашусь. Нет, не соглашусь! Не бросил по расчету и бросит тоже по расчету. У господ новоявленных крестоносцев сначала расчет, а потом уж вера. Как сухарный запас: на всякий случай. А что до идеи, то идея – плод размышлений, а не моды. На нее надо право иметь, ее надо выстрадать, а уж коли идея не вами высижена, то хоть время-то для приличия соблюдите, господа! Хоть вид сделайте, что мучились ею, что сомнения преодолевали, что сравнивали ее и выбирали путем умственной деятельности, а не одних ушей. Я сейчас не о Цезаре российском говорю, не о господине Черняеве: бог с ним, с Черняевым! Я о брате твоем говорю, об американце нашем. Добро бы хоть в Америку за барышом поехал – говорят, ловкачи наживаются и даже якобы капитал составляют. Это бы понятно было, хоть и противно: дворянское занятие – шпага, крест да книга, так в старину считалось. В служении отечеству одним из трех этих путей шел русский дворянин, не пачкая рук торговлишкой и душу оборотливостью не смущая. А ныне посмотришь: Господи, дивны дела твои! Рюриковичи с мужиками об отрезках рядятся, Гедиминовичи заводишком обзавелись! А купчина – не воин, из торгаша офицера не сделаете. Нет-с, не сделаете!..
Старик говорил без умолку, путано и непоследовательно, а глаза оставались все теми же мучительно напряженными, ловящими что-то ушедшее. И поэтому Гавриил не спорил, хотя его так и подмывало поспорить и надо было поспорить, чтобы выговорить наконец свое и утвердиться в этом окончательно. Но сейчас было не время.
Обед закончился, и поручик встал, намереваясь откланяться, так как отец обычно отдыхал после трапез с возлиянием. Надо будет еще послать за вещами, но главным сегодня было, пожалуй, то, что не в меру и не к месту разболтавшийся отец раздражал, как никогда прежде.
– Кури здесь, – сказал старик. – А лучше пойдем ко мне.
– Вам следует отдохнуть…
«Следует» было ошибочным словом: старик сдвинул седые брови. Он не терпел советов, а тем паче указаний и умел усматривать их и в более безобидных фразах.
– Следует не давать рекомендаций, если их не просят. Эту бесцеремонность оставьте приказчикам. – Он шел впереди, и толстый Петр еле поспевал открывать ему двери. – Любое благое намерение останется сотрясением воздухов, ежели не будет высказано в приличной форме. Сожалею, что ваше воспитание не принесло плодов, на кои смел рассчитывать.
Идя следом, Гавриил с тоской думал, что вряд ли успеет обернуться: видимо, старик намеревался скрипеть до позднего вечера. Он жил одиноко, не поддерживая знакомств и не признавая вежливых визитов, много молчал, но иногда говорил без остановки.
Им с детства внушали преклонение перед отцом. Не любовь, не уважение, а почти рабскую покорность, точно они были не законными его детьми, а тайно прижитыми. И отец воспринимал это как должное, не снисходя даже до гнева. Гавриил думал об этом, сидя в кабинете, где каждая книга знала свое место и по прочтении тут же возвращалась на него, где ни один журнал не смел остаться раскрытым даже ненадолго, а газеты выглядели так, будто их никто никогда не читал. От этого кабинет казался скучным и казенным.
– Я не люблю споров, а особливо с женщиной. – Отец не сказал «с дамой», и Гавриил с болью понял, что он говорит о матери. – В спорах с женщиной истина умирает, запомни это и никогда ничего не пытайся доказать прекрасному полу. У них своя логика и свои аргументы, совершенно непостижимые для нас. Вот почему я устранился от вашего воспитания. Я стремился лишь образовать вас, полагая, что воспитание вам сумеют обеспечить если не по велению ума, то по зову сердца. Однако, встречаясь с тобой, Варварой и Василием, я с горечью убедился, что зараза сильнее лекарств. Да, да, сильнее! От вас прямо-таки разит кислыми щами, господа!
Поручик встал, сознательно с грохотом отбросив тяжелое кресло. Слова путались в голове, он не решался сказать того, что думает, а старик молчал, глядя на него с откровенным любопытством. Пауза затянулась, и, чтобы оборвать ее, Гавриил пошел к дверям, так ничего и не сказав.
– Я не отпускал тебя, – негромко сказал отец.
Гавриил медленно повернулся к нему:
– Та, от кого всю жизнь пахло кислыми щами, – моя мать и ваша жена. Она мертва, пусть хоть это заставит вас замолчать. А сейчас разрешите откланяться: я уезжаю сегодня в Смоленск и…
– Вторым классом, – вдруг перебил старик. – Вы едете вторым классом согласно чина и состояния, сударь. Полагаю, что билеты уже взяты.
– И все же я бы хотел…
– Что же касается твоей матери, то ты превратно понял меня. Я не обижал ее живой, не обижу и мертвой. Мертвой. – Он медленно, словно вслушиваясь, повторил это слово. – Если хочешь, буду молчать. Только вернись и сядь. Сядь, Гавриил. Прошу тебя… Мне… мне трудно почему-то. – Он растерянно улыбнулся и развел руками. – Я думал, что смогу… преодолеть смогу. И вот не получилось. Начал болтать, глупый старик. А тут ведь… – он пальцами осторожно потрогал грудь. – Тут ведь боль, сын. Такая боль…
– Батюшка! – Гавриил шагнул к отцу и, опустившись на колено, обнял его. – Простите меня, батюшка.
– Ну, ну. – Старик неуверенно и неумело погладил сына по голове. – Только не реветь. Не реветь, Гавриил, ты офицер. Оставим слезы слабым и помолчим. Помолчим.
Ни сын, ни тем более отец никогда не проявляли чувств, которые старик презрительно именовал кисейными. Но порыв был искренен, и они надолго замерли в неудобных и одинаково непривычных позах, и оба чувствовали и это неудобство, и эту непривычность. Чувствовали, но не шевелились, хотя порыв давно прошел и осталось одно неудобство, выйти из которого было трудно именно потому, что оба одинаково ощущали это.
– Сядь, – сказал наконец старик и покашлял, скрывая смущение. – У меня скверный характер, слава богу, что вы не унаследовали его.
Минута внезапной близости прошла; отец стеснялся ее, хотел забыть и потому снова возвращался к столь привычной интонации иронических сентенций. Гавриила эта минутная близость смущала тоже, но он дорожил ею как завоеванным плацдармом; надо было решиться: то, что уже было сделано без огласки, оставалось как бы сделанным не до конца.
– Я взял годичный отпуск, батюшка, – сказал он. – Пока. А затем подам в отставку.
Он ожидал бурной вспышки, вопросов, но отец молчал. Молча придвинул к себе ящичек с табаком, начал набивать трубку. Табак просыпался, но отец упорно напихивал его, изредка посасывая чубук. Набив, положил в сторону, побарабанил сухими пальцами по крышке ящика.
– Объясни, сделай милость.
– Вы сами дали это объяснение, когда упомянули, что от ваших детей разит кислыми щами. Нет, я не упрекаю: просто так получилось.
– Оставь, Гавриил, я не это имел в виду.
– Но они имеют в виду именно это! – резко сказал поручик. – Извините, но мне надоели шуточки господ гвардейских офицеров.
– Почему не ходатайствовал о переводе?
– Потому что вызвал гвардии подпоручика Тюрберта. А он отказался драться со мной именно в связи со щами.
Старик снова взял трубку, внимательно осмотрел ее и опять отложил. Встал и, заложив руки за прямую, как трость, спину, долго ходил по кабинету. Гавриил смотрел на эту несгибаемую, вызывающе высокомерную спину и жалел, что сказал о дуэли: уход из армии можно было бы объяснить, не вдаваясь в подробности. Но подробности стали известны, и, судя по напряженно выпрямленной спине, отец воспринял их как личное оскорбление.
– Пять веков Олексины служат отечеству мечом, – надменно сказал старик. – Во всех войнах, во всех походах и ни в одном из заговоров. Не чинов мы искали, но чести, и нас скорее уважали, чем любили. Никогда – слышишь? – никогда не ищи любви у сильных мира сего, но требуй уважения, завоеванного тобой. Требуй, но не проси, мы не просили милостей у государей. Ни милости, ни снисхождения, помни об этом.
– Да, батюшка.
– Собираешься за границу?
– Да. Уже выправил бумаги.
– За Василием в Америку?
– Нет. Воевать.
– Ах в Сербию! – Старик рассмеялся. – Мода на идеи? Ну-ну, проверь. Идею нужно проверить, в этом нет ничего дурного. Дурно следовать идее без проверки. Даже не дурно, а глупо. Тебе двадцать четыре минуло?
– Минуло, батюшка.
– Двадцать четыре – и еще не воевал? Непростительная оплошность для российского офицера. Ну что же, благословляю. Себя проверишь, идею свою проверишь. Только обид не забывай.
– Не забуду.
– И голову под турецкую пулю не подставь.
– Как повезет.
– Глупо. Офицер, принимающий в расчет везенье, – плохой офицер.
– Да ведь пуля-то дура, – улыбнулся Гавриил.
– Именно это я и имел в виду. Именно-с. Поди узнай, вернулся ли Игнат, да вели чай подать.
Поручик поклонился и вышел из кабинета. Вопрос, которого он боялся, разрешился проще, чем он предполагал. Конечно, можно было бы уехать без отцовского согласия, и это было бы куда как современно, но Гавриил не любил современности.
Игнат давно прибыл, но сразу же уехал опять – за багажом Гавриила. Поручик сказал, чтобы подавали чай, и вернулся в кабинет. И только сел, как дверь приотворилась и в комнату осторожно заглянул Игнат:
– Ваше благородие, Гаврила Иванович.
– Все сделал? – спросил отец, не поворачивая головы.
– Все исполнил, что приказать изволили. И билеты, и багаж.
– Чай?
– Сей момент: Петр самовар раздувает.
– Хорошо, ступай.
Седая голова Игната втянулась в дверную щель. Потом высунулась рука и таинственно поманила Гавриила.
– Извините, батюшка, – сказал поручик, вставая.
Старик важно кивнул: любил почтение и порядок. И снова окутался дымом сладковатого голландского табака.
Гавриил вышел, прикрыл дверь; в коридоре ждал Игнат.
– Братец ваш приехали. В буфетной ожидают-с.
– Кто? – Гавриил сразу подумал о Василии: американский беглец если бы и рискнул зайти к старику, то искал бы убежища только в лакейской половине. – Василий?
– Никак нет-с, Федор Иванович. Из Петербурга прямо. Без вещей и даже без шляпы. Прямо в чем стоят-с.
Все это старый камердинер докладывал уже на ходу, с трудом поспевая за шагавшим через две ступеньки поручиком.
– О маме знает?
– Не могу сказать. Я не докладывал.
В буфетной худой, заросший Федор жадно ел холодный бульон. Рядом презрительно грохотал посудой Петр, подчеркивая неуважение.
– Здравствуй, студент!
– Брат! – Федор вскочил, торопливо отер рукой редкую бородку, заулыбался. – Я сразу к тебе, хозяйка сказала, что ты в полку, а тут, на счастье, Игнат.
Он все-таки поцеловал Гавриила, хотя тот не любил этого и еще издали протягивал руку.
– Как славно получилось, что Игнат! – восторженно продолжал Федор, держа брата за руку и ласково сияя голубыми глазами. – Знаешь, я ночь не спал и сутки не ел ни крошечки, только кипяток пил на станциях. А как Игната увидел, так очень обрадовался.
– Что же ты Федору Ивановичу холодный бульон подал? – строго спросил Гавриил. – Дал бы жаркое или хотя бы бульон подогрел.
– Они чего-нибудь-с просили, – недовольно сказал Петр. – А чего-нибудь-с – это по-ихнему бульон называется.
– Да славно и так, Гавриил, славно, – еще шире заулыбался Федор, и поручик понял, что никакой телеграммы он не получал и о смерти матери не знает. – Мне ведь голод унять важно, а самое главное – поговорить. Я ведь ехал, чтоб поговорить.
– Ступай отсюда, – сказал Гавриил Петру, Петр раздражал его: он нарочно медленно перетирал посуду. – Ступай, говорю.
– А чай как же? – нахально улыбнулся Петр. – Батюшка ваш чаю велел.
– Ступай, ступай! – замахал руками Игнат. – Велено тебе, так исполняй, ишь какой! Я и посуду сам, и Федору Ивановичу закусочек.
– Не надо. – Федор торопливо допил холодный бульон. – Я сыт уже, благодарствую. Батюшка наверху? Где бы поговорить нам, брат?
– В малую гостиную идите, в малую, – заговорщически прошептал Игнат. – Я позову, коль востребует.
Он любил Федора, как, впрочем, и все: Федор был удивительно добр, мягок и ласков. Он был словно влюблен во всех людей, знакомых и незнакомых, радовался им, слушался их и верил безоглядно. Эта вера пугала Гавриила: у Федора с детства словно не было своих личных желаний. То он намеревался стать офицером, с энтузиазмом занимался верховой ездой, стрельбой и фехтованием, мечтая о военном училище, славе и подвигах. То вдруг, прожив месяц в Высоком с Василием, не только изменил первоначальным намерениям, но и решительно отказался от всякой родительской помощи, торжественно заявив, что каждый человек обязан сам зарабатывать себе на жизнь и ученье. С этой благородной идеей он поехал в Петербург, бегал по урокам, жил впроголодь, но жизнью был доволен и писал восторженные письма Варе. И – опять вдруг! – бросил все уроки и приехал в Москву без вещей, без денег и даже без шапки.
Братья прошли в малую гостиную и сели друг против друга. Гавриил думал, как бы помягче сказать о смерти матери, а Федор, улыбаясь, нервно потирал пальцы, не решаясь начать.
– Ты от Вари не получал известия? – спросил Гавриил больше для начала, чем в ожидании ответа.
– Нет, – рассеянно, думая о своем, сказал Федор. – Видишь ли, Гавриил, я вынужден был уехать вот так, как сижу перед тобой: денег еле на билет хватило, а шляпу кондуктору за хлеб отдал. Он, правда, брать не хотел, сердился даже, но я все-таки отдал, потому что нищенствовать не могу. Вася бы сказал – «не поднялся до нищенствования», правда? Но что же делать, у меня еще много пороков, я знаю. А уехал я так срочно потому… Только обещай, что не будешь сердиться, а? Я бы не хотел расстраивать тебя, но надо же говорить сущую правду, иначе жить невозможно. Ты знаешь, как рабочие живут? В казармах на нарах, даже семейные. Вши, голод, грязь ужасная. Я видел все это, я сам с ними три дня прожил, чтобы понять, что невозможно так жить, невозможно!
– Просвещал? – насмешливо спросил Гавриил.
– Нет, что ты, какое там. Евангелие читал, только одно святое Евангелие. Объяснял, правда, что Бог не таким мир земной видел. Да, труд, тяжкий труд, но – равный. Каждый равно обязан трудом, понимаешь? Это же действительно проклятие Господне, это же действительно во спасение наше! Но ведь если люди равны перед этим проклятием, то должно же быть равенство во всем, потому Бог не делал различия между людьми, проклятие это налагая. Тогда почему же одним – проклятие, а другим – плоды этого проклятия? Разве это справедливо? И не надо улыбаться, Гавриил, не надо: каждый человек имеет право веровать, каждый!
– Не побили?
– Побили. Но это не важно. Важно, что следить начали. Ходил за мной круглолицый господин в котелке, я его сразу приметил, но виду не подавал. Зачем же мне пугаться, что он ходит? Пускай себе ходит, я ничего дурного не делаю, пусть убедится, что не делаю. Я Евангелие неграмотным, темным людям читаю: разве ж это преступление? А третьего дня возвращаюсь с фабрики и у ворот встречаю дочку соседскую Глашеньку: у вас, говорит, Федор Иванович, обыск был, перерыли все, вещи все перетрясли и бумаги ваши арестовали. А там среди бумаг…
– Герцен.
– Да, «Колокол», один номер. И две брошюры на немецком, я у товарища почитать взял.
– Что же дальше, господин пропагатор?
– Вот, брат, ты уж сердишься. Не надо, а?
– Я спрашиваю, что было дальше?
– Я к товарищу побежал. Не тотчас, конечно, потому что позади господин этот. Но повезло, что ли: конка последняя шла, на ходу вскочил да на ходу же и выскочил. Господин этот мимо меня и пробежал. Пришел к товарищу, а он, оказывается, уже арестован. Вот тогда я – на вокзал и… Как стоял, так и приехал.
– Что же думаешь делать?
– Я у тебя денег хочу попросить. В долг. Уехать хочу.
– К Василию?
– Я еще не решил. Мне все равно, лишь бы маменьку не волновать.
– Маменьку. – Гавриил вздохнул. – Мама скончалась, Федя.
Узкое, неряшливо заросшее лицо Федора дрогнуло, замерло на мгновение и тут же осветилось мягкой белозубой улыбкой.
– Нехорошо, брат! Шутишь ты…
Гавриил молча протянул телеграмму. Федор читал долго, чуть шевеля губами, и чем дальше читал, тем все ниже сгибалась, сутулилась его узкая неокрепшая спина. Он уронил на колени руки с телеграммой, поднял лицо: по мягкой юношеской бороде текли слезы.
– Как же так?
– Вот… – Гавриил почувствовал, как поднимаются и в его груди слезы, как захватывают они его все выше и выше, сжимая горло, и торопливо закурил. – Осиротели мы, Федя. Одна мама умерла, а осиротели все десять. Даже одиннадцать…
Выехали втроем; отец ни о чем не спрашивал и появление Федора встретил как само собой разумеющееся. И больше не разговаривал, словно выговорился, устал и говорил теперь молча то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым. Шевелил изредка губами, несогласно вздергивая седой головой. Братья тоже молчали. Они ехали во втором классе, сидели рядом и думали об одном. О матери.
А поезд тащился медленно, подолгу отдуваясь на станциях. Выходили в буфет, пили невкусный чай, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами.
С каждым часом приближался Смоленск, а значит, и последнее свидание с той, которую так по-разному любили все трое. И свидание это пугало, отнимая последнее желание говорить, спать или пить в буфете чай.
С каждым часом приближался Смоленск…