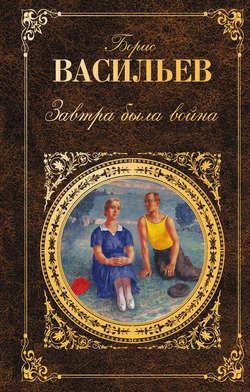Читать книгу Завтра была война (сборник) - Борис Васильев - Страница 10
Суд да дело
Второй народный заседатель
ОглавлениеЕдинственными людьми, кто не торопился покинуть здание народного суда в тот день, были судья Ирина Андреевна и народный заседатель Юрий Иванович Конопатов. Ирине до отчаяния не хотелось возвращаться в пустую квартиру, где все еще витал запах сигарет, где в передней стояли мужские лыжи, а в ванной лежал забытый крем для бритья. И поэтому она неторопливо возилась в совещательной комнате, где они обычно оставляли свои вещи, то с женской дотошностью принимаясь перебирать содержимое сумочки, то листая сделанные во время заседания записи, то чем-то себя занимая, а сама уголком глаза косилась на Юрия Ивановича, втайне удивляясь, почему он-то никуда не спешит.
Народный заседатель с неблагозвучной фамилией – немолодой и некрасивый – не спешил домой вовсе не из-за веявшего от судьи женского обаяния. Хлебнувший в жизни соленого до слез, заседатель был приучен к нелегкому хлебу и далеко не развеселой жизни, но не жаловался даже себе самому в тихие минуты отчаяния. Только перестал торопиться домой, как торопился еще недавно.
Еще полгода назад они мирно жили в заводской двухкомнатной квартире: жена, дочь-десятиклассница и он, Юрий Иванович Конопатов, мастер участка термической обработки. Была налаженная жизнь, тапки и телевизор, ужины и завтраки, трудности по хозяйству и обычные размолвки с женой. И война дочери за личную свободу: за джинсы и сапоги, прозрачные блузки и глубокие разрезы на юбках, за право слушать современную музыку непременно при современной громкости, ходить в дискотеку и красить ногти, губы и ресницы хотя бы по воскресеньям. Он понимал, что аналогичные войны ведут все дочери, относился к этому, в общем, добродушно, зная, что победителем не будет, и постепенно сдавая позиции. И все вдруг сломалось.
У жены была мать (его, следовательно, теща), которой он никогда не видел: она всю жизнь прожила с младшим сыном, помогая нянчить двоих детей. Регулярно переписывались, жена ездила в гости, обменивались поздравлениями, открытками, посылками. А потом брат прислал письмо: «Хватит, мы содержали ее всю жизнь…» Жена тут же собралась, поехала и привезла тещу. Выяснилось, что у тещи отнялись ноги, но это было еще ничего, а месяца через полтора с ней что-то приключилось, и недвижимо лежащая в кровати старуха приобрела вдруг хрипатый мужской голос и неодолимую потребность петь жизнерадостные песни.
Теперь их семья жила в одной комнате: он с женой и взрослая дочь, которой надо было готовить уроки, слушать музыку, болтать с подругами, мечтать о мальчиках, нарядах и счастье. А жена не могла бросить работу, потому что одной его зарплаты никак не хватало на четверых, теща целыми днями лежала одна, и в квартире хрипло звучали слова набивших оскомину песен. Дочь приходила только ночевать, появляясь дома все позже и позже; где она делала уроки, он не знал: дочь уверяла, что у подруги, жена трижды находила у нее сигареты, а он как-то вечером отчетливо уловил коньячный аромат.
– Дочка? – от растерянности он заговорил шепотом. – Ты что это, дочка?
– А что такое? – с вызовом спросила она и так шевельнула туго обтянутым джинсами бедром, что у него потемнело в глазах. – Подумаешь!
А из-за плотно прикрытых дверей комнаты, которая некогда принадлежала дочери, неслось на весь пятиэтажный панельный дом:
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка…
Да, Юрий Иванович не торопился домой. Понимал, что поступает скверно, несправедливо, эгоистично, что надо хотя бы своим присутствием поддержать совершенно измотавшуюся жену, но не мог. И мечтал не о другом доме, не о другой женщине, не о другом тепле – мечтал передохнуть. Хоть два, от силы – три часа. И поэтому неожиданно сказал и испугался:
– Вы очень спешите, Ирина Андреевна? Может…
Он подавленно и очень виновато замолчал, и эта виноватость теплой волной омыла обожженное сердце Ирины. Она тоже не рискнула поднять глаз, но сказала с привычным женским уменьем направлять идеи в знакомые русла:
– Что ж, я с удовольствием.
В кафе предложили столик на двоих, никто не мешал, но им все равно было неуютно. Односложно спрашивали, односложно отвечали, нехотя потягивали кислый рислинг в ожидании ромштексов и, кажется, мечтали разбежаться. Юрий Иванович сделался еще угрюмее, на Ирину вдруг нахлынули ностальгические воспоминания; разговор не вязался, и вечер явно рисковал оказаться испорченным.
– Знаете, я человек малоинтересный, – через силу, точно преодолевая чудовищно возросшую за время молчания инерцию, сказал Конопатов. – Обхождению не обучен, вырос в детдоме. Сироты все угрюмы.
– Ну, это не правило.
– Правило. – Юрий Иванович упрямо мотнул заметно поседевшей головой. – Вот если, к примеру, две параллельные линии проложить: своей жизни и… ну, дочки, чтоб яснее, и сравнить, какое соответствие. Вот мне – десять, и ей – десять, мне пятнадцать, и ей…
– Неправомерное сравнение, – по-судейски безапелляционно перебила Ирина. – Вы, мужчина, сравниваете свое становление, развитие со становлением девочки, а это абсолютно недопустимая параллель. Это два параллельно существующих, но непараллельно развивающихся мира, Юрий Иванович, поверьте женщине.
– Допускаю, – подумав, согласился он. – Что ж, возьмем двух мужчин. Возьмем обвиняемого Скулова и его жертву – Вешнева, Эдика этого… Хотя нет, не надо их сравнивать, суд еще не кончился.
– А я сравню не обвиняемого и жертву, а инвалида войны с… с одним человеком. – Ирина нахмурилась и решительно тряхнула тяжелыми кольцами чуть подвитых волос. – Параллель: Скулов – Икс. Десяти лет от роду беспризорник Скулов погибает от голода в Сумах – десяти лет Икс учится в английской и музыкальной школах одновременно. Пятнадцать лет: Скулов работает на заводе и учится в вечерней школе – Икс получает от папы магнитофон за второе место на школьном конкурсе пианистов. Восемнадцать: Скулов, экстерном сдав за семилетку, поступает в пехотное училище – Икс с блеском выдерживает конкурсные экзамены в университет. Двадцать: Скулов женится на зоотехнике Нинель Павловне – Икс обманывает девчонок, считаясь только с собственными желаниями. Двадцать три: Скулов второй раз тяжело ранен – Икс заканчивает университет и остается в аспирантуре. Двадцать пять: Скулов в бою теряет ногу – Икс досрочно защищает диссертацию. Тридцать: Скулов переезжает в наш город вместе с Анной Ефремовой – Икс женится на своей студентке Ларисе. Тридцать пять: Скулов работает в гараже – Икс бросает Ларису ради… скажем Елены. Тридцать восемь: Скулов проходит в суде по обвинению в служебном разгильдяйстве – Икс бросает Елену ради студентки Наташи. Это сопоставимо по всем параметрам, а судьбы настолько различны, будто линии их тянутся из разных миров.
– Трудностей бы им, – сказал Юрий Иванович. – Уж больно гладенько все, уж больно дорожки мы перед ними вылизываем. А если когда и заговорим о закалке, так уж непременно о закалке тела, а не души, обратили внимание? А ведь душу-то закалять не только важнее, но и труднее, а где вы о закалке души слыхали? Я, к примеру, нигде не слыхал, будто и нету ее у нас, души, значит. Одно тело осталось, а душу искоренили: так оно получается? Потому и закалка – только для тела, и удовольствия – для тела, и всякие там игрища, соревнования, состязания – все для него, для тела нашего, для мускульной радости да утоления всяких потребностей. И так в этом разрезе мы поусердствовали, что душа давно уж в тени у нас, давно на второй план отошла, на задворки жизни, что ли. И что же мы получили, кроме того, что штангу высоко поднимаем да шайбы в хоккее заколачиваем? А то, что лезет парень цветочек сорвать, руку наколол – и ну матом крыть во всю ивановскую! И это при девушке, которой цветочек преподнести собирался.
Угрюмый молчун Юрий Иванович неожиданно разговорился, и неизвестно, куда направился бы разговор, да ромштексы принесли не вовремя. Он начал есть их («Голодный», – подумала Ирина), беседа оборвалась, а ей уже хотелось его слушать. Он не пытался шутить, не сбивался на комплименты, не болтал ради болтовни – он говорил то, что его беспокоило, над чем он размышлял, из-за чего тревожился. А тут из-за этих пережаренных, жестких, как тротуар, ромштексов замолчал. И это огорчило ее.
– Закаливание душ человеческих? – Ирина вновь пыталась поджечь разговор, но не очень ясно представляла, на что собеседник может отозваться очередной вспышкой искренности. – Суды завалены делами о мелких кражах, мелком хулиганстве, мелком мошенничестве – можно подумать, что люди утратили элементарную поведенческую волю. Они разучились управлять своими желаниями, своими эмоциями, своими поступками, будто, приобретя возраст и образование, так и остались с понятиями о детских шалостях. Круг дозволенности начал терять точные границы, он размывается, и каждый вот-вот примется устанавливать его сам для себя.
– Принялся уже, – буркнул Юрий Иванович, старательно двигая челюстями. – Раньше дети баловались, озоровали, а теперь нет этого. Теперь они нас, старших, на вседозволенность проверяют. И так, и сяк, и этак. Не силу в себе пробуют, а слабинку в нас ищут, вот ведь как все перевернулось, Ирина Андреевна.
На этом, по сути, и закончился тогда их разговор. Народный заседатель проводил до подъезда народного судью, кивнул на прощанье и пешком побрел домой, хотя путь был неблизким. Но он не торопился, вспоминая завывающий от восторга голос тещи. Теща являла День Вчерашний, а дочь – День Завтрашний: стремительный, резкий, своенравный, лохматый, в потертых джинсах и блузках без лифчиков. Эти дни, наглядно сосредоточенные в одной квартире, были несочетаемы. Дочь требовала доказательств, а не выводов, теорем, а не аксиом, самой истины, а не ее истолкования. Он не пытался примирить эти полярности, ясно представляя всю безнадежность и бессмысленность подобной акции, но очень боялся за дочь и понимал, как ей тяжело сейчас… Нет, нет, хватит об этом, хватит. Надо о деле. Главное – Скулов. Вот о чем и…
– Оставить жену с двумя малолетними детьми! – прозвучал в памяти голос Егоркиной. – Бабник, по роже видно. Сладострастный тип. Вы «Семнадцать мгновений» смотрели по телевизору? Сколько лет Штирлиц у фашистов провел, а? А ведь не завел себе любовницу, жене законной верность хранил. Знаете, в том месте, где ему жену издалека показывают, я всегда реву. А Скулов этот? Года потерпеть не мог. И это при двух-то детях, Юрий Иванович!
При двух, да. Нехорошо. У него вон один ребенок, и то из рук выкатывается, как колобок. Опасный возраст? Самообман это, дело совершенно в ином. Что-то упустил он, как отец, что-то недоглядел, недопонял. А вместе – просчет воспитания. Ведь воспитание – это воздействие… Воздействие. А что это такое? А это значит одно: пример действием. Не словами, не заклинаниями – действием. Поступками, так скажем.
Юрий Иванович остановился, потоптался, даже свернул в переулок, хотя надо было идти прямо. Свернул, чтобы путь продлить, чтобы додумать очень простую истину, которую открыл для себя вдруг, потому что никогда не случалось ему думать об этом: воспитывают твои действия, которые все время наблюдает ребенок. И чем естественнее эти действия, тем большее влияние они способны оказать на твоего детеныша, потому что малыши инстинктивно и абсолютно безошибочно отличают искренность от неискренности, истину – от лжи. Значит, если твое естественное поведение нравственно – один пример, безнравственно – другой, только и всего. И не надо никого специально воспитывать – надо просто быть самому естественно нравственным человеком. Естественно не для кого-то, не показно, не понарошку; ах, как же все просто, как просто!
Юрий Иванович еще куда-то свернул, чтобы удлинить путь, чтобы додумать, успеть понять, хотя, казалось бы, что тут понимать, и так все ясно. Но он старался быть предельно честным и сейчас, неторопливо шагая по темному переулку, внимательно разглядывал свое собственное обычное поведение, изучал то, что дочь изучала всю жизнь, еще лежа в кроватке и не умея сказать «папа».
Значит, приходил он с работы, тапочки надевал, шел руки мыть. А всегда ли вовремя приходил? Нет, не всегда: то в цеху задержат, то к начальству вызовут, то с ребятами. Замечала это дочка? Ну, а как же? Собака и та точно знает, когда хозяин должен вернуться. Значит, сперва чувствовала, потом замечала, фиксировала его объяснения, а он никогда толком не объяснял, почему опоздал. А отсюда – пример, а из примера – вывод: допустимо быть неточной. Так, для начала неплохо, дальше пойдем. А дальше, скажем, такой факт. Застолье, гости. И он жене – рюмочку. Да с уговорами: «Выпей, подумаешь, делов-то…» А спор: отправлять старуху в дом престарелых или не отправлять, и он настаивал: «От правлять» – и к доченьке адресовался за поддержкой, и доченька поддерживала, а жена плакала и причитала: «Не могу, мать она мне. Не могу, мать она мне…» Вот так из кусочков, из осколочков и складывается картина, а потом ищем, кто виноват, чье там тлетворное влияние… Ладно, ему еще с дочкой повезло, сильно повезло: толково учится, больше об институте мечтает, чем о тряпках, домой вовремя приходит… Приходила. Сейчас что-то задерживаться все чаще начала: у подруги, говорит, занимается, а телефона там нет. Ну, это понятно: не очень-то дома за уроками посидишь при таком звуковом оформлении, а у нее – десятый класс, экзамены, нагрузка: одних книжек с полтонны прочесть велели. Нет-нет, у него еще слава богу, как говорится. И даже сигареты, что мать нашла, то не дочкины оказались, а подружки, а что он как-то коньячок уловил, так дочь только вначале взъерошилась, а потом объяснила, что у родителей подружки было семейное торжество, и ей пришлось выпить глоток. Нет, повезло с дочкой, повезло, не то что некоторым.
Как ни старался Юрий Иванович идти медленно, а до дома все же дошел. Поднялся на этаж – дом пятиэтажный, типовой, без лифта, – открыл своим ключом дверь. И сразу услышал, как горько и беспомощно плачет на кухне жена.
– Что случилось? – крикнул. – Что? С дочкой?..
– Не кричи, не надо. Просто… Не ночует она дома ни завтра, ни послезавтра.
– Как – не ночует? У подруги опять?
– Сказала так. У той, где телефона нет. Мол, родители той подруги на три дня уехали и просили ее поночевать.
– Это дочь так говорит?
– Мужчина еще звонил. Сказал, что он – папа этой подруги и что просит отпустить нашу к ней на три дня.
Юрий Иванович с облегчением улыбнулся, ласково погладил жену по голове. Как маленькую.
– Ну, и чего ревешь? Поночуют две девчонки, посекретничают. У подруги ведь, не где-нибудь.
– У подруги? – Жена глянула странными, ушедшими в себя глазами. – Эта подруга только что была у нас. Никто у нее никуда не уезжает, и отец ее ни разу нам не звонил. И вообще доченька наша уже десять дней как в школу не ходит, поэтому подруга и прибежала.
Он молча, без сил и без дум опустился на жалобно скрипнувший табурет.