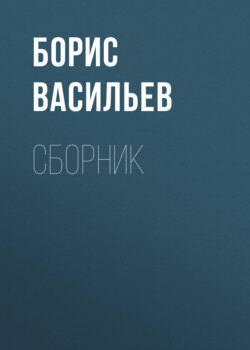Читать книгу Б. Л. Васильев. Сборник - Борис Васильев - Страница 9
А зори здесь тихие…
9
ОглавлениеЖдали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце… Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.
А может, не так все выходило? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уже высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?
Но не страх – ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся…
– Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь…
Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнился и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог: погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.
Женька знала, куда и зачем они спешат. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело пока и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад…
Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.
– Отдышись, – еле слышно сказал Федот Евграфыч. – Тут они где-то. Близко где-то.
Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, а сердце от этого никак не желало успокаиваться.
– Вот они, – шепнул старшина.
Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.
– Мимо пройдут, – не оглядываясь, продолжал Васков. – Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтобы на тебя они оглянулись. И обратно замри. Поняла ли?
– Поняла, – сказала Женька.
– Значит, как крикну. Не раньше.
Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк: наперерез.
Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело – на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб – как в воду…
Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.
И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, кружевных еще листах. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов опасался, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож – только так сейчас дело решалось, только так.
Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.
Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено – тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть ни охнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.
Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.
Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще только поворачиваться начал. Но то ли у Васкова сил на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он все же, а только не достал этого фрица ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.
Глупо получилось: вместо боя – драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней да березок, но немец покуда помалкивал: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.
И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоялся, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу острым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец – даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.
И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.
Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.
– Молодец, Комелькова… – в три приема сказал старшина. – Благодарность тебе… объявляю…
Хотел встать и не смог. Только на того, первого, оглянулся: здоров был фриц, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже и не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.
– Ну вот, Женя, – тихо сказал Васков. – На двоих, значит, меньше их стало.
Женька вдруг отбросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала. Маму, что ли…
Старшина поднялся. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой очерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжко и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал.
И нашел то, что искал: в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав, – кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня… Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь ее перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.
– Уйдите…
А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.
– Вставай, Женя.
Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.
– Брось, – сказал он. – Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже – фашисты. Вот и гляди соответственно.
Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, рожки запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток невелик, а ей все легче. Меньше напоминаний.
Прятать убитых Васков не стал: все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.
У первого же бочажка (благо тут их – что конопушек у рыжей девчонки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:
– Может, ополоснешься?
Помотала головой; нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь… Вздохнул старшина:
– Наших сама найдешь или проводить?
– Найду.
– Ступай. И – к Соне приходите. Туда, значит… Может, боишься одна-то?
– Нет.
– С опаской все же иди. Понимать должна.
– Понимаю.
– Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.
Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки…
Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре – не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платьишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мокрых век кровь и накрыл тем же платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый – рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.
Ярость его прошла, да и боль приутихла: только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.
Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось держаться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они противника с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера – сутки топать.
Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло – в разные, правда, концы, – а барахлишко их осталось, и отряд уже обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:
– Без истерик тут!..
И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.
– Ну, обряжайте, – сказал старшина.
Взял топор (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался – скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Нарубил веток, устелил дно, вернулся.
– Отличница была, – сказала Осянина. – Круглая отличница – и в школе и в университете.
– Да, – покивал старшина. – Стихи читала.
А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла Соня детишек нарожать, а те бы – внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом…
– Берите, – сказал.
Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак – за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную им чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.
– Стойте, – сказал он у ямы. – Кладите тут покуда.
Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:
– За ноги ее подержи.
– Зачем?
– Держи, раз велят! Да не здесь – за коленки!..
И сапог с ноги Сониной сдернул.
– Зачем?.. – крикнула Осянина. – Не смейте!..
– А затем, что боец босой, вот зачем.
– Нет, нет, нет!.. – затряслась Четвертак.
– Не в цацки же играем, девоньки, – вздохнул старшина. – О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.
Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.
– Обувайся. И без переживаний давай, немцы ждать не будут.
Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив, а Комелькова – веточку зеленую.
– На карте отметим, – сказал. – После войны – памятник ей.
Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.
– Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?
Затряслась Четвертак:
– Нет!.. Нет!.. Нет, нет, нельзя так! Вредно! У меня мама – медицинский работник…
– Хватит врать! – крикнула вдруг Осянина. – Хватит! Нет у тебя мамы! И не было. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!..
Заплакала Галя. Горько, обиженно – словно игрушку у ребенка сломали…