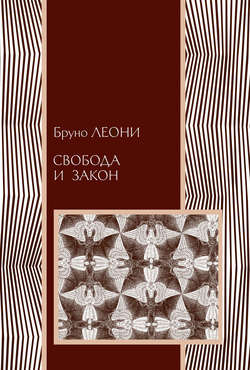Читать книгу Свобода и закон - Бруно Леони - Страница 6
Свобода и закон
Глава 2. «Свобода» и «принуждение»
ОглавлениеБолее тщательный подход к определению «свободы», чем отвергнутый нами реалистический, будет связан с предварительным анализом природы и цели такого определения. Обычно различают «условные» и «лексикографические» определения. Оба типа определений описывают значение слова, но первый относится к значению, которое использует для данного слова автор определения, а второй относится к тому значению, в котором это слово употребляют обычные люди.
После Второй мировой войны появилась новая школа философии языка. Она признает существование языков, чья цель является не только дескриптивной или даже не является дескриптивной, языков, которые так называемый Венский кружок осудил за неправильность и бесполезность. Сторонники нового движения признают также недескриптивные (иногда их называют «персуазивные» или «аргументативные») языки. Цель персуазивных определений – не в том, чтобы описать вещи, а в том, чтобы придать обычным значениям слов позитивные коннотации и побудить людей усвоить определенные мнения или определенные формы поведения. Очевидно, что некоторые определения «свободы» могли быть изобретены – и так часто происходило в реальности – с целью побудить людей, например, выполнять приказы некоего вождя. Ученый не должен заниматься формулировкой персуазивных определений. В то же время он имеет право давать условные определения «свободы». Поступая так, исследователь может одновременно избежать упрека в использовании нечетких определений с целью ввести кого-либо в заблуждение и избавить себя от необходимости разрабатывать лексикографическое определение; трудности последней задачи очевидны, если вспомнить о множестве уже упоминавшихся значений слова «свобода».
На первый взгляд, решением проблемы могут быть условные определения. То, что мы оговариваем, зависит только от нас или, в крайнем случае, от партнера, с которым мы договариваемся о том, что мы хотим определить. Когда лингвисты говорят об условных определениях, они подчеркивают их произвольный характер. Одним из доказательств этого служит энтузиазм, с которым сторонники условных определений ссылаются на авторитет человека, который не является или по крайней мере не считается философом. Этот авторитетный джентльмен – Льюис Кэрролл, великолепный автор «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье», описывающий невозможных и безумно изощренных персонажей, с которыми Алиса встречается во время своих странствий. У одного из них, Шалтая-Болтая, слова означали то, что ему хотелось, и за это он даже выплачивал им жалованье.
– Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, – сказал Шалтай презрительно.
– Вопрос в том, подчинится ли оно вам, – сказала Алиса.
– Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, – сказал Шалтай-Болтай. – Вот в чем вопрос![15]
Когда аналитические философы говорят об условных определениях, они имеют в виду в основном логические и математические определения, то есть области, где каждый может начать с того места, где ему угодно, при условии, что он точно определяет термины, которые использует в своих рассуждениях. Не останавливаясь на сложных вопросах, связанных с содержанием логических и математических процедур, мы считаем себя обязанными предостеречь читателя от опасности, которая возникает, если не различать математические доказательства и рассуждения людей о «свободе» и подобных ей предметах. Разумеется, треугольник – это понятие, вне зависимости от того, является ли это понятие чем-нибудь еще, например, объектом опыта, интуитивным представлением и т. п. «Свобода» – это тоже понятие, но для многих людей это еще и смысл их жизни, то, за что, как они говорят, они готовы сражаться, то, без чего, как они говорят, они не могут жить. Я не думаю, что люди готовы сражаться за треугольники. Может, какие-нибудь математики. Но многие люди говорят, что они готовы сражаться за свободу – так же, как они готовы сражаться за свою землю и за жизнь своих близких.
Это не панегирик в честь свободы. То, о чем я упомянул, легко проверить; это подтверждает история многих стран; это легко наблюдать в обыденной жизни. То, что люди готовы сражаться за то, что они называют своей «свободой», связано с тем, что они говорят, что они «сохранили», «потеряли» или «обрели вновь» свою «свободу», хотя они никогда не говорят, что они «сохранили», «потеряли» или «обрели вновь» треугольники или какие-нибудь другие геометрические понятия. С другой стороны, на свободу нельзя просто указать; она не является материальным предметом. Даже если рассматривать «свободу» как материальный предмет, она не может быть одной для всех, потому что существуют разные значения «свободы». Несмотря на это, мы, вероятно, можем сказать, что, по крайней мере, для каждого человека, который о ней говорит, «свобода» – это реальность, это определенная вещь. «Свобода» может быть ситуацией, которая отвечает требованиям тех, кто ее превозносит; она может быть объектом нечувственного опыта, связанного с осознанием нематериальных вещей, ценностей, веры и т. д. Вероятно, «свобода» – объект психологического опыта. Это означает, что обычные люди не считают ее просто словом, номинальной единицей, о значении которой достаточно договориться посредством условного определения, как в математике и логике.
В таких обстоятельствах я не уверен, можно ли дать условное определение свободы. Конечно, любое определение в какой-то степени является условным, поскольку оно подразумевает некоторого рода соглашение о том, как должно использоваться данное слово. Даже лексикографические определения не исключают условных элементов; например, когда описывается, что́ люди обозначают каким-то словом из нейтральной лексики во Франции или в Англии, или в обеих странах, или во всем мире. Например, можно оговорить в условиях то, какие языки будут учитываться при формулировке лексикографического определения, или то, как будет делаться выбор из разных значений одного и того же слова, которые даются в словарях. Однако во всех этих случаях мы всегда помним, что существует зафиксированное в общих словарях словоупотребление, которое мы не можем изменить посредством специально оговариваемых условий, не проигнорировав те значения слов, в которых их действительно употребляют другие люди.
Специально оговариваемые условия – это просто инструменты, которые мы используем, чтобы передать другим нечто, что мы хотим им сообщить. Иными словами, это средство коммуникации и передачи информации; но саму информацию нельзя оговорить. Можно оговорить, что мы будем называть черное «белым», а белое «черным», но мы не можем оговорить конкретный сенсорный опыт, который мы передаем и которому мы произвольно даем имя «белого» или «черного». Оговорить условие возможно и даже полезно тогда, когда существует какой-то общий фактор, который и обеспечивает успешную коммуникацию. Таким общим фактором может быть непосредственное познание в математике или сенсорный опыт в физике, но сам этот фактор никогда не оговаривается. Во всех случаях, когда кажется, что оговоренное условие основано на другом оговоренном условии, это просто означает, что задача выявления общего фактора, который обеспечивает функционирование коммуникации, отложена; ее нельзя игнорировать. Будь Шалтай-Болтай не персонажем детской сказки, а реальным человеком, оговаривающим с другими людьми условия использования конкретного слова, здесь находился бы предел его власти.
Таким образом, давать условное определение «свободы», которое не передавало бы другим людям некую информацию, уже содержащуюся в значении этого слова, как его понимают люди, было бы практически бесполезно; и если бы, рассуждая об условных определениях, теоретики принимали бы во внимание такие вещи, как «свобода», то такое определение можно было бы подвергнуть сомнению.
Значит, чтобы условное определение «свободы» имело смысл, оно должно передавать какую-то информацию. Сомнительно, чтобы какая-либо информация, известная только автору определения, представляла интерес для людей, которые не имеют отношения к содержанию этой информации. Информация совершенно личного характера вряд ли заинтересовала бы других. Действительно, ведь было бы невозможно сообщить ее другим людям. Исключительно условное определение «свободы» не смогло бы избежать этого недостатка. Во всех тех случаях, когда политические философы предлагали условные определения «свободы», они хотели не только передать информацию о своих личных чувствах и убеждениях, но и напомнить другим людям о тех чувствах и убеждениях, которые, по их мнению, были общими для их аудитории. В этом смысле условные определения «свободы», которые время от времени предлагаются политическими философами, тоже в той или иной степени имеют отношение к обычному употреблению слова «свобода» и, следовательно, к его лексикографическому анализу.
Таким образом, в конечном счете действительно полезным определением свободы должно быть лексикографическое определение – вне зависимости от того, что с этим будут связаны трудности лексикографического анализа.
Итак, «свобода» – это слово, которое люди используют в обычном языке для обозначения психологического опыта особого типа. Этот опыт бывает разным в разное время и в разных местах; он связан с абстрактными понятиями и терминами, но его нельзя приравнять к абстрактному понятию или редуцировать до обычного слова. Наконец, вполне возможно и, вероятно, полезно или даже необходимо сформулировать условное определение «свободы»; но им нельзя ограничиться, потому что только лексикографические разыскания могут выявить те значения, которые люди действительно приписывают этому слову в обиходе.
«Свобода», между прочим, это слово с положительными коннотациями. Может быть, полезно добавить, что «свобода» стала «сладким словом» потому, что люди используют его для указания на свою позитивную установку по отношению к тому, что они называют «быть свободными». Как заметил Морис Крэнстон в своей процитированной выше книге «Свобода» (Freedom; London, 1953), люди никогда не говорят «я свободен», имея в виду, что у них нет чего-то, что они считают хорошим для себя. Никто, во всяком случае в повседневной жизни, не говорит «я свободен от денег» или «я свободен от здоровья». Чтобы выразить свое отношение к отсутствию чего-то хорошего, люди используют другие слова: они говорят, что испытывают нужду в чем-то, и, насколько я знаю, так обстоит дело во всех живых и мертвых европейских языках. Иными словами, быть «свободным» от чего-то означает «быть без чего-то, что не является хорошим для нас», тогда как, с другой стороны, нуждаться в чем-то означает «быть без чего-то хорошего».
Конечно, свобода означает не очень много, когда к ней добавлено только «от чего-то», и мы также ожидаем от людей, чтобы они сказали нам, что́ они могут делать свободно. Однако кажется несомненным присутствие негативной импликации в слове «свобода» и некоторых родственных словах, например, «свободный». Эта негативная импликация также присутствует в словах, родственных термину liberty, который представляет собой латинское соответствие «свободы-freedom» и не является словом с другим значением[16]. Например, «либерал» – это слово, с которым и в Европе, и в Америке связано негативное отношение к «принуждению», вне зависимости от свойств «принуждения», которое, в свою очередь, совершенно по-разному воспринимается американскими и европейскими «либералами».
Таким образом, в обычном языке «свобода» и «принуждение» выступают как противоположные термины. Конечно, людям может нравиться «принуждение» или некоторые его виды, как нравилось оно офицерам русской армии, про которых Толстой сказал, что они ценили в военной жизни ее «обязательную и безупречную праздность»[17]. Гораздо больше людей в мире любят «принуждение», чем мы это себе представляем. Аристотель сделал глубокое замечание, когда он сказал в начале своего трактата о политике, что люди делятся на две категории: на тех, кто рожден для власти, и на тех, кто рожден, чтобы повиноваться властителям. Но даже если людям нравится принуждение, с точки зрения словоупотребления, было бы неправильно сказать, что «принуждение» – это свобода. Несмотря на это, мысль о том, что «принуждение» иногда очень тесно связано со свободой, как минимум, столь же стара, как история западных политических теорий.
Я полагаю, что главная причина этого в том, что ни о ком нельзя сказать, что он «свободен от» других людей, если другие люди «свободны» каким-либо образом принудить его. Иными словами, каждый человек «свободен», если он может каким-либо способом принудить других людей не принуждать его к чему-либо. В этом смысле «свобода» и «принуждение» неизбежно связаны друг с другом, и, когда люди говорят о свободе, об этом, возможно, слишком часто забывают. Однако сама по себе «свобода» в обычном языке никогда не бывает принуждением, и то принуждение, которое неразрывно связано со свободой, это исключительно негативное принуждение, то есть принуждение, единственная цель которого состоит в том, чтобы другие люди, в свою очередь, отказались от принуждения. Все это не просто игра слов. Это очень краткое описание значения слов в обычном языке политических обществ во всех тех случаях, когда у индивидов есть какая-либо внушающая уважение власть, или, как можно было бы сказать, во всех тех случаях, когда у них есть власть негативного порядка, дающая им право называться «свободными».
В этом смысле можно сказать, что «свободный рынок» также неизбежно подразумевает идею «принуждения» в том смысле, что все участники рынка обладают властью применять ограничения против других людей, например, против грабителей и воров. И это не комбинация «свободного рынка» и какой-то дополнительной власти, осуществляющей принуждение. Основой свободного рынка является положение, при котором те, кто участвует в рыночных сделках, обладают властью осуществлять принуждение по отношению к врагам свободного рынка. Эту особенность в недостаточной степени подчеркивают те авторы, которые, сосредоточив свое внимание на «свободном рынке», в конце концов начинают трактовать его как чистую противоположность государственного принуждения.
Так, например, профессор Мизес, чья непреклонная защита «свободного рынка», основанная на ясной и убедительной аргументации в сочетании с великолепным владением проблематикой, вызывает мое глубокое восхищение, утверждает, что «политическая и личная свобода – это термины, употребляемые для описания социальных условий индивидов в рыночном обществе, в котором власть необходимой гегемонической связи, государства, ограничена, чтобы она не ставила под угрозу функционирование рынка»[18]. Отметим здесь, что Мизес характеризует гегемонические связи государства как «необходимые», но под свободой имеет в виду «ограничения, налагаемые на применение полицейской власти»[19], при этом не оговаривая (что я считал бы разумным с точки зрения сторонника свободы торговли), что свобода означает также ограничения, наложенные на любого другого, кто вмешивается в функционирование свободного рынка. Как только мы признаем такое значение свободы, характеризующие государство гегемонические связи становятся не только тем, что следует ограничить, но также, и я бы сказал, прежде всего тем, что мы используем для того, чтобы ограничить действия других людей.
Экономисты не отрицают, но и не учитывают непосредственным образом того, что каждый экономический акт, как правило, является также и юридическим актом, последствия которого могут быть принудительно обеспечены правительством в случае, если стороны сделки не будут вести себя так, как это ожидалось бы в соответствии с их соглашением. Лайонел Роббинс отметил в своей книге «Природа и значение экономической теории» (Lionel Robbins, The Nature and Significance of Economics, 1932), что и в наши дни экономисты редко исследуют взаимосвязи экономики и права, и хотя эту взаимосвязь никто не оспаривает, на нее обычно не обращают внимания. Многие экономисты спорили о различиях между производительным и непроизводительным трудом, но немногие исследовали то, что Линдли Фрезер в монографии «Экономическая мысль и язык» (Lindley Frazer, Economic Thought and Language, 1947) называет «контрпроизводительным» трудом, то есть трудом, который приносит пользу работнику, но не тем, на кого – или против кого – он работает. «Контрпроизводительный» труд, например, труд нищих, шантажистов, грабителей и воров, остается за пределами экономической теории; вероятно, потому что экономисты уверены в том, что «контрпроизводительный» труд обычно нарушает закон. Таким образом, экономисты признают, что обычно они учитывают только те полезности, которые совместимы с законом большинства стран. Итак, взаимосвязь экономики и права подразумевается, но экономисты редко рассматривают ее в качестве объекта, достойного их изысканий. Например, они изучают обмен благами, но не поведение в процессе обмена, которое делает обмен благами возможным и регулируется, а иногда – принудительно обеспечивается законом во всех странах. Поэтому свободный рынок иногда кажется чем-то более «естественным», чем государство, или, как минимум, чем-то независимым от государства, если не чем-то, что нужно поддерживать «вопреки» государству. На самом деле, рынок не более «естественен», чем государство, и оба этих института не более естественны, чем, к примеру, мосты. Люди, которые этого не знают, должны серьезно относиться к песенке, которую когда-то распевали на Монмартре:
Voyez comme la nature a en un bon sens bien profond
А faire passer les fleuves justement sous les ponts.
(Глянь, смысла здравого хватает у Природы
Недаром под мостом прокладывает воды.)
Конечно, экономическая теория не оставляет без внимания то, что именно государство обеспечивает людям практические полномочия, позволяющие им избежать на рынке принуждения со стороны других людей. Роббинс удачно подчеркнул это в книге «Теория экономической политики в английской политической экономии» (Lionel Robbins, The Theory of Economic Policy in English Political Economy, London, 1952), отметив, что «мы получим совершенно искаженный образ» значения той доктрины, которую Маршалл назвал системой экономической свободы, «пока мы не увидим ее в сочетании с теорией права и функций правительства, которую ее авторы, начиная с Адама Смита, также поставили на обсуждение». Как говорит Роббинс, «идея свободы в вакууме была им совершенно чужда». Однако Роббинс также отметил, в книге «Экономическое планирование и мировой порядок» (Economic Planning and International Order, London, 1937), что классики экономической теории уделили слишком мало внимания тому, что международная торговля не могла возникнуть просто как следствие теоремы сравнительных издержек, но потребовала определенной международной юридической организации, чтобы противостоять врагам мировой свободной торговли, которых, в определенной степени, можно сравнить с врагами свободной торговли в отдельно взятой стране, например, с грабителями и ворами.
С другой стороны, то, что во всех политических обществах принуждение неизбежно связано со «свободой», привело к появлению идеи о том, что в этих обществах «увеличение свободы» может быть каким-то образом совместимо с «увеличением принуждения», или, как минимум, создало для этой идеи благоприятные условия. В свою очередь, эта идея была связана с путаницей в значениях терминов «принуждение» и «свобода», которая возникла главным образом не в результате пропаганды, а из-за неопределенного значения этих слов в обычном употреблении.
Мизес говорит, что «свобода» – это человеческое понятие. Следует добавить, что характеристика «человеческий» верна в том смысле, что, когда мы употребляем этот термин в обычном языке, мы всегда подразумеваем некое предпочтение со стороны людей. Однако это не означает, что о человеке можно сказать, что он «свободен» только от власти над ним других людей. Можно также сказать, что человек «свободен» от болезни, от страха, от нужды, так как все эти выражения используются в обычном языке. Это поощрило некоторых людей рассматривать «свободу от принуждения со стороны других людей» и, например, «свободу от нужды», как аналогичные примеры, не замечая, что речь идет о совершенно разной «свободе». Путешественник может умирать от голода в пустыне, куда он пожелал отправиться в одиночку, без всякого принуждения со стороны других. О нем нельзя сказать, что он «свободен от голода», но он есть и был совершенно «свободен от принуждения и давления» других людей.
Некоторые мыслители, и в древности, и в наше время, пытались связать то, что некоторые люди не свободны от голода и болезней, с тем, что другие люди в том же обществе не свободны от принуждения со стороны своих собратьев. Конечно, взаимосвязь очевидна, когда кто-то находится в рабстве у тех, кто с ним плохо обращается и, скажем, доводит до голодной смерти. Но эта связь совсем неочевидна, когда люди не являются рабами других людей. Тем не менее некоторые мыслители ошибочно считали, что во всех случаях, когда кто-то нуждается в чем-то, что ему необходимо, или просто в чем-то, чего ему хочется, он был несправедливо «лишен» этой вещи теми людьми, у которых она есть.
История до такой степени полна примерами насилия, грабежа, вторжений и т. д., что это заставило многих мыслителей утверждать, что в основе частной собственности лежит просто насилие и в силу этого ее следует рассматривать как нечто неисправимо противозаконное – и в наше время, и в древние эпохи. Например, стоики считали, что первоначально вся земля была общей собственностью всех людей. Они называли эту мифическую ситуацию communis possessio originaria (исходным общим владением). Некоторые отцы Церкви, особенно в романских странах, разделяли такие взгляды. Так, св. Амвросий, знаменитый архиепископ Милана, в V веке н. э. писал, что Природа позаботилась о том, чтобы земля со всеми ее дарами и богатствами находилась в общем достоянии людей, а право частной собственности порождено человеческим насилием. Он цитирует стоиков, которые утверждали, что все на земле и на море было сотворено для общего пользования всех людей. Амвросиаст, ученик св. Амвросия, говорит, что Господь дал людям все в общее достояние, и это относится к солнцу и к дождю так же, как и к земле. То же самое говорит св. Зенон Веронский (в его честь названа одна из самых красивых романских церквей – Сан Дзено) о людях, живших в древнейшие времена: «У них не было частной собственности, но все у них было общее: солнце, дни, ночи, дождь, жизнь и смерть, и все эти вещи были даны божественным Провидением всем им в равной мере, без исключения». Он же добавляет, явно соглашаясь с идеей происхождения частной собственности из насилия и тирании: «Частный владелец, без сомнения, подобен тирану тем, что один имеет полную власть над вещами, которые были бы полезны другим людям». Почти ту же самую идею можно найти несколько столетий спустя в трудах некоторых канонистов. Например, автор первого свода канонического права, так называемого decretum Gratiani (декрета Грациана), пишет: «Тот, кто намерен удержать больше вещей, чем ему нужно, – грабитель».
Современные социалисты, включая Маркса, выступили просто-напросто с исправленной версией той же самой идеи. Например, Маркс различает несколько стадий в истории человечества: первая стадия, на которой производственные отношения были отношениями сотрудничества, и вторая, на которой некоторые люди впервые получили контроль над факторами производства, тем самым поставив меньшинство в положение, когда его кормит большинство. Древний архиепископ Медиоланский выразил бы то же самое менее замысловатым и более энергичным языком: «Природа породила право на общее достояние; насилие породило частное право».
Конечно, возникают вопросы: как можно говорить об «общем достоянии»? Кто установил, что все вещи находятся в «общем владении» всех людей, и почему? Обычный ответ стоиков, их последователей и отцов Церкви первых веков христианства состоял в том, что если луна, солнце и дождь общие для всех людей, то нет оснований считать, что и другие вещи, например земля, не являются общими. Эти сторонники коммунизма не удосужились изучить смысл слова «общий». Тогда они знали бы, что земля не может быть «общей» для всех людей в том же смысле, что солнце и луна, и что в силу этого обработка земли сообща – это совсем не то же самое, что прогулка при лунном или солнечном свете. Современные экономисты объясняют, что различие заключается в том, что, в отличие от дефицита земли, дефицита лунного света не существует. Несмотря на тривиальность этого утверждения, подразумеваемая аналогия между редкими вещами, вроде пригодной для земледелия земли, и вещами, имеющимися в избытке, вроде лунного света, для многих людей была убедительной причиной заявлять, что «неимущие» пали жертвами «принуждения» со стороны «имущих»; что последние незаконно лишили первых некоторых вещей, изначально бывших «общими» для всех людей. Терминологическая путаница вокруг использования слова «общий», свойственная стоикам и отцам раннего христианства и сохранившаяся у современных социалистов всех цветов и оттенков, как я полагаю, тесно связана с тенденцией, особенно ярко проявившейся в наше время, использовать слово «свобода» сомнительным образом, связывая по смыслу «свободу от нужды» со «свободой от принуждения со стороны других».
В свою очередь, этот случай путаницы связан с другим. Когда лавочник, врач или адвокат ждут клиентов, каждый из них может ощущать, что их возможность заработать на жизнь зависит от этих клиентов. Это верно. Но если клиент или покупатель не появляются, то нельзя, не выходя за рамки принятого словоупотребления, сказать, что клиенты (или покупатели), которые не приходят, принуждают лавочника, врача или адвоката к голодной смерти. Действительно, никто никого не принудил тем, что не пришел. Если предельно упростить ситуацию, можно допустить, что клиентов (или покупателей) вообще не было. Если теперь предположить, что клиент приходит и предлагает врачу или адвокату очень маленькую оплату, то невозможно сказать, что этот конкретный клиент «принуждает» врача или адвоката согласиться на эту оплату. Можно относиться с презрением к человеку, который, хорошо умея плавать, не бросается на помощь тонущему, но нельзя, оставаясь в рамках принятого словоупотребления, сказать, что, отказавшись от спасения утопающего, этот человек «принудил» его утонуть. В этой связи я должен согласиться со знаменитым немецким юристом XIX века Рудольфом Иерингом, возмущавшимся бесчестностью уловок, которые в шекспировском «Венецианском купце» использовала Порция против Шейлока, представляя интересы Антонио. Можно относиться к Шейлоку с презрением, но нельзя сказать, что он «принудил» Антонио или кого-либо другого заключить с ним соглашение – соглашение, которое в данных обстоятельствах предусматривало смерть последнего. Единственное, чего хотел Шейлок, – принудить Антонио исполнить обязательство по договору после того, как тот его подписал. Несмотря на эти очевидные обстоятельства, люди часто склонны судить Шейлока так же, как они судили бы убийцу, и осуждать ростовщиков, как если бы они были грабителями и пиратами, хотя ни Шейлока, ни обычного ростовщика нельзя правомерно обвинить в том, что он кого-либо принуждает занимать у него деньги под ростовщические проценты.
Несмотря на различие между «принуждением» в смысле реальных действий, направленных на причинение кому-то вреда против его воли, и поведения, подобного шейлоковскому, многие люди, особенно европейцы в последнее столетие, пытались привить обычному языку терминологическую путаницу, в результате которой человека, который никогда не связывал себя обещанием совершить нечто ради других людей и который, соответственно, ничего ради них не делает, обвиняют в так называемом бездействии и осуждают, как если бы он «принудил» других что-нибудь делать против их воли. С моей точки зрения, это не соответствует нормальному словоупотреблению во всех тех странах, которые мне знакомы. Вы не «принуждаете» человека, если просто не делаете по отношению к нему чего-то, что вы не обещали сделать.
Все социалистические теории насчет так называемой эксплуатации работников работодателями – и шире, эксплуатации «имущими» «неимущих» – в конечном счете основаны на этой терминологической путанице. Во всех случаях, когда самозваные историки промышленной революции в Англии XIX века говорят об «эксплуатации» рабочих работодателями, они подразумевают именно то, что работодатели использовали против рабочих «принуждение», чтобы заставить их согласиться на низкую зарплату за тяжелую работу. Когда законы вроде Акта о профессиональных спорах 1906 года в Англии предоставили профсоюзам привилегию незаконными способами принуждать работодателей соглашаться на их требования, подразумевалось, что наемные работники были более слабой стороной и в силу этого работодатели могли «принудить их» согласиться на низкую, а не на высокую зарплату. Привилегия, установленная Актом о профессиональных спорах, была основана на хорошо знакомом европейским либералам того времени принципе, который полностью соответствовал значению «свободы» в обычном языке: вы «свободны», если вы можете принудить других людей отказаться от использования принуждения по отношению к вам. Неприятность состояла в том, что если принуждение, право на которое было предоставлено профсоюзам, было принуждением в обычном значении, соответствующим значению этого слова в обычном языке, то «принуждение» со стороны работодателей, для предупреждения которого вводилась привилегия, не соответствовало смыслу слова «принуждение» в обычном языке – ни в то время, ни сейчас. Если взглянуть на вещи с этой точки зрения, мы должны будем согласиться с Фредериком Поллоком, который написал в книге «Деликтное право» (Frederick Pollock, Law of Torts, 1888), что «юридическая наука, разумеется, не имеет никакого отношения к эмпирической силовой операции над страной», которую британские законодатели сочли возможным совершить посредством Акта о профессиональных спорах 1906 года. Следует также сказать, что обычное словоупотребление не имеет ничего общего с тем значением слова «принуждение», которое сделало его в глазах британских законодателей подходящим инструментом для того, чтобы совершить над страной такую силовую операцию.
Непредвзятые историки, например, Т. С. Эштон, доказали, что общее положение беднейшей части населения Англии после наполеоновских войн объяснялось причинами, не имевшими ничего общего с поведением в этой стране предпринимателей новой промышленной эры, а корни бедности следует искать в куда более ранних периодах английской истории. Более того, экономисты часто показывали – как приводя неоспоримые теоретические аргументы, так и анализируя статистические данные, что высокие ставки заработной платы зависят от соотношения между инвестированным капиталом и количеством работников.
Но не в этом состоит ключевой пункт нашей аргументации. Если вкладывать в слово «принуждение» настолько разные значения, как те, о которых мы только что рассказали, то можно легко прийти к заключению, что предприниматели времен Промышленной революции в Англии, например, «принуждали» людей жить в старых и дурно влияющих на их здоровье лачугах потому, что они не построили для своих работников достаточное количество хороших новых домов. Точно так же можно было бы сказать, что промышленники, которые не делают гигантских инвестиций в оборудование, вне зависимости от возможной прибыли, «принуждают» своих работников довольствоваться низкими ставками заработной платы. На практике этой терминологической путанице способствуют некоторые лоббистские и пропагандистские группы, заинтересованные в том, чтобы создавать персуазивные определения «свободы» и «принуждения». В итоге людей можно осудить за «принуждение», которое они якобы совершают по отношению к людям, с которыми они никогда не имели ничего общего. Так, пропаганда Муссолини и Гитлера перед Второй мировой войной и во время нее включала утверждение, что народы других стран, в том числе находящихся далеко от Италии и Германии, например, Канады и США, «принуждали» итальянцев и немцев довольствоваться своими скудными сырьевыми ресурсами и относительно небольшой территорией, несмотря на то, что ни Канада, ни США не захватили ни пяди итальянской или немецкой территории. Точно так же после последней мировой войны многие, особенно представители итальянской «интеллигенции», говорили нам, что богатые земельные собственники юга Италии несут ответственность за нищету бедных работников-южан и что жители Северной Италии непосредственно отвечают за депрессию на глубоком юге, хотя и не существовало никаких серьезных доказательств ни того, что богатство некоторых земельных собственников юга Италии было причиной бедности работников, ни того, что относительно высокий уровень жизни в Северной Италии был причиной низкого уровня жизни на юге. Исходный тезис, лежавший в основе всех этих идей, состоял в том, что «имущие» Южной Италии принуждали «неимущих» мало зарабатывать, а жители Северной Италии «принуждали» тех, кто живет на юге, не развивать промышленность, а довольствоваться доходами от сельского хозяйства. Нужно также отметить, что похожая терминологическая путаница лежит в основе многих требований и установок правящих элит некоторых бывших колоний, например, Индии или Египта, по отношению к народам Запада (включая США).
Время от времени это приводит к бунтам, беспорядкам и другого рода враждебным действиям со стороны людей, которые чувствуют себя «жертвами» принуждения. Другой, не менее важный результат – это законы, постановления и договоры как на национальном, так и на международном уровне, предназначенные для того, чтобы помочь якобы страдающим от «принуждения» людям противодействовать этому «принуждению» с помощью законодательно установленных процедур, привилегий, гарантий, иммунитетов и пр.
Итак, путаница в словах приводит к спутанным чувствам, и в результате возникает эффект резонанса, который запутывает все еще больше.
Я не так наивен, как Лейбниц, полагавший, что многие политические и экономические проблемы можно улаживать не посредством споров (clamoribus), а посредством каких-нибудь вычислений (calculemus), которые дали бы заинтересованным людям возможность согласиться хотя бы в принципе относительно предмета спора. Однако я настаиваю на том, что разъяснение терминологии, вероятно, принесло бы людям больше пользы, чем обычно считается, если бы только люди находились в том положении, когда они могут извлечь эту пользу.
15
Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), “Through the Looking Glass,” in The Lewis Carroll Book, ed. Richard Herrick (New York: Tudor Publishing Co., 1944), p. 238. [Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М.: Наука, Глав. редакция физ. – мат. лит-ры, 1991.]
16
Несмотря на противоположное мнение Герберта Рида (его приводит Морис Крэнстон: Maurice Cranston, op. cit., p. 44).
17
Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 2. Часть 4 (I). – Прим. ред.
18
Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics (New Haven: Yale University Press, 1949), p. 281.
19
Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics (New Haven: Yale University Press, 1949), p. 281.