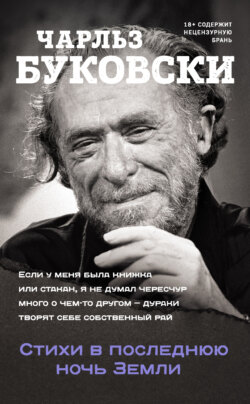Читать книгу Стихи в последнюю ночь Земли - Чарльз Буковски - Страница 3
1
Оглавлениемои запястья – реки
пальцы мои – слова
пробка
эта Портовая трасса на юг через центр
города – то есть, там иногда становится просто
невообразимо
в прошлую пятницу вечером я сидел там
без движенья за стеной красных тормозных огней,
даже на первой передаче никто не дернется
а тучи выхлопов
серили вечерний воздух, двигатели пере-
греты
и висела вонь сгоравшего
где-то
сцепления —
вроде как воняло откуда-то спереди —
с того долгого медленного подъема трассы, где
машины с трудом переключались
с первой на нейтралку
вновь и вновь
а с нейтралки обратно
на первую.
по радио я выслушал новости
того дня
минимум раз 6, я
стал подкован в международных
событиях.
остальные станции крутили
жидкую, хворую музыку.
классические станции отказывались ловиться
ясно
а если и ловились
то гнали все ту же плесень дежурных и
утомительных номеров.
я выключил радио.
странное завихрение началось у меня в
голове – закручивалось во лбу, по часовой
стрелке, проходило за уши и вокруг к
затылку, затем снова ко лбу
и опять
по кругу.
мне стало любопытно, так ли бывает
когда сходишь
с ума?
я подумал, не выйти ли из машины.
стоял я на так называемой скоростной
полосе.
вот у меня перед глазами – я сам
вышедший из машины
опираюсь на шоссейный отбойник,
сложив руки.
затем я б осел на
корточки и опустил голову между
колен.
я остался в машине, прикусил язык, снова
включил радио, повелел завихрению
остановиться
и подумал: интересно, приходится ли остальным
так же бороться со
своими порывами,
как мне?
тут машина впереди
СДВИНУЛАСЬ
на фут, 2 фута, 3 фута!
я переключился на первую…
произошло ДВИЖЕНИЕ!
затем вновь оказался на нейтралке
НО
мы сдвинулись на 7 или
десять футов.
международные новости завелись в
7-й раз,
все по-прежнему сплошь паршиво
но все мы слушали,
а значит и это нам по плечу
раз мы знали
что нет ничего хуже, чем
пялиться
во все ту же номерную табличку
на все ту же тупую башку, торчащую
над подголовником сиденья
в машине впереди
а время рассасывалось
а стрелка температуры заваливалась
все дальше вправо
пока стрелка топлива валилась
все дальше влево
и нам было интересно
у кого же это сцепление
выгорает?
мы были словно какой-то бесконечный, вечный
окончательный динозавр
вяло ползущий куда-то домой,
не понять как, может
быть
подыхать.
два крутых
в Городском колледже Лос-Анджелеса было два крутых, я
и Джед
Эндерсон.
Эндерсон был одним из лучших защитников в
истории школы, и впрямь гроза отрыва
когда мяч к нему попадал.
я был довольно крепок физически но на спорт смотрел
как на игры для уродов.
считал что игра покруче – перечить тем
кто пытался учить
нас.
в общем, мы с Джедом были двумя светилами
студгородка, он громоздил один на другой свои рывки на
60, 70 и 80
ярдов в вечерних матчах
а днем
дремал за партой
я же выдумывал то, чего не знал
а то, что знал
было так гнусно
что многим преподам приходилось
плясать под ту дуду.
и вот в один прекрасный день
мы с Джедом
наконец встретились.
произошло это в забегаловке с музыкальным автоматом
напротив студгородка и
он сидел там со своими
дружками
а я сидел со
своими.
«давай! давай! поговори с ним!» —
подзуживали меня
кореша.
я ответил: «нахуй этого
качка. за мной —
Ницше, пускай он сам
сюда идет!»
в конце концов Джед поднялся купить
курева в
автомате и один из моих
друзей спросил:
«ты что, боишься этого
чувака?»
я встал и подошел сзади
к Джеду, когда тот лез в
машину
за своей пачкой.
«здоро́во, Джед», – сказал
я.
он обернулся: «здорово,
Хэнк».
потом залез в
задний карман,
вытащил пинту
виски, протянул
мне.
я крепко хлебнул,
вернул
ему.
«Джед, ты что
собираешься делать
после
Г.К.Л.А.?»
«играть
за Нотр-Дам».
и он двинул назад
к своему столику
а я – назад
к своему.
«чё он сказал? чё
он сказал?»
«ничего такого».
в общем, Джед так и не попал
в Нотр-Дам
да и сам я
никуда больше
не попал —
годы просто потащили нас
дальше
но были и те
кто своего
добился, вроде одного парня
ставшего знаменитым
спортивным обозревателем
и мне приходилось глядеть на его
портрет
в газете
много десятков лет подряд
пока я наследовал те
дешевые комнатенки
и тараканов
и те безвоздушные
тягомотные
ночи.
но
я все равно гордился тем мигом
еще тогда
когда Джед протянул мне
ту пинту
и
я отхлебнул
целую треть
а все апостолы
смотрели на нас.
чёрт, а казалось ведь
что мы никак
и никогда
не проиграем
но мы продули.
и мне понадобилось
3 или 4 десятилетия, чтобы
хоть малость жить
дальше.
и Джед,
если ты еще где-то тут
сегодня ночью,
(я забыл тебе сказать
тогда)
спасибо
за тот глоток.
мой немецкий корефан
сегодня вечером
потягивая «Сингху»
светлый лагер
из Таиланда
и слушая Вагнера
в голове не укладывается что
его нет в
соседней
комнате
или за
углом
или в живых
где-то
сегодня вечером
а он есть
разумеется
когда меня захватывает
его
звуком
и малюсенькие мурашки
бегут у меня
по обеим
рукам
и колотит
дрожь
он здесь
сейчас.
с днем рожденья
когда Вагнер совсем
состарился
в его
честь
устроили день рожденья
и сыграли
пару
случайных композиций
молодости.
после
он спросил:
«кто это сочинил?»
«вы», – ответили
ему.
«ах, – произнес он, —
я всегда так и
подозревал: у смерти
значит
все-таки есть какие-то
достоинства».
телефон
притащит к вам людей
своим звонком
тех кто не знает что делать со
своим временем
причем им до боли хочется
заразить этим
вас
издалека
(хотя они бы предпочли
на самом деле быть с вами в одной комнате
чтобы лучше навесить на вас свое
ничтожество).
телефон необходим только
для экстренных случаев.
эти люди – не
экстренный случай, они
стихийное бедствие.
я никогда не рад звонку
телефона.
«алло», – отвечу я
с опаской.
«это Дуайт».
и уже ощущаешь их имбецильное
стремление вторгнуться.
они – люди-блохи что
наползают на
психику.
«да, в чем дело?»
«ну, я сегодня вечером в городе и
подумал…»
«послушай, Дуайт, я очень занят, я
не могу…»
«ну, тогда может в следующий
раз?»
«может и нет…»
каждому отводится лишь столько-то
вечеров
и всякий истраченный попусту вечер —
грубое попрание
естественного хода
вашей единственной
жизни;
а кроме того, во рту остается привкус
не исчезающий часто два или три дня
в зависимости от
посетителя.
телефон – только для
экстренных случаев.
у меня заняло
десятки лет
но я наконец понял
как отвечать
«нет».
а вы
не беспокойтесь о них,
пожалуйста:
они просто наберут другой
номер.
может быть
ваш.
«алло», – скажете
вы.
и они ответят:
«это Дуайт».
и тогда
вы
окажетесь
доброй
чуткой
душой.
прогиб
как большинство из вас, я сменил столько работ что
меня как будто выпотрошили, а кишки
выбросили на ветер.
мне на пути попадались и неплохие люди,
но и другие
тоже попадались.
однако, стоит подумать обо всех
с кем работал —
пусть даже минуло много лет —
Карл
приходит на ум
первым.
я помню Карла: работенка наша требовала, чтоб мы
оба носили фартуки
завязанные сзади и вокруг
шеи тесемочкой.
я был у Карла на подхвате.
«у нас плевая работа», – сказал
он мне.
каждый день, когда один за другим прибывали наши
начальники
Карл слегка изгибался в талии,
улыбался и кивком
приветствовал каждого: «доброе утро, д-р Стайн»,
или «доброе утро, м-р Дей», или
миссис Найт или, если дама не замужем
«доброе утро, Лилли», или Бетти, или Фрэн.
я же всегда
помалкивал.
Карла, похоже, это тревожило, и
однажды он меня отвел в сторонку: «эй,
где еще к ебеней матери ты найдешь
двухчасовой обеденный перерыв, как у
нас?»
«нигде, наверное…»
«ну, ладно, слушай, для таких ребят, как мы с тобой,
лучше ничего не придумаешь, ничего другого
нету».
я помалкивал.
«поэтому слушай, сначала жопу им лизать трудно, мне
ж тоже пришлось нелегко,
но чуть погодя я понял что без
всякой разницы.
просто нарастил панцирь.
теперь у меня есть панцирь, ты
понял?»
я смотрел на него – и точно, он походил на человека в
панцире, лицо у него было как
маска, а глаза ничтожны, пусты и
безмятежны; я смотрел на истасканную погодой и
битую ракушку.
шли недели.
ничего не менялось: Карл кланялся, прогибался
и улыбался
бестрепетно, изумительный в своей
роли.
то, что мы скоропортимся, никогда небось не приходило
ему
в голову
или
что боги повыше может смотрят
за нами.
я работал
свое.
потом, как-то раз, Карл снова
отвел меня в сторонку.
«слушай, со мной о тебе говорил
д-р Морли».
«ну?»
«спрашивал, что с тобой
такое».
«что ты ему
ответил?»
«сказал, что ты еще
молодой».
«спасибо».
получив следующий чек, я
уволился
но
все-таки
мне пришлось
в итоге согласиться на другую похожую
работенку
и
наблюдая за
новыми Карлами
я наконец простил их всех
но не себя:
от бренности человек иногда
становится
странным
почти
нетрудоспособным
несносно
высокомерным —
никудышным слугой
свободного
предпринимательства.
такое чувство
О. Хаксли умер в 69,
слишком рано для такого
неистового таланта,
а я прочел все его
труды
но на самом деле
«Контрапункт»[1]
и впрямь немного помог
мне преодолеть
фабрики и
вытрезвители и
сомнительных
дам.
эта
книга
вместе с Гамсуновым
«Голодом»
они чуть-чуть
помогли.
великие книги —
те что нам
нужны.
я поразился самому
себе, что мне понравилась
книга Хаксли
но она и впрямь вышла
из этакого оголтелого
прекрасного
пессимистического
интеллектуализма,
и когда впервые
читал «К-П.»
я жил в
гостиничном номере
с дикой и
ненормальной
алкоголичкой
которая однажды швырнула
«Кантос»[2] Паунда
в меня
и промазала,
как и они сами
пролетели мимо меня.
я работал
упаковщиком
на заводе осветительных
приборов
и однажды
во время
запоя
сказал этой даме:
«вот, почитай-ка лучше!»
(имея в виду
«Контра-
Пункт».)
«а, засунь ее
себе в жопу!» – заорала
она
мне.
как бы то ни было, в 69 наверно
рано было Олдосу
Хаксли
помирать.
но видать это
так же честно
как смерть
уборщицы
в том же
возрасте.
просто с
теми, кто
помогает нам
преодолевать все это,
тогда
меркнет
весь свет, это как бы
выворачивает нутро —
а уборщиц, таксистов,
лягашей, медсестер, грабителей
банков, попов,
рыбаков, жарщиков,
жокеев и им
подобных —
к
черту.
величайший актер наших дней
он все жиреет и жиреет,
почти облысел
осталась только прядка волос
на затылке
которую он перекручивает
и стягивает
резинкой.
у него есть дом в горах
и дом на
островах
и очень немногие вообще его
видят.
некоторые считают его величайшим
актером наших
дней.
у него есть чуток друзей,
очень немного.
с ними его любимый
досуг —
наедаться.
в редких случаях его находят
по телефону
обычно
с предложением сыграть
в выдающейся (как ему
говорят)
киноленте.
он отвечает очень тихим
голосом:
«о нет, я не хочу больше
сниматься ни в каком кино…»
«вам можно прислать
сценарий?»
«ладно…»
потом
от него снова ничего
не слышно.
обычно
он и его чуток друзей
вот что
делают после еды
(если ночью прохладно)
пропускают несколько стаканчиков
и смотрят как сценарии
сгорают
в камине.
или же
после еды (теплыми
вечерами)
после нескольких
стаканчиков
сценарии
вынимаются
заиндевевшие
из
холодильника.
несколько он раздает
своим друзьям
несколько оставляет себе
а потом
все вместе
с веранды
они запускают их
как летающие тарелки
далеко
в просторный
каньон
внизу.
потом
все они
возвращаются в дом
зная
инстинктивно
что сценарии
были
плохи. (по крайней мере,
он это чувствует а
остальные
согласны
с ним.)
там наверху у них
по-настоящему
славный мир:
заслуженный, само-
достаточный
и едва ли
зависимый
от
переменных.
там есть
такая куча времени
чтобы есть
пить
и
дожидаться смерти
подобно
всем остальным.
дни точно бритвы, ночи полны крыс
очень юным я делил время поровну между
барами и библиотеками; как мне удавалось обеспечивать
свои остальные обыденные потребности – загадка; ну,
я просто
слишком этим не заморачивался —
если у меня была книжка или стакан, я не думал чересчур много о
чем-то другом – дураки творят себе собственный
рай.
в барах я считал себя крутым, крушил предметы, дрался с
другими мужиками и т. д.
в библиотеках – другое дело: я был тих, переходил
из зала в зал, читал не столько книги целиком,
сколько отдельные части: медицина, геология, литература и
философия. психология, математика, история, всякое
прочее обламывали
меня. в музыке меня больше интересовала сама музыка и
жизни композиторов, нежели технические аспекты…
тем не менее, только с философами я ощущал братство:
с Шопенгауэром и Ницше, даже со старым
трудночитаемым Кантом;
я обнаружил, что Сантаяна, очень популярный в то время,
вял и скучен; в Гегеля надо было по-настоящему
врубаться, особенно
с перепоя; многих, кого читал, я уже забыл,
может, и поделом, но хорошо помню одного парня,
написавшего
целую книгу, в которой доказывалось, что луны нет,
причем делал он это так хорошо, что после ты и сам
начинал считать: он
совершенно прав, луны действительно нет.
как же, к чертовой матери, молодому человеку снисходить до работы по
8 часов в день, если даже луны нет?
а чего еще
может не хватать?
к тому же
мне нравилась не столько сама литература, сколько
литературные
критики; они были полными мудаками, эти парни;
пользовались
утонченным языком, прекрасным по-своему, чтобы
называть других
критиков, других писателей ослами. они
меня бодрили.
но именно философы удовлетворяли
ту потребность
что таилась у меня где-то в замороченном черепе;
продираясь
сквозь их навороты и
заковыристый словарь
я все равно часто поражался —
у них выскакивало
пылающее азартное утверждение казавшееся
абсолютной истиной или чем-то дьявольски близким
к абсолютной истине
и вот этой определенности я искал в своей повседневной
жизни больше походившей на кусок
картона.
какими клевыми ребятами были эти старые псы, выручали меня среди
дней, что как бритвы, и ночей, полных крыс; и среди
женщин
базлавших, как на аукционе в аду.
братья мои, философы, говорили со мной не как
народ на улицах или где-то еще; они
заполняли собой невообразимую пустоту.
такие классные парни, ах, какие классные
парни!
да, от библиотек польза; в другом моем храме, в
барах, все было иначе, попроще, и
язык, и подход были
другими…
днем библиотека, ночью бар.
ночи были одинаковы,
поблизости сидит какой-нибудь тип, может, и не
гад, но, если по мне, так он светит как-то не так,
от него прет чудовищной мертвечиной – я думаю
о своем отце,
об учителях в школе, о лицах на монетах и банкнотах,
о снах
об убийцах с тусклыми глазами; ну, и
мы с этим типом начинаем как-то обмениваться взглядами,
и медленно копится ярость: мы враги с ним, собака и
кошка, поп и безбожник, огонь и вода; напряг возрастает,
по кирпичику, того и гляди обрушится; кулаки
сжимаются и разжимаются, мы пьем теперь, наконец-то, с
целью:
он оборачивается ко мне:
«тебе чё-то не нравится, мужик?»
«ага. ты».
«хочешь чё-нибудь сделать?»
«разумеется».
мы допиваем, подымаемся, уходим вглубь
бара, наружу в переулок; мы
поворачиваемся, лицом друг к другу.
я говорю ему: «между нами ничего, кроме пространства.
как
насчет его
замкнуть?»
он бросается на меня, и как-то это отчасти часть
части.
в темноту и из нее
моей жене нравятся кинотеатры, воздушная кукуруза и
прохладительные напитки,
усаживание на места, она в детском восторге от
этого, и я рад за нее – но на самом же деле, я-то сам, я
наверняка
откуда-то не отсюда, я, должно быть, кротом был в другой
жизни, чем-то, что закапывалось и в одиночку пряталось:
другие, сгрудившись на сиденьях и далеко, и близко,
передают мне
чувства, какие мне не нравятся; это глупо, быть может,
но так оно и
есть; а затем —
темнота и за ней —
великанские лица людей, тела, шевелящиеся по экрану,
они
говорят, а мы
слушаем.
на сотню фильмов есть один стоящий, один хороший
а девяносто восемь – паршивые.
большинство фильмов начинается плохо и неуклонно
становится
хуже;
если можешь поверить действиям и речи
персонажей
то сможешь даже поверить, что попкорн, который жуешь,
тоже
имеет некое
значение.
(ну, возможно, люди смотрят столько фильмов,
что когда, наконец, увидят кино не такое
паршивое, как остальные, они считают его
выдающимся. Премия Академии означает, что ты фуфло чуть
менее, чем твой собрат.)
кино заканчивается, и вот мы на улице, идем
к машине; «что ж, – говорит моя жена, – оказалось не
так хорошо, как говорят».
«нет, – отвечаю, – не так».
«хотя были там неплохие места», – говорит она.
«ага», – отвечаю я.
мы у машины, влезаем, и я везу нас из
этой части города; озираем ночь;
ночь смотрится неплохо.
«есть хочешь?» – спрашивает она.
«да. а ты?»
останавливаемся у светофора; я наблюдаю за красным
светом;
так и слопал бы этот красный свет – что угодно, вообще
что
угодно лишь бы заполнить пустоту; миллионы долларов
истрачены на созданье
чего-то ужасней всамделишных жизней
большинства живых существ; никому никогда не стоит
платить
за билет в ад.
зажигается зеленый, и мы удираем,
вперед.
будь любезен
нас вечно просят
понять точку зрения другого
человека
какой бы
старомодной
глупой или
мерзотной та ни была.
человека просят
относиться
к полнейшей ошибке другого
к его растрате-жизни
с
добротой, особенно если другой
в годах.
но годы – итог
наших деяний.
другие состарились
по-плохому
поскольку
жили
не в фокусе,
отказывались
видеть.
не их вина?
а чья?
моя?
меня просят скрывать
мою точку зрения
от них
из страха перед их
страхом.
не годы – проступок
а позор
намеренно
растраченной
жизни
среди стольких
намеренно
растраченных
жизней —
вот что.
мужчина с прекрасными глазами
когда мы были пацанами
там был странный дом
где ставни
всегда
закрыты
и мы ни разу не слышали голосов
изнутри
а двор весь зарос
бамбуком
и мы любили играть в
бамбуке,
воображая себя
Тарзаном
(хоть никакой Джейн
и не было).
и еще там был
пруд
обширный
в нем битком
жирнющих золотых рыбок
невиданных размеров
и они были
ручными.
поднимались к
поверхности воды
и хватали кусочки
хлеба
у нас из рук.
родители
говорили нам:
«никогда не ходите к этому
дому»
поэтому, конечно,
мы ходили.
нам было интересно живет ли
там кто-нибудь.
шли недели а мы
никого никогда
не видели.
затем однажды
услышали
голос
из дома:
«АХ ТЫ ЧЕРТОВА
БЛЯДЬ!»
то был мужской
голос.
затем дверь
веранды
распахнулась
и наружу
вышел
мужчина.
в правой
руке
он держал
квинту виски.
ему было около
30.
изо рта
у него
торчала сигара
небритый.
волосы
взъерошены и
нечесаны
и он был босиком
в майке и штанах.
но глаза у него
были
ярки.
они пылали
яркостью
и он сказал:
«эй, маленькие
джентльмены,
вам
весело, я
надеюсь?»
потом
коротко хохотнул
и зашел
обратно в
дом.
мы слиняли,
вернулись во двор
к родителям
и подумали
над этим.
наши родители,
решили мы,
хотят, чтоб мы
держались оттуда
подальше
поскольку не
желают чтоб мы вообще
видели человека
вот
так,
сильного естественного
мужчину
с
прекрасными
глазами.
нашим родителям
стыдно
что они
не
такие как этот
мужчина,
потому-то они и
хотят чтоб мы
держались
подальше.
но
мы вернулись
к тому дому
и к бамбуку
и к ручным
золотым рыбкам.
мы возвращались
много раз
много
недель
но никогда не
видели
и не слышали
больше
этого человека.
ставни были
закрыты
как всегда
и все было
тихо.
потом однажды
вернувшись из
школы,
мы увидели
дом.
он
сгорел
не осталось
ничего
лишь тлеющий
искореженный черный
фундамент
и мы подошли к
пруду
и в нем не
было воды
а жирные
рыжие золотые рыбки
лежали там
дохлые
высыхая.
мы вернулись к
родителям во двор
и поговорили об
этом
и решили что
это наши родители
сожгли
их дом
и убили
их
убили
золотых рыбок
поскольку всё
это слишком
прекрасно,
даже бамбуковый
лес
сгорел.
они
боялись
мужчины с
прекрасными
глазами.
а
мы боялись
тогда
что
всю нашу жизнь
такое
и будет
происходить,
что никому
не хочется
чтобы кто-то
был
таким
сильным и
прекрасным,
что
другие никогда
этого не допустят,
и
многим людям
придется
сгинуть.
странный день
то был один из этих жарких и утомительных дней
в «Холливуд-
Парке»
с огромной толпой,
утомительной, грубой, тупой
толпой.
я выиграл последний заезд и остался получить выигрыш,
а когда
добрался до машины —
обнаружил громадный затор, из которого все пытались
выбраться.
поэтому я снял башмаки, сел и стал ждать, включил
радио, наткнулся на какую-то классическую музыку,
обнаружил
пинту скотча в бардачке, от-
крутил пробку,
глотнул.
пускай себе все они валят отсюда, подумал
я, а там и сам
поеду.
нашел 3/4 сигары, зажег, еще раз глотнул
скотча.
я слушал музыку, покуривал, пил
скотч и смотрел, как сваливают
неудачники.
примерно в 100 ярдах к
востоку
даже играли в кости по маленькой
затем игра
прекратилась.
я решил прикончить
пинту.
прикончил, потом растянулся на
сиденье.
не знаю, сколько я
проспал
а когда проснулся, было темно, и
стоянка
опустела.
я решил не обуваться, завелся
и выехал
оттуда….
вернувшись к себе, услышал, как звонит
телефон.
пока я вставлял в замок ключ и поворачивал его,
телефон все
звонил.
я подошел, снял
трубку.
«алло?»
«ты, сукин сын, где ты
был?»
«на скачках».
«на скачках? полпервого ночи! я
звоню с
7 вечера!»
«я только что вернулся со
скачек».
«у тебя там какая-то
баба?»
«нет».
«я тебе не верю!»
бросила трубку.
я подошел к холодильнику, вытащил пиво, отправился в
ванную, пустил в ванну
воду.
допил пиво, достал еще одно, открыл его и
влез в
ванну.
телефон зазвонил
опять.
я вылез из ванны с пивом и
стекая
подошел к телефону, взял
трубку.
«алло?»
«ты, сукин сын, я все равно
тебе не верю!»
бросила трубку.
я вернулся в ванную с пивом,
оставляя за собой еще один мокрый
след.
а когда уже забрался в ванну
телефон зазвонил
опять.
я дал ему позвонить, считая
звонки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16…
бросила трубку.
затем, наверно, 3 или 4 минуты
прошло.
телефон опять
зазвонил.
я сосчитал звонки:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9…
потом все
стихло.
примерно тут я вспомнил, что
забыл в машине
ботинки.
плевать, вот только пара у меня
оставалась одна.
хотя есть возможность, что никто
и не позарится угонять эту
машину.
я вылез из ванны взять еще одно
пиво,
оставляя еще один след
за собой.
таким был конец
долгого
долгого
дня.
тюльпаны с теплицами
конечно, я могу умереть в ближайшие десять минут
и я к этому готов
но по-настоящему меня тревожит вот что —
мой редактор-издатель[3] может уйти на пенсию
хотя он на десять лет моложе
меня.
всего 25 лет назад (я находился в том зрелом
пожилом возрасте 45)
мы зачали свой нечестивый союз, чтобы
пощупать литературные воды,
причем ни один из нас не был
известен.
я думаю, нам кое в чем повезло и везет в чем-то до сих
пор
однако
довольно велика вероятность
что он предпочтет теплые и приятные
деньки
среди сада
задолго до меня.
писать опьяняет само по себе
а вот издавать и редактировать,
пытаясь оплачивать счета
само по себе
истощает
сюда также входит иметь дело с
мелкой сучностью и капризами
многочисленных
так называемых баловней гения, каковые
совсем не они.
я не стану винить его в том, что он
отвалит, и надеюсь, пришлет мне фото своего
Переулка Роз, своего
Проспекта Гардений.
придется ли мне искать других
пропагандистов?
тот приятель в русской
ушанке?
или та морока с Востока
с космами
из ушей, с мокрыми и
сальными губами?
или же мой редактор-издатель
уходя в мир тюльпанов с
теплицами
передаст всю
механику
бывшего своего ремесла
двоюродному брату,
дочери или
какому-нибудь Паундианцу с Большого
Сюра?[4]
или же просто завещает все
дальше своему
Экспедитору
который восстанет подобно
Лазарю,
теребя вновь обретенную
важность?
можно вообразить
ужасное:
«Г-н Чинаски, все ваши работы
теперь должны подаваться в
форме Рондо
и
отпечатанными
через три интервала на рисовой
бумаге».
власть разлагает,
жизнь калечит
проходит
всё, а от
бородавок
не лечат.
«нет-нет, г-н Чинаски:
в форме Рондо!»
«слушай, чувак, – спрошу я, —
ты разве не слыхал о
тридцатых?»
«тридцатых? это еще
что?»
мой теперешний редактор-издатель
и я
временами
действительно обсуждали тридцатые годы,
Депрессию
и некоторые уловки, каким
она обучила нас —
например как перетерпеть на почти что
фиге с маслом
и все равно
двинуться дальше.
так вот, Джон, если это случится, наслаждайся
своей интерлюдией в
растениеводстве,
культивируй и переноси пыльцу
с куста
на куст, поливай только
ранним утром, стели
соломку, дабы предотвратить
рост сорняков
и
подобно мне в моей писанине:
не жалей
навоза.
и спасибо, что
обнаружил меня на
Авеню ДеЛонгпре, 5124.
на полпути между
алкоголизмом и
безумием.
вместе мы
бросили перчатку
и есть те, кто вызов принял
даже сегодня, гораздо позднее
таких принявших можно
найти
а огонь поет
меж
деревьев.
воздух и свет и время и пространство
«– знаешь, у меня ведь тоже была семья, работа, что-то
постоянно
мешало
а теперь
дом я продала, нашла вот это
место, большую студию, видел бы ты, сколько там пространства, сколько
света.
впервые в жизни у меня будет свое место и время, чтобы
творить».
нет, голубушка, если ты собираешься творить
то будешь творить, вкалывая
по 16 часов в день в шахте, или
будешь творить в комнатушке с 3 детьми
сидя на
пособии,
будешь творить, когда мозги и
тело наполовину
разлетелись в куски,
будешь творить слепой
искалеченной
обезумевшей,
будешь творить даже когда кошка лезет тебе на
спину, а
весь город дрожит землетрясеньем, бомбардировкой,
потопом и полымем.
голубушка, воздух и свет и время и пространство
не имеют с этим ничего общего
и ничего не создают
если не считать, может быть, жизни подольше чтоб
находить
новые
отговорки.
орел сердца —
о чем будут писать через 2000
лет
если
еще будут?
сейчас вот
я пью белое каберне-совиньон и
слушаю
Баха: очень
любопытно: эта
нескончаемая смерть
эта
нескончаемая жизнь
глядя
вот на эту руку
с сигаретой
чувствую, будто
сидел тут
всегда.
вот
войска со штыками
осадили
город внизу.
мой песик Тони улыбается
мне.
славно
когда мне славно
просто так, без причины;
или же
с ограниченным
выбором
все равно
выбирать;
или немного любить,
а не цепляться за
ненависть.
вера, брат, не в
богах
а в
себе:
не спрашивай
говори.
я тебе говорю:
такая прекрасная
музыка
поджидает
только в
тенях
ада.
ярко-красная машина
я стараюсь избегать состязаний в скорости на автотрассах,
но самое занятное —
то
что меня всегда штрафуют за превышение именно когда
я тихонько еду
сам по
себе.
когда же я берусь тягаться в скорости, стремглав
перескакивая между полосами
чуть ли не на 100 милях в час
полиции никогда поблизости
нет.
когда меня тормозят за превышение – это всегда
за ленивую постоянную скорость
в грезах, на каких-то 70
милях/час.
я получил 3 таких бессмысленных прокола за 3 недели поэтому
какое-то время не отсвечивал – 2 года, по сути, но сегодня
там оказался
парень на ярко-красной машине, понятия не имею, какой
модели или марки
и без понятия, как это все началось, но вероятней всего
начал сам:
я был на скоростной полосе, делал под 70
и заметил проблеск ярко-красного в зеркальце и
выскочив вправо на обгон
он делал 75
и у него было время обойти меня
и вклиниться на скоростную впереди
но что-то заставило меня выжать газ и подрезать
его
заперев позади старушки с наклейкой «ХРИСТОС
СПАСАЕТ» на бампере.
похоже, его это достало до невероятия
и не успел я глазом моргнуть как он сел мне на хвост,
так плотно что его ветровое стекло и мои задние мигалки
слились воедино.
тут уж меня достало до невероятия, а сзади подпирал
зеленый «фольк» прямо по курсу
но я дернулся в окно и
проскочил.
ярко-красный озверел, засек свободную дальнюю полосу,
с ревом пролетел мимо и погнал
по ней.
после этого рвать к финишу остались
только я и ярко-красный.
он накапливал форы, затем сумасшедшим гамбитом
со сменой полос я его
нагонял.
по ходу этой дуэли место моего назначения было забыто,
да и
его, я уверен —
тоже.
наблюдая за ним, я не мог не восхищаться его умением
водить; он рисковал несколько больше меня,
но у меня агрегат был получше
поэтому
оказались мы примерно квиты.
затем
вдруг
остались одни: чудной перебой в потоке машин
освободил нас обоих
и мы вместе по-настоящему
оторвались по скорости.
у него было немного форы, но мой агрегат медленно
догонял; я
подбирался к нему,
вот уже мы поравнялись и я не мог не
оглядеть его.
молодой японец, лет 18, 19
а я смотрел на него и
хохотал.
я видел, как он оценивает меня.
он видел 70-летнего белого старика
с физиономией
Франкенштейна.
юноша снял ногу с газа и
отвалился.
я отпустил его.
включил
радио.
я проехал на 18 миль дальше, чем нужно, но
это неважно.
стоял прекрасный солнечный день.
навстречу 21-му веку
отмечали Новый год вроде бы у
меня.
я стоял держа стакан когда
этот стройный молодой тип подошел
он был чуточку пьян и сказал
«Хэнк, я познакомился с одной бабой она утверждает
что была замужем за тобой 2
года».
«да ну?
как ее
звали?»
«Лола
Эдвардз».
«никогда о такой
не слыхал».
«ай, да брось ты, чувак. она
сказала…»
«я ее не знаю,
малыш…»
на самом деле я не знал кто
он такой…
я залпом допил зашел на кухню
восполнил
огляделся да, я у себя
кухня
знакомая.
еще один
Счастливый Новый Год.
Господи.
я вышел из кухни навстречу
людям.
дамочка и пума
едва ль это можно назвать глухоманью
но местность была сельская
осадков там выпадало
скудно – и к тому же велось какое-то
строительство на
склонах
мелкая дичь
вымирала.
первыми из
оголодавших
пришли койоты
в поисках
цыплят
кошек
чего угодно.
вообще-то стая напала
даже на верхового
вцепилась ему в руку
но он
вырвался.
потом
в парке
одна дамочка
вышла из машины
навестить общественную
уборную.
закрыла за собой дверцу
кабинки
и тут услыхала
тихий
звук,
украдку
мягких
лап.
затем
пока она там восседала
под дверцу просунула
голову
пума.
поистине прекрасное
животное.
потом
голова исчезла, большая кошка
опрокинула урну, обошла ее кругом,
испустила медленный
рык.
дамочка взобралась
на унитаз
схватилась за трубу
над головой
и
подтянувшись как следует
(страх порождает аномальные
поступки) уселась там
откуда можно было наблюдать
за кошкой.
та же
незамедлительно встала
передними лапами на
раковину умывальника
засунула
голову
и принялась лакать из капающего крана.
потом
опустилась
на пол
подобралась
обернувшись к двери
и
фьють
нет ее
в помине.
тут
наконец
дамочка
заорала.
когда вбежали
люди
кошки уже нигде не было
видно.
история попала в
газеты и на телевизионные
станции.
а вот чего никто не расскажет:
дамочка
больше никогда не заходила в
уборную
не подумав о
пуме.
поистине прекрасное
животное.
угореть не встать
пошли заглянем к нему, этот старикан
полный улет, полтинник шарахнуло, рассиживает в
одних трусах и майке
хлеща винище из щербатой белой
чашки.
сидит с задраенными окнами и
у него никогда не было телика.
выходит наружу только чтобы еще вином
втариться
или на скачки в своей небесно-голубой
«комете» 58-го года.
приедешь к нему бывало, а он расстроен, вечно баба
какая-нибудь ушла навсегда и
он делает вид что ему нипочем но
щелочки его глаз залиты
болью.
он всем начислит, он просто закидывает эту дрянь
в себя винтом а иногда встает
и идет блевать.
это в самом деле нечто. его
слышно за несколько кварталов.
потом выходит и наливает
следующий.
он все пьет и пьет
а потом ни с того ни с сего вдруг ляпнет что-нибудь
безумное, вроде: «что б ни сделали 3 собаки, 4 это
сделают лучше!»
ну и в таком духе.
или шваркнет стаканом или бутылкой в
стену.
он работал санитаром в
больнице 15 лет
потом бросил.
он никогда не спит ночами.
и я не понимаю, как ему достаются все его
бабы —
такая он страхолюдина.
и ревнив.
только скосись на кого из его баб
как сразу кинется.
потом надирается и рассказывает чокнутые
истории и поет.
и знаешь еще что? он пишет
стихи.
пошли заглянем к нему, этот старикан
полный
улет!
привет, Гамсун
после двух с половиной бутылок
не укрепивших мое опечаленное
сердце
выбираясь из этой пьяной
темени
в сторону спальни
размышляя о Гамсуне который
жрал свою плоть чтоб
выкроить время и
писать
я вваливаюсь в другую
комнату
старый
человек
рыба-демон в ночи
всплывает
наперекосяк
вверх тормашками.
смерть курит мои сигары
знаете: а я ведь снова нарезался
тут
слушая Чайковского
по радио.
Боже мой, я слышал его 47 лет
назад
когда был голодающим писателем
и вот он
снова
а я добился умеренного успеха как
писатель
и смерть расхаживает
взад-вперед
по этой комнате
куря мои сигары
прикладываясь к моему
вину
а Чайк пилит, себя не помня
свою «Патетическую»,
ну и дорожка мне выпала
и если мне везло, то лишь
потому, что я правильно кидал
кости:
голодал за свое искусство, голодал чтоб
выкроить 5 проклятущих минут, 5 часов,
5 дней —
я хотел лишь пришпилить слово
к бумаге;
слава, деньги – всё туфта:
я хотел поймать слово
а они хотели поставить меня к перфоратору,
к конвейеру
они хотели, чтоб я стал кладовщиком в
универмаге.
ладно, говорит смерть, проходя мимо,
я все равно тебя достану
кем бы ты там ни был:
писателем, таксистом, сутенером, мясником,
парашютистом, я тебя
достану…
хорошо, детка, отвечаю я ей.
мы выпиваем с нею вместе
а час ночи соскальзывает к двум
и
только она знает нужный
миг, но я ее
облапошил: получил свои
5 проклятущих минут —
и гораздо
больше того.
ссудные кассы
против них я никогда ничего не имел
потому что всякий раз, когда пытался продать что-то на
улице
покупателей не находилось.
конечно, ссудные кассы предлагали гораздо меньше
подлинной цены;
им надо было зарабатывать на
перепродаже,
но по крайней мере они всегда были
на месте.
любимой у меня была касса в Лос-Анджелесе —
парняга уводил меня в кабинку, где
собирал вокруг нас черную
штору,
она скользила на колечках
и мы
отгораживались от всех.
дальше всегда шло
одинаково:
«показывайте», – говорил
он.
я выкладывал вещь на столик под
очень сильную
лампу.
он изучал вещь, затем некоторое время
смотрел на меня.
«я не могу вам за это много
дать».
еще одна пауза, потом он называл свою
цену.
предложение неизменно было больше, чем я
ожидал.
«отдам за $10», – называл я
еще более высокую цену.
«нет, – отвечал он, – фактически…»
и называл цену ниже той
что предлагал
вначале.
временами я пытался с ним
заигрывать:
«если я здесь еще немного задержусь, то придется мне
вам платить…»
он не улыбался.
«нам с вами вообще не обязательно вести
дела».
«слушайте, я принимаю ваше первое
предложение…»
«очень хорошо, – отвечал он, —
но я на этом
потеряю…»
выписывал мне
квитанцию и вручал
деньги.
«прочтите, пожалуйста, свою квитанцию внимательнее,
там есть некоторые
условия».
затем выключал свет
и сдвигал черную
штору…
иногда мне удавалось выкупить что-нибудь
из вещей
но в итоге все они возвращались туда же
навеки.
помимо того, я обнаружил: продать в
баре и на улице
можно только
залоговые квитанции.
ссудные кассы помогли мне пережить кое-какие
страшные
времена, и я был рад, что они
существуют, когда не оставалось больше
ничего, и эта кабинка за черной
шторой: что за великолепное святилище,
место, где от чего-то отказываются во имя
чего-то другого, нужного тебе
гораздо сильней.
сколько печатных машинок, костюмов, перчаток и
часов я оставил в ссудных кассах —
одному богу
ведомо,
но против этих мест я
никогда ничего
не имел.
ад – это закрытая дверь
даже когда я голодал
письма с отказами едва ли меня волновали:
я лишь полагал что редакторы
поистине тупы
и просто продолжал писать еще и
еще.
отказы я даже расценивал как
действия; хуже нет, чем пустой
почтовый ящик.
если и была у меня какая-то слабость или мечта,
то
лишь увидеть кого-нибудь из этих
редакторов,
отказавших мне,
увидеть его или ее лицо, как они
одеваются, как ходят по
комнате, как звучит их голос, что у
них в глазах…
всего лишь один взгляд на одного из
них —
видите ли, в чем дело: когда смотрите только на
бумажный листок,
где напечатано, что вы
никуда не годитесь,
возникает тенденция
думать, будто редакторы
больше подобны богам, чем
на самом деле.
ад – это закрытая дверь,
когда голодаешь ради своего богом
проклятого искусства
но иногда хотя бы как будто можешь
подглядеть в
замочную скважину.
старый ли он, молодой, хороший или плохой,
но я думаю, ничто на свете не умирает так медленно и
так трудно, как
писатель.
закрытая ставня
мне в тебе нравится
сказала она
что ты неотесан —
посмотри на себя: сидишь тут
с банкой пива в руке
с сигаретой во рту
посмотри на
свое грязное волосатое брюхо
прущее из-под
рубашки.
ботинок на тебе нет
а правый чулок
дырявый
и из дырки торчит
большой палец.
ты не брился
4 или 5 дней.
зубы у тебя желты
а брови
свисают
косматые
и на тебе столько
рубцов
зарубится кто угодно
от страха.
у тебя в ванне
всегда полоса
грязи
телефон
весь
засален
а
половина дряни в
холодильнике уже
сгнила.
ты никогда не
моешь машину.
на полу
валяются газеты
недельной давности.
ты читаешь грязные
журнальчики
и у тебя нет
телевизора
но ты заказываешь
пойло из
винной лавки
и хорошо оставляешь
на чай.
а лучшее в том что
ты не толкаешь бабу в
постель
к себе.
тебя это вроде
совсем не интересует
и когда я с тобой разговариваю
ты ничего
не произносишь
а просто
шаришь взглядом
по комнате или
скребешь
в затылке
типа не
слышишь меня.
у тебя в мойке
старое мокрое
полотенце
и фотография
Муссолини
на стене.
и ты никогда не
жалуешься
ни на что
и никогда не
задаешь вопросов
а я
знаю тебя уже
полгода
но понятия
не имею
кто ты.
ты словно
какая-то
закрытая ставня
но как раз это
мне в тебе
нравится:
твоя неотесанность:
женщина может
выпасть
из твоей
жизни и
забыть тебя
очень быстро.
женщине
некуда идти
только ВВЕРХ
после того как
бросит тебя,
милый.
должно
быть
лучше тебя
ничему не
произойти
с
девчонкой
которой нечем
заняться
в данный миг
между
этим парнем
и следующим.
клевый у тебя
этот ебаный
скотч.
давай-ка сыграем
в «Скрэббл».
до СПИДа
я доволен, что до них до всех
добрался и доволен, что стольких из них
впустил
я вертел их
тыкал их
пронзал их.
столько туфель на шпильках
у меня под кроватью
что похоже на Январскую
Распродажу.
дешевые гостиницы,
пьяные драки,
телефоны звонят,
в стены колотят
я был
дик
багровоглаз
крупнояик
небрит
нищ
мерзкорот
я много
ржал
и снимал их с
табуретов в барах
как
спелые сливы.
грязные простыни
дурной вискарь
вонь изо рта
дешевые сигары
и к чертям завтрашнее
утро.
я всегда спал с
бумажником под
подушкой
деля постель с
депрессухами и
шизами.
меня не впускали в половину
гостиниц
Лос-Анджелеса.
я рад, что добрался до них до всех,
я вставлял и трахал и
пел и
некоторые
мне подпевали
в те достославные
3 часа по утрам.
когда приезжали
лягаши, это было
роскошно,
мы заваливали двери
и дразнили
их
а они ни разу не дождались
полудня
(время выписки) чтоб
нас арестовать:
не стоили мы
того
но
я думал, что мы
идем в бар,
ну и место это было – бар
около полудня, так тихо и
пусто,
там можно начать
заново,
окопаться с тихим
пивом,
оглядывая скверик
напротив —
там уточки
и высокие
деревья.
вот так,
вечно без гроша, но грош
всегда откуда-то берется,
и я ждал
готовясь
воткнуть и вдарить и пихнуть
и снова спеть
в те старые добрые времена
в те очень очень очень
старые и добрые времена
до СПИДа.
каменная глыба
Нина была из них самой
трудной,
худшая баба, кого я знал
до тех пор
а сидел я перед
своим подержанным черно-белым
телевизором
смотрел новости
как вдруг услыхал подозрительный
звук с кухни
и выскочил туда
и увидел ее с
полной бутылкой виски —
с квинтой —
она ее сцапала
и уже направлялась к двери на заднее
крыльцо
но я поймал ее и
ухватился за пузырь.
«отдай бутылку,
ебаная блядь!»
и мы стали бороться за
бутылку
и должен вам сказать —
дралась она за нее
крепко
но
пузырь я отобрал
и велел ей
уносить свою задницу
отсюда.
она жила со мной в одном доме
на задворках
наверху.
я запер дверь
взял бутылку и
стакан
подошел к кушетке
сел и
открыл бутылку и
нацедил себе хорошую
порцию.
вырубил телик и
просто сидел
и думал, какая
Нина
трудная.
придумал
по крайней мере
дюжину гадостей
которые она мне
устроила.
вот же блядь.
вот глыба каменная.
я сидел и пил
виски
и понять не мог
что я вообще делаю
с этой Ниной.
потом
в дверь
постучали.
пришла подруга Нины
Хельга.
«где Нина?» —
спросила она.
«она пыталась украсть
у меня виски, я
ее выгнал на хер
отсюда».
«она сказала чтоб я
ждала ее тут».
«зачем?»
«она сказала мы с ней
сделаем это
у тебя на глазах
за $50».
«$25».
«она сказала $50».
«ну, ее тут
нет… выпить
хочешь?»
«еще б…»
я достал Хельге стакан
налил ей
виски.
она
жахнула.
«может, – сказала она, —
надо сходить за
Ниной».
«не хочу я ее
видеть».
«почему?»
«она блядь».
Хельга допила
и я налил
ей еще.
она
жахнула.
«меня Бенни блядью
называет, а я не
блядь».
Бенни – тот парень
с кем она
сошлась.
«я знаю, что ты не
блядь, Хельга».
«спасибо. А музона у тебя чё,
нету?»
«только радио…»
она увидала приемник
встала
включила
его.
заревела какая-то
музыка.
Хельга начала
танцевать
держа стакан с
виски в одной
руке.
танцевала она
так себе
смотрелась
нелепо.
вот остановилась
осушила стакан
запустила его по
коврику
и подбежала ко
мне
упала на колени
расстегнула мне ширинку
и давай
мне внизу
там
финтить.
я тоже осушил
стакан
налил еще.
она была
хороша.
с дипломом
колледжа
где-то на
Востоке.
«кончай меня, Хельга,
кончай!»
в переднюю
дверь
громко
постучали.
«ХЭНК, ХЕЛЬГА
У ТЕБЯ?»
«КТО?»
«ХЕЛЬГА!»
«МИНУТОЧКУ!»
«ЭТО НИНА, Я ДОЛЖНА
БЫЛА ВСТРЕТИТЬСЯ
ЗДЕСЬ С ХЕЛЬГОЙ, У НАС
ДЛЯ ТЕБЯ МАЛЕНЬКИЙ
СЮРПРИЗ!»
«ТЫ ПЫТАЛАСЬ УКРАСТЬ
У МЕНЯ ВИСКИ,
БЛЯДИНА!»
«ХЭНК, ВПУСТИ
МЕНЯ!»
«кончай, Хельга,
кончай!»
«ХЭНК!»
«Хельга, блядь ебаная…
Хельга! Хельга! Хельга!!»
я отстранился и
встал.
«впусти ее».
я зашел в
ванную.
когда я вышел, они
обе сидели у меня
пили и курили
смеялись о
чем-то.
потом заметили
меня.
«50 дубов», – сказала Нина.
«25 дубов», – ответил я.
«тогда мы ничего делать
не станем».
«тогда не делайте».
Нина затянулась
выдохнула.
«ладно,
дешевка, 25
дубов!»
Нина встала и
начала снимать
одежду.
она была из них всех
самой
трудной.
Хельга встала и
начала снимать
одежду.
я налил
виски.
«иногда непонятно,
что, к чертям, тут
вообще
происходит», – сказал
я.
«не беспокойся,
Папуля, принимайся
за дело!»
«что именно я
должен
делать?»
«да что
тебе, к ебеней маме,
хочется
делать», —
ответила Нина
а ее огромная задница
сияла
под
лампой.
поэзия
тут
нужно
много
отчаяния
неудовлетворения
и
разочарования
чтобы
написать
несколько
хороших
стихов.
не
всякий
может
хоть
написать
или даже
прочесть
их.
ужин, 1933
когда мой отец ел
его губы становились
сальными
от еды.
а когда ел
говорил о том как
хороша
еда
и как
большинство других
не кушает
так же хорошо
как
мы.
он любил
вымакивать
то что оставалось
на тарелке
кусочком
хлеба,
издавая в то же время
хвалебные звуки
скорее похожие
на полу-
хрюки.
он сёрбал свой
кофе
громко
булькая.
потом ставил
чашку
на стол:
«десерт? что —
желе?»
моя мама
вносила его
в большой миске
и отец
вычерпывал его
ложкой.
плюхаясь к
нему на тарелку
желе странно
хлюпало,
почти
пердело.
за ним шли
взбитые сливки,
целыми кучами
поверх
желе.
«а-ах! желе со
взбитыми сливками!»
мой отец всасывал
в себя желе и взбитые
сливки
с ложки —
они как будто
исчезали в
аэродинамической
трубе.
покончив с
ними
он вытирал
рот
огромной белой
салфеткой,
тер жестко
круговыми
движеньями,
салфетка закрывала
ему почти
все
лицо.
после этого
извлекались
сигареты
«Кэмел».
он зажигал одну
деревянной
хозяйственной спичкой,
затем помещал эту
спичку,
не погасив,
в
пепельницу.
еще сербок
кофе, чашку
на стол, и хорошая
затяжка
«Кэмелом».
«а-ах как
хорошо
покушали!»
несколько минут спустя
в спальне
на кровати
от той пищи что я
съел
и от того что я
видел
мне уже
становилось
худо.
одно только
было
хорошо —
слушать
сверчков
снаружи,
оттуда
из другого мира
в котором
я не
жил.
повезло же
мы сидели за общим столом,
мужчины и женщины
после ужина
и почему-то
разговор
зашел о
ПМС.
одна дама
твердо заявила, что
единственное средство от
ПМС —
старость.
были и другие
замечания
которые я забыл,
если не считать одного
сделанного тем
гостем из Германии,
один раз женатым,
ныне разведенным.
к тому же я видел
его с
энным количеством
прекрасных молодых
подружек.
как бы то ни было, послушав
тихонько
наш разговор
какое-то время
он спросил:
«что такое ПМС?»
воистину
вот человек
которого коснулись
ангелы.
свет был так
ярок
что мы
все
отвели глаза.
ночлежка
не жил ты
пока не побывал в
ночлежке
где ничего кроме одной
лампочки
и 56 мужиков
стиснутых вместе
на койках
и все
храпят
разом
а некоторые
храпки
так
глубоки и
гадки и
невероятны —
темные
сопливые
мерзкие
недолюдские
хрипы
аж из самого
ада.
разум твой
чуть не рушится
под бременем этих
звуков
смерти подобных
и
мешаются
запахи:
задубевшие
нестиранные носки
обоссанное и
обосранное
белье
а над всем этим
медленно циркулирует
воздух
очень похожий на тот
что исходит из
незакрытых
мусорных
баков.
и эти
тела
во тьме
жирные и
тощие
и
гнутые
некоторые
безноги
безруки
некоторые
бессмысленны
а хуже
всего:
полнейшее
отсутствие
надежды
оно окутывает
их
укрывает их
с головой.
это не
стерпимо.
ты
встаешь
выходишь
бредешь по
улицам
туда и
сюда по
тротуарам
мимо зданий
за
угол
и назад
по
той же самой
улице
думая
те люди
все были
детьми
когда-то
что же сталось
с
ними?
и что же
сталось
со
мной?
тут
снаружи
темно
и стыло
милостыня
иногда у меня просят
мелочь
по 3 или 4 раза
за двадцать минут
и в девяти случаях из
десяти я
подаю.
в тех одном-двух случаях
когда не подаю
у меня возникает инстинктивная
реакция
не подавать
и я
не подаю
но в основном я
лезу в карман и
даю
однако всякий раз
не могу не
вспомнить
как часто
пустоглазый
со шкурой присохшей к
ребрам
в башке невесомо и
безумно
я никогда не просил
никого
ни о чем
и дело было не в
гордости
просто я
не уважал
их
не считал их
достойными
людьми.
они были
враг
и до сих пор он же
когда я лезу
в карман
и
подаю.
ожидание
жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе
где каждый 3-й участок пустырь
и до апельсиновых рощ совсем
рукой подать —
если есть машина и
бензин.
жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе
для мужчины я слишком молод и слишком стар
для мальчишки.
трудные времена.
сосед попробовал обворовать наш
дом, мой отец поймал его
когда он лез в
окно,
прижал в темноте
к полу:
«ах ты, сукин сын,
падла!»
«Хенри, Хенри, отпусти,
отпусти меня!»
«сукин ты сын, да я тебя
порешу!»
мать позвонила в полицию.
другой сосед поджег себе дом
чтобы получить
страховку.
дело расследовали и
его посадили.
жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе,
делать нечего, пойти некуда, остается слушать
полные ужаса разговоры родителей
посреди ночи:
«что же мы будем делать? что делать
будем?»
«господи, да не знаю я…»
голодные псы в переулках, шкура липнет
к ребрам, шерсть повылазила, языки
вывалены, такие грустные глаза, печальнее любой
печали
на земле.
жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе,
соседи были тихи
а соседки походили на бледные
статуи.
в скверах полно социалистов,
коммунистов, анархистов, стоят на садовых
скамейках, разглагольствуют, агитируют.
солнце светило с ясного неба и
океан был чист
и мы были
ни мужчинами, ни
мальчишками.
кормили собак остатками черствого
хлеба
которые они пожирали благодарно,
глаза сияли в
изумлении,
хвосты виляли от такой
удачи
а
Вторая мировая надвигалась на нас,
даже тогда, в те
жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе.
те утра
до сих пор я помню тех нью-орлеанских крыс
на перилах балкона
в темноте раннего утра
пока стоял и ждал своей очереди в
сортир.
там всегда было две или три
крупных
они просто сидели – иногда
быстро перемещались,
замирали и снова садились.
я смотрел на них а они смотрели на
меня.
страха не выказывали.
наконец дверь сортира отворялась
и выходил
кто-нибудь из жильцов
причем всегда выглядел хуже
крыс
потом удалялся
по коридору
а я заходил в еще
вонявший сортир
со своим бодуном.
и почти всегда
стоило мне выйти
а крыс уже не было.
как только немного рассветало
они
испарялись.
и после этого
мир принадлежал
мне,
я спускался по лестнице
прямо в этот мир
к своей нищенской
жалкой
работе
все время помня о
крысах —
им было гораздо лучше
чем
мне.
я шел на работу а солнце
вставало жаркое
и шлюхи спали
как
младенцы.
к чему б ни прикоснулся
надеваешь свою рванину в старой нью-орлеанской
меблирашке,
вместе с кладовщицкой душонкой,
затем катишь зелененькую тележку мимо продавщиц,
которые
тебя не замечают, эти девчонки мечтают о добыче
покрупнее своими крохотными прямоугольными
умишками.
или в Лос-Анджелесе, возвращаешься с работы
в экспедиции склада
автомобильных запчастей, поднимаешься на лифте
в 319-й и находишь
свою женщину – растянулась на кровати, бухая к
6 часам вечера.
ты всегда был растяпой, выбирая их, тебе вечно
доставались
объедки, шизы, кирюхи, глатокеши.
может, лучшего ты не заслуживал, а может, лучшего не
заслуживали они.
ты шел в бары и там находил новых кирюх, глотарок, шиз.
им стоило лишь показать тебе пару хорошо вылепленных
лодыжек в
туфлях на шпильках.
ты громыхал по кроватям с ними вверх да вниз, словно
обнаружил
смысл
существования.
затем настал тот день на работе, когда приказчик Лэрри
подошел по
проходу с жирным брюхом своим и глазками-пуговками,
Лэрри всегда
громко топал ботинками на кожаной подошве и почти
всегда
насвистывал.
перестал свистеть и встал у твоего экспедиторского стола,
за каким ты
работал.
и тут начал раскачиваться взад-вперед, была у него такая
привычка, и вот
он стоял и качался, наблюдая за тобой, он был одним
из этаких шутников,
знаете
ли, потом засмеялся, тебе было паршиво после долгой
чокнутой
ночки, побриться забыл, рубашка драная.
«в чем дело, Лэрри?» – спросил ты.
и тогда он сказал: «Хэнк, к чему б ты ни прикоснулся, все
превращается в дерьмо!»
и ведь не поспоришь с ним насчет этого.
мойка машин
вылез, парень сказал: «эй!» – подошел ко
мне, пожали руки, сунул мне 2 красных
талончика на бесплатную мойку, «еще увидимся», —
сказал я, перешли с женой на
пятачок, где ждут, сели на лавочку снаружи.
подошел, прихрамывая, черный, сказал:
«эй, дядя, ну как оно?»
я ответил: «отлично, брат, сам-то как?»
«без проблем», – грит он и отваливает
протирать «кэдди».
«эти люди тебя знают?» – спросила жена.
«нет».
«а чего тогда с тобой разговаривают?»
«я им нравлюсь, люди меня всегда любили,
таков мой крест».
тут нашу машину домыли, парень махнул
мне тряпкой, мы встали, подошли
к машине, я сунул ему доллар, мы влезли, я
завелся, распорядитель подошел
к нам, здоровый кабан в темных очках, огромный просто,
расплылся в ухмылке: «рад тебя видеть,
дядя!»
я улыбнулся в ответ: «спасибо, но весело-то у тебя,
мужик!»
я выехал на трассу: «они тебя знают», —
сказала жена.
«конечно, – ответил я, – я там уже бывал».
мигание ставок
служитель автостоянки Бобби был смешным малым,
постоянно острил, ржал, у него
это хорошо получалось, он был оригинал,
иногда мне бывало погано, и
я слушал Бобби и
оживал.
не видел его 3 недели, спросил
других служителей, но они не знали
или принимались что-нибудь сочинять.
сегодня подъехал, а Бобби
на месте, форма мятая, просто
стоит и все, пока остальные
работают.
подошел к нему, он вроде бы
меня узнал, потом заговорил: «достало
меня сюда ехать, аж 3 часа
добирался!»
он не смеялся, вдруг как-то весь
растолстел, пряжка на ремне
1
Пер. И. Романовича. – Здесь и далее примечания переводчика.
2
Пер. А. Бронникова.
3
Имеется в виду Джон Мартин (р. 1930), редактор и издатель Буковски, основатель независимого издательства «Черный воробей» (Black Sparrow Press), возникшего в 1966 г. в Санта-Розе, Калифорния. Официальная история издательства завершилась в 2002 г. с уходом Мартина на пенсию.
4
Иронический привет основателю американского независимого издательства New Directions Джеймзу Локлину (1914–1997), основавшему его в 1936 г. по совету Эзры Паунда «заняться чем-нибудь полезным» после окончания Гарварда.