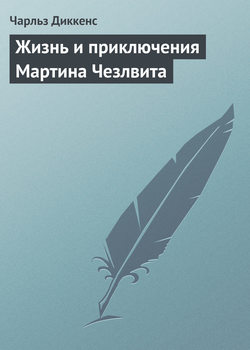Читать книгу Жизнь и приключения Мартина Чезлвита - Чарльз Диккенс - Страница 6
Глава V,
содержащая полный отчет о водворении нового ученика в доме семейства Пенсии ф. С описанием всех, торжеств, состоявшихся по этому случаю, и великой радости мистера Пинча
ОглавлениеЛучший из архитекторов и землемеров держал лошадь, в которой его враги, уже не раз упоминавшиеся на этих страницах, усматривали фантастическое сходство с хозяином. Не по внешности, ибо это была костлявая, заезженная кляча, получавшая гораздо меньше корма, чем мистер Пексниф, – но по нравственным качествам; ибо, как говорили, она много обещала и ровно ничего не делала. Она, так сказать, все собиралась пуститься вскачь, и никак не могла собраться. Бывало, еле-еле тащась по дороге, она вдруг начинала так высоко вскидывать ногами и проявлять такую дьявольскую прыть, что прямо не верилось, как это она делает меньше четырнадцати миль в час; и этой иллюзии было тем труднее противиться, что сама кляча вполне удовлетворялась собственной скоростью, и даже очная ставка с самыми ретивыми скакунами ее не смущала. Это была такого рода скотина, которая внушала живейшую надежду людям, мало с ней знакомым, и приводила в отчаяние всех, кто ее хорошо знал. В каком отношении, при означенных чертах характера, она могла бы, по справедливости, уподобиться своему хозяину, было ведомо одним только клеветникам этого добродетельного человека. Однако в том и заключается горькая истина, а также печальный пример людского недоброжелательства, что клеветники все же сравнивали лошадь с хозяином.
На этой-то лошади и на крытом экипаже, в который ее обычно впрягали, – какое бы название ему ни присвоить, он больше смахивал на пузатую двуколку, – и сосредоточились все помыслы и надежды мистера Пинча в одно ясное, морозное утро, ибо в этом щегольском экипаже он собирался ехать в Солсбери, с тем чтобы встретить там нового ученика и торжественно препроводить его в дом мистера Пекснифа.
Благословенно будь твое простое сердце, Томас Пинч! С какой гордостью ты застегиваешь подбитое ветром пальто, которое у тебя столько лет, по грустному недоразумению, называется «теплым»; как твердо ты веруешь, когда с неизменяющей тебе веселостью заклинаешь конюха Сэма «немножко попридержать лошадь», что это четвероногое сорвется с места и понесется вскачь, если его отпустить! Кто мог бы воздержаться от улыбки – сочувственной, Томас Пинч, а не обидной, – ибо, видит бог, ты и без того достаточно обижен судьбой, – наблюдая, с каким оживлением, радуясь предстоящему празднику, ты ставишь, едва отхлебнув, на кухонный подоконник белую кружку (приготовленную тобой еще с вечера, чтобы не задерживаться с завтраком) и кладешь на сиденье рядом с собой черствую корку, намереваясь съесть ее по дороге, после того как твое радостное волнение немного утихнет! Кто не воскликнул бы, глядя, – как ты выезжаешь из ворот, весь сияя, и с благодарностью и любовью кланяешься ночному колпаку Пекснифа, смутно виднеющемуся в окне его спальни: «Помоги тебе боже, Том, и пошли тебе тихий приют, где бы ты мог поселиться и жить мирно и где никакое горе не коснется тебя!»
Нет лучшей поры для прогулки по свежему воздуху пешком, верхом или в экипаже, чем ясное, морозное утро, когда надежда быстро гонит по жилам горячую кровь и щекочет все тело от головы до пяток! Как весело начинался бодрящий зимний день, который мог бы вогнать в краску томительное лето (особенно, когда оно прошло) и пристыдить весну за то, что она никогда не бывает по-настоящему холодна. Овечьи колокольчики позванивали так бодро в морозном воздухе, словно могли чувствовать на себе его живительное влияние; деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль, – Тому он казался ничуть не хуже бриллиантов. Из деревенских труб струей высоко-высоко поднимался дым, – словно земля, блистая белизной, уже не терпела ничего грязного и стремилась освободиться от темного дыма. Ледяная корка на ручье, еще недавно подернутом рябью, была так прозрачна и тонка, будто живая струя остановилась по собственной воле, – так казалось Тому в его радости, – чтобы полюбоваться чудесным утром. А для того чтобы солнце не нарушило этого очарования слишком быстро, между ним и землей стлался тонкий туман, похожий на тот, что застилает луну летними вечерами, – на взгляд Тома, это был тот же самый туман, – и, казалось, молил солнце сжалиться и не гнать его прочь.
Том Пинч ехал не быстро, зато с таким чувством, будто летит во весь опор, – что было совершенно одно и то же: и все, что он видел по дороге, как бы сговорилось о том, чтобы развеселить его еще больше. Например, как только он завидел издалека шлагбаум – очень еще издалека! – жена сторожа, которая в это время пропускала какую-то подводу, бросилась опрометью обратно в сторожку сказать мужу, что едет мистер Пинч! И в самом деле, когда Том подъехал ближе, из домика гурьбой высыпали дети сторожа, крича тонкими голосами: «Мистер Пинч!» – к великой радости Тома. Сторож, неприветливый, в общем, человек, которого все порядком побаивались, вышел сам, чтобы получить с него дорожный сбор[18], и угрюмо пожелал ему доброго утра; и все это вместе взятое, а также вид всего семейства, завтракавшего перед огнем за круглым столиком, придало черствой корке Тома Пинча совсем особенный вкус, как будто ее отрезали от волшебной ковриги.
Но этого еще мало. Не одни только женатые люди и дети здоровались с мистером Пинчем по дороге. Нет, нет. Блестящие глаза и белоснежные шейки тоже подбегали к окнам верхних этажей, заслышав стук его экипажа, и отвечали на его поклон не скупясь, полной мерой. Все они были веселы. Все улыбались. А самые шаловливые даже посылали Тому воздушные поцелуи, когда он оборачивался. Потому что кто же принимал всерьез ми-пера Пинча? Он, бедняжка, и мухи не обидит.
А утро между тем так прояснилось, и все кругом глядело так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там такое творится», – Том нимало не сомневался, что оно так и сказало, – взошло над землей во всем своем лучезарном величии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь; и когда он рассеялся, горы, холмы и отдаленные пастбища, полные степенных овец и крикливых ворон, развернулись ярко, словно новые, нарочно созданные для этого случая. Стремясь приветствовать их появление, ручей уже не стоял неподвижно, а заторопился дальше, неся эту новость на мельницу, за три мили отсюда.
Мистер Пинч трясся по дороге, полный приятных мыслей и в самом радужном настроении, как вдруг увидел на тропинке впереди себя пешехода, который быстрой и легкой походкой шагал в том же направлении что и мистер Пинч, распевая на ходу, пожалуй, чересчур громким, но зато не лишенным музыкальности голосом. Это был малый лет двадцати пяти или шести, в куртке нараспашку, надетой так свободно и небрежно, что длинные концы красного шарфа то развевались по ветру у него за спиной, то перекидывались на грудь, а пучок красных зимних ягод в петлице его бархатной куртки был виден мистеру Пинчу не хуже, чем если бы эта куртка была надета задом наперед. Он пел не умолкая и с таким увлечением, что не слышал стука колес до тех пор, пока двуколка не поравнялась с ним; только тогда он оглянулся, и мистер Пинч увидел его чудаковатое лицо с очень веселыми голубыми глазами.
– Как, это вы, Марк? – останавливаясь, сказал мистер Пинч. – Вот уж не думал увидеть вас здесь! Ну-ну, удивительное дело!
Веселость Марка сразу пошла на убыль, и, дотронувшись до шляпы, он ответил, что направляется в Солсбери.
– Да каким же вы франтом! – сказал мистер Пинч, разглядывая его с большим удовольствием. – Право, не думал, что вы так любите щеголять, Марк!
– Спасибо, мистер Пинч! Это за мною водится, верно. Но я, знаете ли, не виноват. А насчет франтовства, сэр, так вот в этом-то, понимаете, и все дело. – И тут он стал особенно мрачен.
– В чем же? – спросил мистер Пинч.
– В этом-то и вся заковыка. Легко быть веселым и приветливым, когда хорошо одет. Чем же тут хвалиться? Вот если бы я был весь в лохмотьях, да веселый, – тогда это кое-что бы значило, мистер Пинч.
– Так вы для того и пели сейчас, чтобы не расстраиваться из-за хорошей одежды, да, Марк? – спросил Пинч.
– Вы всегда скажете, сударь, будто в книжку поглядели, – весело ухмыльнулся Марк. – Как раз угадали.
– Ну, Марк! – воскликнул мистер Пинч. – Такого чудака, как вы, я, право, первый раз в жизни вижу. Мне всегда так казалось, а теперь я окончательно убедился. Я тоже еду в Солсбери. Хотите, подвезу. Буду очень рад вашему обществу.
Молодой человек поблагодарил его и тут же принял предложение; садясь в экипаж, он пристроился на самом краешке сиденья, совсем на весу, давая этим понять, что он тут только по любезности мистера Пинча. Дорогой они продолжали разговаривать.
– А я, видя вас таким франтом, – сказал мистер Пинч, – чуть было не решил, что вы собираетесь жениться, Марк.
– Да что ж, сэр, я и сам об этом думал, – отвечал Марк. – Пожалуй, не так-то легко быть веселым, когда есть жена, да еще дети хворают корью, а она к тому же сварливая баба. Только боюсь и пробовать. Не знаю, что из этого получится.
– Может быть, вам никто особенно не нравится? – спросил Пинч.
– Особенно, пожалуй, что и нет, сударь.
– А знаете ли, Марк, с вашими взглядами вам именно следовало бы жениться на такой особе, чтобы не нравилась и была неприятного характера.
– Оно и следовало бы, сэр, только это уж значит хватить через край. Верно?
– Пожалуй, что верно, – сказал мистер Пинч. И оба они весело рассмеялись.
– Господь с вами, сэр, – сказал Марк. – Плохо же вы меня знаете, как я погляжу. Не думаю, чтобы нашелся, кроме меня, человек, который при случае мог бы показать, чего он стоит, в таких условиях, когда всякий другой был бы просто несчастен. Только вот случая нет. Я так думаю, никто даже и не узнает, на что я способен, разве только подвернется что-нибудь из ряда вон выходящее. А ничего такого не предвидится. Я ухожу из «Дракона», сэр!
– Уходите из «Дракона»! – воскликнул мистер Пинч, глядя на него в величайшем изумлении. – Да что вы, Марк! Я просто опомниться не могу, так вы меня удивили!
– Да, сэр, – отвечал Марк, смотря прямо перед собой куда-то вдаль, как смотрят иной раз, глубоко задумавшись. – Что толку оставаться в «Драконе»? Для меня там вовсе не место. Когда я приехал из Лондона (я ведь родом из Кента) и поступил на эту должность, я думал, что в таком глухом углу скучища должна быть зверская, что другой такой дыры нигде в Англии не сыскать, а значит, и быть веселым здесь не очень легко; есть чем похвалиться. А какая же в «Драконе» скука, где там! Кегли, крикет, лапта, городки, хоровое пение, комические куплеты; зимой каждый божий вечер собирается у очага целая компания, – кто угодно будет веселым в «Драконе». Чем тут особенно хвалиться!
– Однако, если верить молве, Марк, – а я думаю, на этот раз ей можно верить, потому что и сам видел кое-что, – сказал мистер Пинч, – без вас там не было бы такого веселья; вы первый всему зачинщик и коновод.
– Может, это и так, сэр, – ответил Марк. – Только это все же не утешение.
– Да!.. – сказал мистер Пинч после короткого молчания, и его обыкновенно тихий голос прозвучал еще тише. – У меня все не идет из головы то, что вы сказали. Как же так? Что же теперь будет с миссис Льюпин?
Марк, глядя куда-то еще дальше и еще сосредоточеннее, ответил, что для нее, надо думать, это большой разницы не составит. Найдется сколько угодно бойких молодых парней, которые только рады будут занять его место. Он и сам знает таких не меньше десятка.
– Вполне возможно, – сказал мистер Пинч, – но я отнюдь не уверен, что миссис Льюпин им будет рада. А ведь я всегда думал, что вы с миссис Льюпин поженитесь, Марк, да и все так думали, насколько мне известно.
– Я ей ничего такого не говорил, – отвечал Марк, несколько смутившись, – что прямо походило бы на объяснение, и от нее ничего такого не слышал, да ведь как знать, мало ли что мне взбредет в голову на досуге, да и она мало ли что может ответить. Нет, сэр. Это мне не подойдет.
– Не подойдет быть хозяином «Дракона», Марк? – воскликнул мистер Пинч.
– Нет, сэр, ни в коем случае не подойдет, – возразил Марк, отводя взгляд от горизонта и обращая его на своего спутника. – Это сущая погибель для такого человека, как я. Да я там преспокойно просижу всю жизнь, и никто никогда не узнает, на что я гожусь. Что тут особенного, если хозяин в «Драконе» веселый? Он не может не быть веселым, сколько ни старайся.
– А миссис Льюпин знает, что вы намерены ее покинуть? – осведомился мистер Пинч.
– Я еще ей не говорил, сэр, а сказать придется. Нынче утром я собираюсь поискать что-нибудь другое, более подходящее, – сказал он, кивая в сторону Солсбери.
– Что же именно? – спросил мистер Пинч.
– Я подумывал, – отвечал Марк, – насчет какой-нибудь должности вроде могильщика.
– Господь с вами, Марк! – воскликнул мистер Пинч.
– Отличная должность, сударь, в смысле сырости и червей, – сказал Марк, убежденно кивая головой, – и быть веселым при таком занятии – дело нелегкое; одно только меня пугает, что могильщики, как на грех, ребята веселые. Не знаете ли вы, сэр, отчего это так бывает?
– Нет, – сказал мистер Пинч, – право, не знаю. Никогда над этим не задумывался.
– На случай, ежели с этим ничего не выйдет, – продолжал Марк размышлять вслух, – имеются, знаете ли, и другие занятия. Гробовщика хотя бы. Невеселая штука. Тогда еще было бы чем похвалиться. Служить у закладчика в бедном квартале, пожалуй, тоже недурно. Тюремщик видит немало горя. Лакей у доктора тоже – у него на глазах постоянно людей морят. У судебного пристава тоже не очень-то веселая должность. Даже и сборщику налогов бывает тошно глядеть на чужое горе. Да мало ли еще что может подвернуться подходящее, думается мне.
Мистер Пинч был до того огорошен этими соображениями, что у него пропала всякая охота разговаривать, и он только время от времени ронял слово или два о чем-нибудь маловажном, искоса поглядывая на жизнерадостное лицо своего чудака приятеля, по-видимому совершенно не замечавшего, что за ним наблюдают. Так продолжалось, пока они не доехали до поворота дороги, почти на окраине города; здесь Марк сказал, что хотел бы сойти, с позволения мистера Пинча.
– Господи помилуй, Марк, – сказал мистер Пинч, который во время своих наблюдений успел сделать открытие, что куртка у его спутника распахнута, словно среди лета, и под рубашку то и дело забирается ветер, – почему вы не носите жилета?
– А какая от него польза, сэр? – спросил Марк.
– Какая польза? – сказал мистер Пинч. – Такая, что грудь в тепле.
– Господь с вами, сэр, – воскликнул Марк, – не знаете вы меня, вот что! Зачем это мне нужно держать грудь в тепле? А если даже нужно, так что со мной может случиться без жилета? Ну, схвачу воспаление легких. Что ж, тем больше мне чести, ежели при воспалении легких я буду веселый.
Так как мистер Пинч не мог найти на это подходящего ответа и только тяжело вздыхал, округлив глаза и усиленно кивая головой, Марк поблагодарил за одолжение и соскочил на ходу, чтобы не затруднять мистера Пинча остановкой. И легко, словно танцуя, он зашагал по тропе, в куртке нараспашку, в развевающемся красном шарфе, изредка оборачиваясь, чтобы кивнуть мистеру Пинчу, – самый беззаботный, добродушный и чудаковатый малый из всех, какие водятся на свете. Его недавний спутник, сильно призадумавшись, продолжал свой путь в Солсбери.
Мистер Пинч подозревал в душе, что Солсбери одно из самых злачных мест во всей Англии, что это разгульный и развращенный город, а потому, поставив лошадь в конюшню и дав конюху понять, что зайдет часика через два взглянуть, вдоволь ли у нее овса, он отправился прогуляться по улицам со смутной и довольно приятной мыслью, что там должно быть полным-полно всяких тайн и соблазнов. Этому маленькому заблуждению способствовало то обстоятельство, что день был базарный и переулки вокруг площади были сплошь заставлены подводами, лошадьми, ослами, корзинками, тележками, завалены овощами, говядиной, требухой, пирогами, птицей и лотками с товаром всех возможных сортов и видов. Кроме того, тут были молодые крестьяне и старые крестьяне – в блузах, коричневых куртках, серых куртках, красных вязаных шарфах, гамашах, шляпах невиданных фасонов, с арапниками и самодельными дубинками в руках, – которые стояли кучками, или громко разговаривали на трактирном крыльце, или получали и отсчитывали целые пачки засаленных бумажек из таких толстых бумажников, что вытаскивать их из кармана грозило апоплексией, а запихивать обратно – спазмами в желудке. Кроме того, тут были крестьянки в касторовых капорах и красных накидках, правившие лохматыми лошадками, чуждыми всяким земным страстям, которые преспокойно везли своих хозяек куда угодно, не интересуясь, зачем это нужно, и в случае надобности могли бы стоять как вкопанные в посудной давке, с полным обеденным сервизом возле каждого копыта, а также великое множество собак, весьма заинтересованных состоянием рынка и сделками своих хозяев; и великое смешение двух языков – скотского и человеческого.
Мистер Пинч глядел на все выставленное для продажи с большим удовольствием, особенно же на лоток бродячего ножовщика, настолько его прельстивший, что им тут же был приобретен карманный ножичек с семью лезвиями, из которых ни одно не резало, как мистер Пинч обнаружил впоследствии. Осмотрев базарную площадь и удостоверившись, что фермеры сели обедать, он вернулся приглядеть за своей лошадью. Убедившись, что она наелась до отвала, Том опять вышел побродить по городу и полюбоваться окнами лавок; сначала он нагляделся досыта на банк и погадал, где именно под землей находятся те подвалы, в которых хранят золотую монету; потом обернулся и посмотрел вслед двум-трем повстречавшимся ему молодым людям, которые, как ему было известно, находились в обучении у городских нотариусов и внушали ему известное уважение, смешанное со страхом, так как вели весьма рассеянный образ жизни и были, что называется, развеселые ребята.
А самые лавки! Прежде всего тут были ювелирные лавки со всеми сокровищами мира, выставленными в окне; и такие большие серебряные часы висели там за каждым окном, что если ход у них и был неважный, то уж, конечно, не оттого, что для механизма не хватило места. По правде сказать, они казались достаточно велики и достаточно безобразны, для того чтобы быть самыми образцовыми механизмами на свете. На взгляд мистера Пинча, однако, они были миниатюрнее швейцарских часов; а когда он увидел, что одни часы луковицей рекомендуются как часы с репетицией, наделенные редкой способностью вызванивать каждую четверть часа в кармане их счастливого обладателя, ему даже захотелось быть настолько богатым, чтобы купить их.
Но что были золото и серебро, драгоценности и хронометры по сравнению с книжными лавками, откуда шел приятный запах свежей печатной бумаги, мгновенно будя воспоминание о какой-нибудь новой грамматике, по которой он когда-то, давным-давно, учился в школе, – с надписью «Томас Пинч, пансион Гров-Хаус», выведенной отличнейшим почерком на заглавном листе! А этот легкий запах сафьяна, а все эти ряды томов, аккуратно выстроенные один над другим, – какую радость они сулили! В окне были выставлены, радуя глаз, последние лондонские издания, раскрытые на заглавном листе, а иногда даже и на первой странице первой главы, что подстрекало неосмотрительных людей начать чтение, а потом, из-за невозможности перевернуть страницу, ринуться внутрь и купить книжку! Тут были изящные фронтисписы и тонкие виньетки, указывающие, подобно придорожным столбам на окраинах больших городов, на богатую событиями жизнь, которая скрывается за ними; и книги с благообразными портретами авторов, имена которых, хорошо известные мистеру Пинчу, были освящены временем, – много он отдал бы за то, чтобы иметь их труды, в каком угодно издании, на узенькой полочке рядом со своей кроватью, в доме мистера Пекснифа. Просто мучение, а не лавка!
Была тут еще и другая лавка – не то, что первая, но все же завидное место, – где продавались детские книги и где бедняга Робинзон стоял одиноко во всем своем величии, с топором и собакой, в шапке из козьей шкуры и с ружьем, и спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей вокруг него[19], призывая мистера Пинча в свидетели, что только он один из всей этой толпы оставил на песках мальчишеской памяти свой след, который бессильна стереть поступь новых поколений. Были тут и персидские сказки о летающих сундуках и волшебниках, многие годы корпящих в пещерах над колдовскими книгами; был тут и купец Абдалла, и страшная старуха, выскочившая из сундука в его спальне; и могучий талисман – несравненные сказки «Тысячи и одной ночи», с Касим-бабой, разделенным на четыре части и подвешенным к потолку разбойничьей пещеры, словно призрак головоломной арифметической задачи. Все эти бесценные сокровища, мгновенно завладев мистером Пинчем, так оттерли и отчистили волшебную лампу в его душе, что, когда он опять повернулся лицом к шумной улице, к его услугам был уже целый хоровод видений, и он снова радостно переживал счастливые дни допекснифовских времен.
Он проявил гораздо меньше интереса к лавкам аптекарей с большими, горящими, как жар, бутылями (весь блеск которых собран в пробках), где медицина не без приятности сочеталась с парфюмерией в изготовлении ароматических леденцов и девичьей кожи. Не выказал он также ни малейшего внимания (что и всегда за ним водилось) к портновским лавкам, где вывешены были новейшие фасоны столичных жилетов, которые, в силу какой-то странной метаморфозы, в лавке всегда выглядели отлично, а на заказчиках делались ни на что не похожи. Зато он остановился у театра прочесть афишу и поглядел на вход с известного рода трепетом, который отнюдь не уменьшился, когда из дверей вышел джентльмен с восковым лицом и длинными волосами и велел какому-то мальчишке сбегать к нему на квартиру за палашом. Услышав это, мистер Пинч замер в восхищении и простоял бы так до темноты, если бы колокол старинного собора не зазвонил к вечерне, после чего мистеру Пинчу удалось сдвинуться с места.
Помощник органиста дружил с Томасом Пипчем – и очень кстати, ибо он тоже был смирный малый и в школе тоже вел себя, как мальчик из хрестоматии, хотя даже озорники его любили. К счастью, случилось так (Том всегда говорил, что ему везет), что помощник органиста в этот день работал один и на пыльных хорах с ним не было никого, кроме Тома; так что Том помогал ему переводить регистр, пока он играл, а потом, когда служба кончилась, и сам уселся за орган. Вечерело, и к желтому свету, струившемуся сквозь старинные окна на хорах, примешивался зловещий тускло-красный оттенок. Когда величавые аккорды огласили церковь, мистеру Пинчу почудилось, будто на них отзывается эхом каждая из древних гробниц, так же как и сокровенная глубина его собственного сердца. Мысли и надежды волной хлынули в его душу, когда стройные звуки музыки сотрясли воздух, и среди них, исполненные нового, важного смысла и значения, но в существе своем те же самые, – были все впечатления этого дня, вплоть до смутных воспоминаний детства. Чувство, которое пробуждали эти звуки в краткий миг своего существования, казалось, обнимало всю его жизнь, всю его душу; и по мере того как окружающая действительность из камня, стекла и дерева расплывалась и пропадала во мраке, эти видения становились все ярче, и Том совсем позабыл бы про нового ученика и ожидающего их обоих наставника и просидел бы так до полуночи, изливая благодарное сердце, если бы не дряхлый грубиян причетник, который непременно желал запереть церковь, не медля ни минуты. И мистер Пинч распрощался со своим приятелем, рассыпавшись в благодарностях, ощупью выбрался из темноты на уже освещенные фонарями улицы и поспешил в гостиницу обедать.
К этому времени все крестьяне разъехались по домам, и никого уже не было в усыпанной песком зале той гостиницы, где мистер Пинч на конюшне оставил свою лошадь; поэтому он попросил придвинуть маленький столик поближе к огню и с аппетитом принялся за отлично поджаренный бифштекс с дымящимся горячим картофелем, радуясь его превосходным качествам и вообще наслаждаясь жизнью вовсю. Рядом с тарелкой стояла кружка бесподобного вильтширского пива; и все это вместе взятое было так чудесно, что мистер Пинч вынужден был время от времени класть нож и вилку на скатерть и потирать руки в глубоком умилении. Когда подали сыр с сельдереем, мистер Пинч вытащил книжку из кармана и доканчивал обед уже не торопясь – то покушает немножко, то выпьет пива, то почитает, то остановится, раздумывая, каким человеком окажется новый ученик. Покончив с этим предметом размышления, он погрузился в книжку, как вдруг дверь отворилась, и вошел посетитель, напустив при этом такого холода, что сначала положительно казалось, будто он совсем загасил огонь в камине.
– Очень сильный мороз нынче, сэр, – сказал новый гость, учтиво выражая признательность мистеру Пинчу, который отодвинулся со своим столиком, уступая место пришельцу. – Не беспокойтесь, пожалуйста, прошу вас.
Проявив этим должное внимание к удобствам мистера Пинча, он тем не менее пододвинул большое кожаное кресло к самому очагу, и уселся прямо перед огнем, поставив ноги на решетку.
– Ноги у меня совсем окоченели. Да, мороз жестокий!
– Вы, должно быть, долго пробыли на холоде? – спросил мистер Пинч.
– Весь день. Да еще на козлах кареты.
«Оттого-то он и в комнату напустил такого холода, – подумал мистер Пинч. – Бедняга! То-то, должно быть, промерз до костей».
Незнакомец тоже задумался и молча просидел минут пять или десять перед огнем. Наконец он встал с места и освободился от шали и пальто, очень теплого и толстого (по сравнению с верхней одеждой мистера Пинча). Однако, сняв пальто, он ничуть не стал разговорчивее, ибо снова уселся на то же место и в той же позе и, откинувшись на спинку стула, принялся грызть ногти. Он был молод – лет двадцати, быть может, – и красив, с быстрыми умными глазами и живостью взгляда и движений, которая заставила Тома еще сильнее почувствовать собственную мешковатость и сделаться еще застенчивее обыкновенного.
В комнате были часы, на которые незнакомец то и дело поглядывал. Том тоже нередко с ними справлялся, отчасти из сочувствия к своему молчаливому товарищу, отчасти же потому, что новый ученик должен был зайти за ним в половине седьмого, а стрелки уже подвигались к этому часу. Всякий раз как незнакомец перехватывал его взгляд, устремленный на часы. Томом овладевало какое-то замешательство, точно его поймали врасплох на чем-то нехорошем; и молодой человек, быть может заметив его тревогу, сказал с улыбкой:
– Как видно, мы с вами оба очень интересуемся временем. Дело в том, что я должен встретиться тут с одним джентльменом.
– И я тоже, – сказал мистер Пинч.
– В половине седьмого, – сказал незнакомец.
– В половине седьмого, – сказал Том одновременно с ним, на что молодой человек ответил изумленным взглядом.
– Молодой джентльмен, которого я ожидаю, – робко заметил Том, – должен был спросить в половине седьмого человека по фамилии Пинч.
– Боже мой! – воскликнул тот, вскакивая с места. – А я еще все время загораживал от вас огонь! Я понятия не имел, что вы и есть мистер Пинч. Я тот самый мистер Мартин, которого вы ждете. Пожалуйста, извините меня. Придвигайтесь ближе, прошу вас!
– Благодарю, – сказал Том, – благодарю вас. Мне вовсе не холодно, а вы озябли; нам же еще предстоит ехать по морозу. Хотя, что ж, если вам угодно, я придвинусь. Я… я очень рад, – сказал Том с особенной, свойственной ему, открытой и смущенной улыбкой, которая так ясно говорила о том, что он сознает все свои недостатки и просит снисхождения у собеседника, как будто он попросту написал все это на бумаге, – очень рад, что вы и есть тот человек, которого я дожидался. Я только что подумал, минуту тому назад, как хорошо было бы, если бы он был похож на вас.
– Мне приятно это слышать, – отвечал Мартин, опять пожимая ему руку, – уверяю вас, я и сам думал, какое это было бы счастье, если бы мистер Пинч оказался похож на вас.
– Нет, в самом деле? – откликнулся Том, очень довольный. – Вы не шутите?
– Честное слово, нет, – отвечал его новый знакомец. – Мы с вами отлично сойдемся, я уж знаю; и это для меня немалое облегчение. Сказать вам по правде, я вовсе не такой человек, чтобы мог сходиться со всяким, и на этот счет у меня были большие сомнения. Но теперь они рассеялись. Будьте так любезны, позвоните, пожалуйста.
Мистер Пинч вскочил с места и бросился выполнять эту просьбу с величайшей живостью (звонок был над самой головой у Мартина, который продолжал греться), с улыбкой слушая то, что говорил его новый друг.
– Если вы любите пунш, позвольте мне заказать для нас по стакану самого горячего, чтобы как следует ознаменовать начало нашей дружбы. Сказать вам по секрету, мистер Пинч, я никогда еще не нуждался так в чем-нибудь горячительном и подкрепляющем; но, не зная, что вы за человек, я не хотел пить при вас, потому что первое впечатление, видите ли, очень много значит, и сглаживается оно не скоро.
Мистер Пинч позволил, и пунш был заказан. В свое время он появился на столе, горячий и крепкий. Выпив этот дымящийся напиток за здоровье друг друга, они пустились в откровенности.
– Я до некоторой степени родня Пекснифу, знаете ли, – сказал молодой человек.
– Неужели? – воскликнул мистер Пинч.
– Да. Мой дедушка приходится ему двоюродным братом, так что мы с ним какие-то там родственники, если вы в этом можете разобраться. Я не в состоянии.
– Значит, вас зовут Мартином? – в раздумье спросил мистер Пинч. – О!
– Разумеется, Мартином, – отвечал его друг. – А лучше бы «Мартин» была моя фамилия, потому что она у меня не из благозвучных и подписывать ее очень долго. Моя фамилия Чезлвит.
– Боже мой! – воскликнул мистер Пинч, невольно подскочив.
– Неужели вас удивляет, что у меня есть и имя и фамилия? – отозвался Мартин, поднося стакан к губам. – Это не редкость!
– Нет, нет. – сказал мистер Пинч, – ничуть. О боже мой, нисколько! – И припомнив, что мистер Пексниф под большим секретом просил его ничего не говорить о пожилом джентльмене с той же фамилией, остановившемся в «Драконе», напротив, воздержаться от всяких упоминаний о нем. он не нашел другого способа скрыть свое смущение, как тоже поднести стакан ко рту. Некоторое время они глядели друг на друга поверх своих стаканов и, допив их до дна, поставили на стол.
– Я велел там, на конюшне, запрягать к этому времени, – сказал мистер Пинч, опять взглядывая на часы. – Поедемте?
– Если вам угодно, – отвечал тот.
– Может быть, вы хотите править? – спросил мистер Пинч и просиял, сознавая всю заманчивость такого предложения. – А то правьте, если вам хочется.
– Ну, это зависит от того, какая у вас лошадь, – отвечал Мартин, улыбаясь. – Потому что если она плохая, так я лучше засуну руки в карманы, чтобы они не мерзли.
Он, видимо, был очень доволен своей шуткой, и поэтому мистеру Пинчу она тоже весьма понравилась. Он тоже засмеялся и тогда уже совершенно уверился в том, что шутка отличная. После того он уплатил по счету, а мистер Чезлвит заплатил за пунш, и, закутавшись потеплее, каждый как мог, они направились к выходу, где движимость мистера Пекснифа загораживала им дорогу.
– Нет, спасибо, я не буду править, – сказал Мартин, усаживаясь на место седока. – Кстати, тут у меня сундучок. Нельзя ли его как-нибудь пристроить?
– О, разумеется! – сказал Том. – Дик, поставь его куда-нибудь.
Сундук был не таких удобных размеров, чтобы его можно было сунуть иуда угодно, но конюх Дик все же впихнул его кое-как с помощью мистера Чезлвита. Сундук оказался под ногами у мистера Пинча, и мистер Чезлвит выразил опасение, не будет ли это беспокоить мистера Пинча, на что Том ответил: «Нисколько», хотя ему из-за этого приходилось сидеть в весьма неудобной позе, мешавшей ему видеть что-либо, кроме собственных колен. Однако плох тот ветер, который никому не приносит добра; справедливость этой пословицы подтвердилась в ту же минуту, ибо морозный ветер задувал со стороны Тома и сундук вместе с Томом образовал такую плотную стену между ветром и новым учеником, что Мартин был как нельзя лучше защищен от стужи, и это было весьма утешительно.
Вечер был ясный, и ярко светила луна. Все кругом серебрилось от инея и лунного света, и местность казалась необыкновенно красивой. Сначала, под влиянием мира и безмятежной тишины, разлитой в природе, молодые люди молчали; но спустя немного, от пунша и бодрящего воздуха, они сделались необыкновенно разговорчивы и болтали без умолку. Когда путники остановились на полдороге напоить лошадей, Мартин (который не жалел своих денег) заказал еще один стакан пунша, и они выпили его пополам, отчего сделались еще разговорчивее. Главным предметом беседы был, натурально, мистер Пексниф и его семейство; и Том со слезами на глазах говорил о своих благодетелях в таких выражениях, что каждый человек, не лишенный сердца, должен был преклониться перед семейством Пексниф, чего мистер Пексниф, разумеется, не мог предвидеть и о чем решительно не подозревал, иначе он (по свойственной ему скромности) никогда не послал бы мистера Пинча за новым учеником. Так ехали они путем-дорогой, как говорится в сказках, пока, наконец, не замелькали перед ними огоньки селения и длинная тень колокольни не легла на кладбищенскую траву, словно на циферблат часов (увы, самых верных на свете!); покорная движению светил, отмечает она быстротекущие дни, недели и годы вечно меняющейся тенью на этой священной земле.
– Церковь недурна! – сказал Мартин, видя, что его спутник замедлил и без того медленный бег лошади, когда они подъехали ближе.
– Не правда ли? – отозвался Том с большой гордостью. – И орган в ней небольшой, но очень приятного тона. Я на нем играю.
– Вот как! – сказал Мартин. – Сдается мне, что это едва ли стоит труда. И много вы получаете?
– Ничего ровно, – ответил Том.
– Ну, знаете ли, – возразил его друг, – вы, я вижу, большой чудак.
Последовало краткое молчание.
– Когда я сказал «ничего», – заметил мистер Пинч жизнерадостно, – я ошибся и сказал совсем не то, что думал, потому что это доставляет мне огромное удовольствие и возможность провести несколько счастливых часов. А на днях мне выпало на долю и еще кое-что… только вы, я думаю, вряд ли захотите слушать.
– Нет, отчего же. А что это было?
– Я видел, – сказал Том, понизив голос, – самое милое и самое красивое лицо, какое вы только можете себе представить.
– Уж я-то могу представить себе такое лицо, – задумчиво сказал его друг, – если у меня не вовсе отшибло память.
– Она пришла в первый раз, – сказал Том, кладя руку ему на плечо, – очень рано утром, когда еще только светало; и когда я обернулся и увидел, что она стоит в дверях, то весь даже похолодел: мне сначала показалось, что это видение. Через минуту я, конечно, опомнился; и слава богу, что так скоро, – я даже не перестал играть.
– Почему же «слава богу»?
– Почему? Потому что она стояла и слушала. Я был в очках и видел ее из-за занавеса так же ясно, как вижу вас; это была красавица. Немного погодя она исчезла, а я играл, пока она могла слышать.
– Для чего же вы это делали?
– Неужели вы не понимаете? – отвечал Том. – Она могла подумать, что я ее не видал, и прийти еще раз.
– И она пришла?
– Конечно. И на следующее утро и вечером тоже; и все в такое время, когда никого не было, и всегда одна. Я вставал раньше и сидел в церкви дольше, чтобы двери были отперты, когда она придет, и орган играл, иначе она огорчилась бы. Несколько дней подряд она приходила в церковь и всегда оставалась послушать. Но теперь она уехала; и из самого невероятного на этом свете всего невероятнее, что я еще когда-нибудь увижу ее.
– Вы ничего больше о ней не знаете?
– Нет.
– И вы ни разу за ней не пошли?
– Зачем я стал бы ее беспокоить? – сказал Том Пинч. – Разве она нуждалась в моем обществе? Она приходила слушать орган, а не видеться со мной; так ради чего я спугнул бы ее с места, которое так ей полюбилось? Нет, господь ее храни! – воскликнул Том. – Чтобы доставить ей хоть минутную радость, я играл бы на органе каждый день до самой старости; я был бы счастлив, если бы, вспоминая о музыке, она вспоминала заодно и беднягу музыканта, и вознагражден сверх меры, если бы она когда-нибудь подумала и обо мне, вспоминая о том, что ей так мило.
Новый ученик был, видимо, изумлен таким малодушием мистера Пинча и, вероятно, сказал бы ему об этом и, пожалуй, дал бы хороший совет, но в эту минуту они подкатили к дому мистера Пекснифа – к парадным дверям на этот раз, ибо случай был торжественный и радостный. Лошадь принял тот самый конюх, которого мистер Пинч заклинал нынче утром придержать ретивое животное; поручив его заботам это четвероногое и шепотом попросив мистера Чезлвита никогда, ни единым звуком не обмолвиться о том, что было ему доверено в избытке чувств, Томас Пинч повел нового ученика в дом, для безотлагательного представления мистеру Пекснифу.
Мистер Пексниф явно не ожидал их так скоро: он был окружен раскрытыми книгами и, держа во рту карандаш, а в руке компас, заглядывал то в один, то в другой том с великим множеством математических чертежей, таких замысловатых с виду, что их можно было принять за схематическое изображение фейерверка. Мисс Черри тоже не ожидала их и потому, сидя перед объемистой плетеной корзинкой, занималась шитьем каких-то немыслимых ночных колпаков для бедных. Мисс Мерри тоже не ожидала их и, примостившись на своей скамеечке, примеряла – о боже милостивый! – юбку большой кукле, которую она наряжала для соседской девочки; да, это была совсем взрослая барышня-кукла, и оттого мисс Мерри сконфузилась еще больше; а кукольную шляпку она прицепила на ленте к одному из своих белокурых локонов, чтобы эта шляпка не потерялась или кто-нибудь на нее не сел. Было бы весьма затруднительно и даже просто невозможно представить себе семейство, застигнутое врасплох до такой степени, как семейство Пексниф на этот раз.
– Боже мой! – воскликнул мистер Пексниф, поднимая глаза и меняя рассеянное выражение лица на радостно-удивленное. – Уже здесь! Мартин, дорогой мой мальчик, я в восторге, что вижу вас в моем скромном жилище.
С этим любезным приветствием мистер Пексниф принял Мартина в свои объятия и несколько раз похлопал его по спине правой рукой, будто не в силах был выразить своих чувств словами.
18
Дорожный сбор – сбор за право проезда по дорогам – один из пережитков феодализма, сохранявшийся в английском законодательстве до середины XIX века.
19
…Робинзон… спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей… – Имеется в виду роман Даниеля Дефо (1660–1731) «Робинзон Крузо» (1719). Это произведение породило несметное количество подражаний, одним из которых является роман, вышедший в 1727 году под названием: «Несравненные страдания и удивительные приключения Филиппа Кворла, англичанина, который был обнаружен бристольским купцом м-ром Доррингтоном на необитаемом острове в Южном море, где он жил около 50 лет без всякого человеческого общества, и откуда не хотел выезжать».