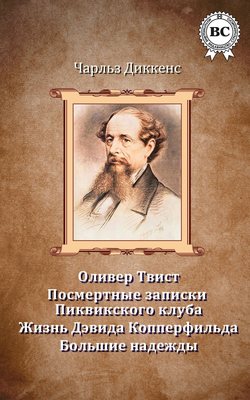Читать книгу Сочинения - Чарльз Диккенс - Страница 14
Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим
Глава XIII
К чему привело мое решение
ОглавлениеКто знает, может быть, и мелькала у меня безумная мысль бежать до самого Дувра, когда я отказался от погони за парнем с тележкой и направил свои стопы к Гринвичу. Если и мелькнула у меня такая мысль, то я быстро опомнился, ибо сделал остановку на Кент-роуд, на площадке с бассейном и какой-то огромной нелепой статуей посредине, трубившей в сухую раковину. Здесь я присел на приступку у чьей-то двери, измученный, ослабевший от непомерного напряжения, и у меня уже не хватало сил оплакивать потерю сундучка и полгинеи.
К тому времени стемнело; я слышал, как пробило десять часов, пока я сидел и отдыхал. Но, к счастью, ночь была летняя и погожая. «Когда я отдышался и стеснение в груди прошло, я встал и пошел дальше. Несмотря на все свое отчаяние, я и не помышлял о том, чтобы вернуться назад. Вряд ли я подумал бы об этом, даже если бы на Кент-роуд возвышались сугробы Швейцарии.
Однако, хотя я и продолжал путь, меня тревожила мысль о том, что всем моим достоянием были три монеты по полпенни (право же, дивлюсь, как они уцелели у меня в кармане до субботнего вечера). Мне представилось, будто я читаю газетную заметку о том, как меня нашли мертвым через день или два под чьим-то забором; и в унынии я плелся дальше, – хотя и старался идти побыстрее, – пока не случилось мне поравняться с лавчонкой, на которой висело объявление, что здесь покупают платье леди и джентльменов и принимают по наивысшей цене тряпки, кости и негодную кухонную утварь. Хозяин, облаченный в жилет, сидел у двери лавчонки и курил, а так как с низкого потолка свешивалось множество сюртуков и штанов и освещены они были только двумя тускло горевшими свечами, то мне почудилось, что этот человек похож на некое мстительное существо, которое перевешало всех своих врагов и теперь радуется и веселится.
Недавний мой опыт, приобретенный благодаря мистеру и миссис Микобер, подсказал мне, что здесь я, пожалуй, найду способ хоть ненадолго отогнать призрак голодной смерти. Я свернул в ближайший переулок, снял жилет, аккуратно сложил его и, сунув под мышку, вернулся к лавке.
– Простите, сэр, я бы хотел продать это по сходной цене, – сказал я.
Мистер Доллоби, – во всяком случае, это имя значилось на вывеске, – взял жилет, поставил свою трубку стоймя, прислонив ее к дверному косяку, вошел вместе со мной в лавку, снял пальцами нагар с обеих свечей, разложил жилет на прилавке и посмотрел на него, потом стал его рассматривать, держа против света, и в конце концов сказал:
– Какую ты назначаешь цену за эту куцую жилетку?
– О, вам лучше знать, сэр, – скромно ответил я.
– Я не могу быть и покупателем и продавцом, – возразил – мистер Доллоби. – Назначай свою цену за эту куцую жилетку.
– Нельзя ли получить за нее восемнадцать пенсов? – после некоторого колебания осведомился я.
Мистер Доллоби снова свернул жилет и вручил мне,
– Я бы ограбил свое семейство, если бы дал за нее девять пенсов, – сказал он.
Такая манера вести дело была неприятна, ибо на меня, совершенно чужого человека, возлагалась тяжелая обязанность просить мистера Доллоби, чтобы он ради меня ограбил свое семейство. Однако обстоятельства мои были столь затруднительны, что я выразил желание получить девять пенсов, если он на это согласен. Поворчав немного, мистер Доллоби дал девять пенсов. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел из лавки, разбогатев на эту сумму и лишившись жилетки. Но когда я застегнул свою куртку, эта потеря оказалась не так уж велика.
В сущности, я уже предвидел, что куртка последует за жилетом и что большую часть пути до Дувра мне придется пройти в рубашке и штанах, и я могу почитать себя счастливым, если доберусь до цели даже в таком одеянии. Но я раздумывал об этом меньше, чем можно было предположить. Если не считать общих соображений касательно длинной дороги и долговязого парня с тележкой, который так жестоко со мной обошелся, мне кажется, у меня не было вполне отчетливого представления об ожидающих меня трудностях, когда я снова тронулся в путь с девятью пенсами в кармане.
В голове у меня зародился план, как устроиться на эту ночь, – план, который я собирался привести в исполнение. Заключался он в том, чтобы примоститься у ограды позади моей старой школы, там, где обычно стоял стог сена. Мне чудилось, что я буду чувствовать себя не таким одиноким, находясь неподалеку от мальчиков и от дортуара, где я, бывало, рассказывал свои истории, хотя мальчики и не будут знать о моем присутствии, а дортуар не приютит меня в своих стенах.
День выдался для меня тяжелый, и я был уже совсем без сил, когда взобрался, наконец, на Блекхит. Не так легко было отыскать Сэлем-Хаус, но все-таки я нашел его, нашел и стог сена в уголке и улегся, зайдя сначала за ограду, посмотрев вверх, на окна, и убедившись, что всюду темно и тихо. Никогда не забыть мне чувства одиночества, охватившего меня, когда я первый раз в жизни лег спать под открытым небом!
Сон спустился ко мне, как спустился он в ту ночь и ко многим другим отщепенцам, перед которыми были заперты двери домов и на которых лаяли дворовые собаки, и мне снилось, будто я лежу на моей старой школьной кровати, разговаривая с мальчиками; но когда я очнулся, я сидел на земле, шепча имя Стирфорта и дико глядя на звезды, искрившиеся и мерцавшие над моей головой. Тут я вспомнил, где я нахожусь в этот поздний час, и какое-то странное чувство охватило меня; боясь неведомо чего, я встал и побродил вокруг. Но тускнеющее мерцание звезд и бледный свет на небе – там, где занималась заря, – вернули мне спокойствие, а так как веки мои отяжелели, я снова лег и заснул, – хотя я и во сне чувствовал, что было холодно. – и спал, пока меня не разбудили теплые лучи солнца и утренний звон колокола в Сэлем-Хаусе. Если бы я мог надеяться, что Стирфорт еще здесь, я притаился бы где-нибудь, поджидая, когда он выйдет один; но я знал, что он должен был давно уже покинуть школу. Трэдлс, может быть, еще оставался, но это было весьма сомнительно; к тому же у меня не было желания открыться ему, ибо, вполне полагаясь на его доброе сердце, я не очень-то верил в его рассудительность и счастливую звезду. Вот почему я крадучись отошел от ограды в то время, как ученики мистера Крикла поднимались с кроватей, и двинулся по длинной пыльной дороге, которую знал под названием Дуврской еще в ту пору, когда был одним из этих учеников и когда мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может увидеть меня, плетущимся по ней так, как плелся я сейчас.
Как непохоже было это воскресное утро на воскресные утра в Ярмуте! Бредя вперед, я услышал в обычный час звон колоколов, встретил людей, идущих в церковь, миновал одну или две церкви, где собрались прихожане и откуда вырывалось наружу пение, в то время как бидл сидел и прохлаждался в тени у входа или стоял под тисовым деревом и, прикрыв рукою глаза от солнца, сердито смотрел на меня, проходящего мимо. Мир и покой воскресного утра осеняли все и всех, кроме меня. И в этом была разница. Грязный, весь в пыли, со спутанными волосами, я чувствовал себя настоящим грешником. Если бы не вызывал я в памяти трогательной картины, – моя мать, юная, и прекрасная, плачет у камина, и, глядя на нее, умиляется душой бабушка, – мне кажется, у меня не хватило бы в тот день мужества продолжать путь. Но эта картина неизменно возникала передо мной и влекла меня за собою.
В то воскресенье я прошел двадцать три мили, хотя и выбился из сил, так как не привык к таким переходам. Как сейчас вижу я себя: вот я иду под вечер по Рочестерскому мосту, усталый, со стертыми ногами, и ем хлеб, который купил себе на ужин. Несколько домиков с вывесками «Комнаты для путешественников» соблазняли меня, но я боялся истратить последние свои пенсы, а еще больше боялся злобных взглядов бродяг, которых встречал или обгонял по пути. Поэтому я не искал другой кровли, кроме небесного свода, и, с трудом дотащившись до Четема – ночью он кажется призрачным сооружением из мела, со своими подъемными мостами и похожими на Ноев ковчег судами без мачт на мутной реке, – я взобрался, наконец, на какую-то поросшую травой площадку для батареи, нависавшую над тропинкой, по которой шагал взад и вперед часовой. Здесь я улегся возле пушки и крепко проспал до утра, обрадованный близостью шагавшего часового, хотя обо мне, расположившемся над его головой, он знал не больше, чем знали мальчики в Сэлем-Хаусе о том, что я лежу у ограды.
Утром я был весь разбит, ноги ныли, и я был совершенно ошеломлен барабанным боем и топотом маршировавших солдат, которые как будто надвигались на меня со всех сторон, когда я стал спускаться вниз, на длинную и узкую улицу. Чувствуя, что сегодня я могу пройти лишь очень небольшое расстояние, если хочу сберечь силы для завершения моего путешествия, я решил прежде всего продать куртку. Я тотчас снял с себя куртку, чтобы приучить себя обходиться без нее, и, неся ее под мышкой, приступил к осмотру лавок готового платья.
Продать куртку оказалось нетрудным делом: торговцев подержанным платьем было много, и почти все они подстерегали клиентов, стоя в дверях. Но так как многие из них вывесили среди разных других вещей один-два офицерских мундира с эполетами, то солидный характер их торговых операции привел меня в смущение, и я долго шел, не решаясь предложить свой товар.
Скромность побудила меня отдать предпочтение лавкам для матросов и лавчонкам, подобным лавчонке мистера Доллоби. и отвлекла мое внимание от более пристойных заведений. Наконец я отыскал одну, которая показалась мне многообещающей и находилась на углу грязного закоулка, упиравшегося в огороженный пустырь, поросший крапивой; на перекладинах изгороди развевалась поношенная матросская одежда, очевидно переполнившая лавку до отказа, и тут же виднелись складные койки, заржавленные ружья, клеенчатые шапки и несколько подносов, заваленных таким количеством старых, заржавленных ключей всевозможных размеров, что, казалось, они подошли бы ко всем дверям на белом свете.
В эту лавчонку, низенькую и маленькую, которую скорее затемняло, чем освещало завешенное одеждой оконце, я вошел, спустившись на несколько ступеней, вошел с трепещущим сердцем и отнюдь не почувствовал успокоения, когда из грязной конуры позади лавки выскочил безобразный старик, обросший щетинистой седой бородой, и схватил меня за волосы. На вид это был ужасный старик в омерзительно грязном жилете, и от него несло ромом. В каморке, откуда он вышел, стояла кровать, покрытая измятым и рваным лоскутным одеялом, и было еще одно оконце, за которым виднелись все те же крапива и хромой осел.
– Ох, что тебе нужно? – скривив рот, спросил старик злобным, хнычущим голосом. – Ох, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, легкие мои, печень, что тебе нужно? Ох, гр-ру, гр-ру!
Я пришел в такой ужас от этих слов – в особенности от последнего, непонятного и произнесенного дважды, которое звучало так, словно у него в горле была трещотка, – что ничего не мог ответить. Тогда старик, все еще держа меня за волосы, повторил:
– Ох, что тебе нужно? Ох, глаза мои, ноги мои, руки, что тебе нужно? Ох, легкие и печень, что тебе нужно? Ох, гр-ру!
Это слово он выкрикнул столь энергически, что глаза его чуть не выскочили из орбит.
– Я хотел узнать, не купите ли вы куртку, – дрожа, пролепетал я.
– Ох, посмотрим эту куртку! – крикнул старик. – Ох, сердце мое в огне, покажи нам эту куртку! Ох, глаза мои, ноги мои, руки, подавай эту куртку!
Он выпустил мои волосы из своих трясущихся рук, похожих на когти огромной птицы, и надел очки, которые отнюдь не украсили его воспаленных глаз.
– Ох, сколько за эту куртку? – крикнул старик, предварительно осмотрев ее. – Ох… гр-ру!.. Сколько за эту куртку?
– Полкроны, – ответил я, немного оправившись.
– Ох, легкие мои и печень, нет! – крикнул старик. – Ох, глаза мои, нет! Ох, ноги мои и руки, нет! Восемнадцать пенсов. Гр-ру!
Каждый раз при этом восклицании его глазам, казалось, грозила опасность выскочить из орбит, и каждую фразу он произносил нараспев, словно на какой-то мотив, всегда один и тот же, больше всего, пожалуй, напоминавший завывание ветра, которое начинается на низких нотах, потом взбирается все выше и, наконец, снова замирает, – другого сравнения я не могу подыскать.
– Ну, что ж, я возьму восемнадцать пенсов, – сказал я, радуясь заключению сделки.
– Ох, печень моя! – воскликнул старик, швырнув куртку на полку. – Ступай вон из лавки! Ох, легкие мои, ступай вон из лавки! Ох, глаза мои, ноги мои и руки… гр-ру! денег не проси! Давай меняться.
Никогда в жизни, ни до, ни после этого, не был я так испуган; все же я смиренно сказал ему, что мне нужны деньги, а все остальное мне ни к чему, но, если ему угодно, я готов подождать денег на улице и торопить его не собираюсь. Затем я вышел на улицу и уселся в углу, в тени. Здесь просидел я много часов, тень уступила место солнечному свету, солнечный свет снова уступил место тени, а я все сидел и ждал денег.
Полагаю, среди подобного рода торговцев не нашлось бы второго такого сумасшедшего пьяницы. Что он хорошо известен в округе и про него идет молва, будто он продал душу дьяволу, это я скоро понял благодаря визитам, наносимым ему мальчишками, которые все время вертелись около лавки и разглашали эту легенду, требуя, чтобы он принес свое золото.
– Не прикидывайся, Чарли, сам знаешь, что ты не бедняк! Тащи-ка сюда свое золото! Тащи золото, за которое продался дьяволу! Живей, Чарли! Оно зашито в тюфяке! А ну-ка, вспори тюфяк и дай нам немножко золота!
Эти выкрики и многочисленные предложения одолжить ему для этой цели нож приводили его в такое исступление, что в течение целого дня он то и дело выбегал из лавки, а мальчишки то и дело пускались наутек. В ярости своей он иной раз принимал меня за одного из них, бросался ко мне с пеной у рта, словно хотел разорвать на куски, потом, узнав меня в последний момент, нырял в лавчонку и, судя по звукам, доносившимся оттуда, валился на кровать и орал, как безумный, распевая на свой лад «Смерть Нельсона»[33] и вставляя перед каждым стихом «ох!», а в промежутках бесчисленные «гр-ру!». В довершение всех бед мальчишки, заметив, с каким терпением и настойчивостью я, полуодетый, сижу у лавки, установили мою связь с эти заведением, принялись швырять в меня камнями и весь день жестоко меня обижали.
Старик делал немало попыток вынудить у меня согласие на мену: то он выходил с удочкой, то со скрипкой, то с треуголкой, то с флейтой. Но я уклонялся от всех предложений и продолжал сидеть, охваченный отчаянием, всякий раз со слезами на глазах умоляя его отдать мне деньги или вернуть куртку. Наконец он начал выплачивать мне по полпенни, и прошло добрых два часа, прежде чем у меня постепенно набрался шиллинг.
– Ох, глаза мои, ноги мои и руки! – после длинной паузы воскликнул он тогда, с отвратительной гримасой выглядывая из лавки. – Уйдешь ты, если я дам еще два пенса?
– Не могу, я умру с голоду, – сказал я.
– Ох, легкие мои и печень! А если еще три пенса, тогда уйдешь?
– Я ушел бы и так, если бы мог, но мне до зарезу нужны деньги, – ответил я.
– Ох, гр-ру!
Право же, невозможно передать, как он вывинчивал из себя это восклицание, когда посматривал на меня из-за дверного косяка, так что было видно только его злое, старое лицо.
– А если четыре пенса, тогда уйдешь?
Я так ослабел и устал, что принял это предложение, взял не без трепета деньги из его когтистой руки и ушел незадолго до заката солнца, терзаемый таким голодом и такой жаждой, каких никогда еще не ощущал. Но, истратив три пенса, я вскоре совсем оправился и, придя в лучшее расположение духа, проковылял семь миль по дороге.
На ночлег я снова расположился у стога сена и спокойно заснул, предварительно вымыв в ручье покрытые волдырями ноги и кое-как обложив их холодными листьями. Наутро, вновь тронувшись в путь, я обнаружил, что дорога тянется вдоль хмельников и фруктовых садов. Лето близилось к концу, в садах рдели спелые яблоки, и кое-где уже начался сбор хмеля. Все это показалось мне удивительно красивым, и я решил провести эту ночь в хмельнике, полагая, что длинные ряды жердей, обвитых изящными гирляндами листьев, составят мне приятную компанию.
В тот день бродяги были еще назойливее, чем раньше, и внушили мне такой страх, что память о нем свежа и по сие время. Некоторые из них походили на разбойников, они таращили на меня глаза, когда я проходил мимо, или останавливались и кричали мне вслед, чтобы я вернулся потолковать с ними; когда же я пускался наутек, они швыряли вдогонку камни. Запомнился мне один молодой парень с женщиной – вероятно, странствующий медник, судя по его сумке и жаровне, – который уставился на меня, а потом заорал таким зычным голосом, приказывая вернуться, что я приостановился и оглянулся.
– Иди, коли зовут! – крикнул медник. – А не то я из тебя все кишки выпушу!
Я почел наиболее благоразумным вернуться. Когда я к ним приблизился, стараясь всем своим видом умилостивить медника, я заметил, что у женщины подбит глаз.
– Куда идешь? – спросил медник, закопченной рукой вцепившись в мою рубашку.
– Иду в Дувр, – ответил я.
– Откуда? – спросил медник, закручивая мою рубашку, чтобы покрепче меня держать.
– Иду из Лондона, – ответил я.
– Чем промышляешь? – спросил медник. – Воришка?
– Нет, что вы! – сказал я.
– Что? Не воришка? Черт подери! Если будешь хвастать своей честностью, я тебе голову проломлю! – сказал медник.
Он угрожающе замахнулся свободной рукой, а затем осмотрел меня с головы до пят.
– Есть у тебя деньги на пинту пива? Если есть, выкладывай, покуда я их сам не отобрал!
Несомненно, я отдал бы деньги, если бы не встретился глазами с женщиной, которая слегка покачала головой и беззвучно прошептала: «Нет!»
– Я очень беден, у меня нет денег, – сказал я, пытаясь улыбнуться.
– Это что еще значит? – крикнул медник, вперив в меня столь грозный взгляд, что я испугался, уж не видит ли он у меня в кармане деньги.
– Сэр!.. – пролепетал я.
– Это что такое? Почему у тебя на шее шелковый платок моего брата? – вопросил медник. – Подай-ка его сюда!
В одну секунду он сорвал с меня платок и швырнул его женщине.
Женщина громко захохотала, словно принимая это за шутку, и, швырнув мне назад платок, снова, как и раньше, слегка качнула головой и беззвучно прошептала: «Уходи!» Но не успел я последовать ее совету, как медник с такой силой вырвал у меня из рук платок, что я отлетел, словно перышко; потом он накинул платок себе на шею, с проклятьем повернулся к женщине и ударом кулака сшиб ее с ног. Никогда не забыть мне, как она упала навзничь на каменистую дорогу, как слетел с нее чепец, а волосы побелели от пыли; и не забыть мне, как я, отойдя, оглянулся и увидел, что она сидит на тропинке, тянущейся по придорожной насыпи, и уголком шали вытирает кровь с лица, а медник шагает дальше.
Это приключение нагнало на меня такой страх, что теперь, завидев издали бродяг, я поворачивал назад, прятался в укромном местечке и ждал, пока они не скроются из виду. Случалось это очень часто и являлось нешуточной помехой на моем пути. Но и эту беду, и все другие беды, с какими сталкивался я во время моего путешествия, мне как будто помогала переносить созданная моей фантазией картина – образ моей юной матери перед появлением моим на свет. Он был со мной неотлучно. Он был со мною там, в хмельнике, когда я лег спать; он был со мною утром при пробуждении; он влек меня за собой весь день. С той поры он всегда встает передо мной, когда я вспоминаю солнечную улицу Кентербери, словно дремлющего в горячем свете, его древние дома и арки, и величественный серый собор, и грачей, летающих вокруг башен. Когда я вышел, наконец, на пустынное широкое плато близ Дувра, этот образ озарил унылый пейзаж лучом надежды, и только на шестой день после побега, когда я достиг главной цели своего путешествия и вступил в самый город, – тогда только покинул он меня. Да, вот что странно: когда я, в рваных башмаках, запыленный, обожженный солнцем, полураздетый, вошел в город, к которому так долго стремился, образ матери исчез, как сновидение, покинув меня, беспомощного и удрученного.
Я начал наводить справки о моей бабушке прежде всего среди лодочников и получал самые разнообразные ответы. Один сказал, что она живет на маяке Саут-Форленд и там опалила себе бакенбарды; другой – что ее привязали крепко-накрепко к большому бакену за гаванью и посещать ее можно только в часы между приливом и отливом; третий – что ее посадили в тюрьму Мейдстон за кражу детей; четвертый – что во время последней бури видели, как она села на помело и полетела прямехонько в Кале. Извозчики, к которым я потом обратился, давали такие же шутливые и такие же непочтительные ответы, а лавочники, не одобряя внешнего моего вида, не желали дослушать до конца и обычно отвечали, что им нечего мне дать. С той поры как я убежал, ни разу еще я не чувствовал себя таким несчастным и обездоленным. Деньги я все истратил, продать было нечего. Меня терзали голод и жажда, силы мои иссякли, а цель казалась все такою же далекой, как если бы я и не покидал Лондона.
Утро ушло на эти расспросы, и, наконец, я присел у порога пустой лавки близ рынка и задумался о том, не направить ли мне свои стопы к другим городкам, упомянутым в письме, как вдруг проезжавший мимо извозчик уронил попону. Когда я поднял се, добродушное лицо этого человека придало мне храбрости, и я спросил, не может ли он сказать, где живет мисс Тротвуд, хотя этот вопрос я задавал так часто, что слова застывали у меня на губах.
– Тротвуд? – отозвался он. – Постой-ка, я рту фамилию знаю. Старая леди?
– Да, немолодая, – ответил я.
– Держится очень прямо? – продолжал он и сам выпрямился.
– Да, кажется так, – сказал я.
– Носит с собой сумку? – спросил он. – Очень большую сумку? Сердитая особа, так и накидывается на людей?
Сердце у меня екнуло, когда я признал безусловную точность этого описания.
– Ну, так вот что я тебе скажу, – продолжал извозчик, – если ты поднимешься вон туда, – он указал кнутом в сторону холмов, – и пойдешь все прямо, пока не увидишь домов у моря, думаю, там ты услышишь о ней.
Только вряд ли она что-нибудь подаст, так вот возьми пенни.
С благодарностью я принял подаяние и купил себе хлеба. Подкрепляясь на ходу, я побрел в том направлении, какое указал мне добрый человек, и прошел немало, а домов, о которых он говорил, все не было. Наконец я увидел вдали несколько домиков и, приблизившись к ним, вошел в лавочку (такие лавки у нас обычно называли мелочными) и осведомился, не могут ли мне сказать, где живет мисс Тротвуд. Я обращался к мужчине за прилавком, – он отвешивал рис какой-то девице, – но та, думая, что вопрос задан ей, быстро обернулась.
– Моя хозяйка? – воскликнула она. – Что тебе нужно от нее, мальчик?
– Простите, я хотел бы поговорить с ней, – ответил я.
– Верно, выклянчить что-нибудь! – отрезала девица.
– Право же, нет! – сказал я.
Но, вспомнив вдруг, что именно таково было мое намерение, я в смущении замолчал и почувствовал, как румянец залил мне лицо.
Девушка, которая, судя по ее словам, была служанкой моей бабушки, положила рис в корзинку и вышла из лавки, сказав мне, что я могу следовать за ней, если хочу узнать, где живет мисс Тротвуд. Я не ждал вторичного приглашения, хотя меня охватил такой страх и я так волновался, что ноги у меня подкашивались. Я последовал за девицей, и вскоре мы подошли к хорошенькому маленькому коттеджу с веселыми окнами-фонарями; перед коттеджем был четырехугольный усыпанный гравием дворик или садик, где чудесно благоухали цветы, за которыми заботливо ухаживали.
– Это дом мисс Тротвуд, – объявила девица. – Теперь ты его видишь, и больше мне нечего тебе сказать.
С этими словами она убежала в дом, словно снимая с себя ответственность за мое появление, а я остался один у калитки и безутешно смотрел поверх нее на окно гостиной, где видна была кисейная занавеска, посредине раздвинутая, большой круглый зеленый экран или веер, укрепленный на подоконнике, маленький столик и громадное кресло, внушившие мне опасения, что, быть может, в эту самую минуту в нем восседает величественно и грозно моя бабушка.
К тому времени мои башмаки пришли в печальное состояние. Подметки постепенно отвалились, а сверху кожа потрескалась и лопнула, так что они ни видом своим, ни формой уже не походили на обувь. Шляпа (служившая мне и ночным колпаком) была так сплющена и помята, что самая старая дырявая кастрюля без ручки, валяющаяся в мусорной куче, могла бы преспокойно соперничать с ней. Моя рубашка и штаны, загрязнившиеся от пота, росы, травы и кентской земли, на которой я спал, и вдобавок разорванные, могли бы отпугивать птиц от бабушкиного сада, покуда я стоял у калитки. Волосы мои не знали ни гребня, ни щетки с той поры, как я ушел из Лондона. От непривычно долгого пребывания на открытом воздухе и солнцепеке мое лицо, шея и руки загорели до черноты. С головы до пят я был осыпан меловой пылью, словно вылез из печи для обжигания извести. Вот в каком плачевном состоянии, мучительно это сознавая, я собирался встретиться с моей грозной бабушкой и медлил, прежде чем впервые предстать пред ней.
Спустя некоторое время, когда нерушимая тишина за окном гостиной навела меня на мысль, что бабушки там нет, я поднял глаза к окну во втором этаже, где увидел румяного, симпатичного седовласого джентльмена, который забавно прищурил один глаз, несколько раз кивнул мне головой, столько же раз покачал ею, улыбнулся и скрылся.
Я и без того уже был растерян, а теперь, видя такое странное поведение, растерялся еще больше и готов был улизнуть, чтобы поразмыслить, как мне надлежит действовать, но в эту минуту из дома вышла леди в платке, повязанном поверх чепца, в садовых перчатках, с садовой сумкой на животе, напоминающей суму сборщика дорожных пошлин, и с большим ножом. Я тотчас признал в ней мисс Бетси, потому что, выйдя из дома, она прошествовала с такою же важностью, с какой шествовала по нашему саду в бландерстонском Грачевнике, о чем так часто рассказывала моя бедная мать.
– Вон отсюда! – сказала мисс Бетси, тряхнув головой и рассекая воздух ножом. – Вон отсюда! Мальчишек сюда не пускают!
С трепещущим сердцем я смотрел, как она проследовала в угол сада и, наклонившись, принялась выкапывать какой-то корешок. Потом, окончательно упав духом, но движимый отчаянием, я потихоньку вошел в сад и, остановившись подле нее, тронул ее пальцем.
– Простите, сударыня… – начал я. Она вздрогнула и подняла глаза.
– Простите, бабушка…
– Что? – вскричала мисс Бетси таким удивленным юном, какого я никогда еще не слыхивал.
– Простите, бабушка, я ваш внук.
– О господи! – сказала бабушка. И села прямо на дорожку.
– Я Дэвид Копперфилд из Бландерстона в Суффолке, где вы были в ту ночь, когда я родился, и видели мою дорогую маму. Я был очень несчастен с тех пор, как она умерла. Обо мне не заботились, ничему меня не учили, бросили на произвол судьбы, заставили взяться за работу, которая мне никак не подходит. Вот потому-то я и убежал, и пришел к вам. В первый же день меня ограбили, всю дорогу я шел пешком и за все это время ни разу не спал в постели.
Тут я вдруг потерял самообладание и, разведя руками, чтобы показать ей мое оборванное платье и призвать его в свидетели перенесенных мною страданий, разразился рыданиями, которые, вероятно, накопились во мне за всю эту неделю.
Бабушка, лицо которой не выражало решительно никаких чувств кроме беспредельного изумления, сидела на гравии и смотрела на меня во все глаза, пока я не разрыдался, а тогда она быстро встала, схватила меня за шиворот и потащила в гостиную. Там она первым делом открыла высокий стенной шкаф, достала оттуда несколько бутылок и влила мне в рот понемножку из каждой. Должно быть, она хватала их наугад, потому что, помню, я почувствовал вкус анисовой водки, анчоусного соуса и приправы к салату. Угостив меня этими подкрепляющими средствами и видя, что я продолжаю истерически всхлипывать и не могу сдержать себя, она уложила меня на диван, подсунула мне под голову шаль, а под ноги свой собственный платок с головы, чтобы я не запачкал обивки, затем уселась за упомянутым мною зеленым веером или экраном, так что я не видел ее лица, и начала восклицать: «Господи, помилуй!» – словно стреляя из пушки с промежутками в одну минуту. Немного погодя она позвонила в колокольчик.
– Дженет. – сказала бабушка, когда в комнату вошла служанка, – поднимись наверх, передай мой привет мистеру Дику и скажи, что я хочу с ним поговорить.
Дженет как будто удивилась при виде меня, неподвижно лежащего на диване (я не смел пошевельнуться, опасаясь вызвать неудовольствие бабушки), однако пошла исполнять поручение. Бабушка, заложив руки за спину, шагала взад и вперед по комнате, пока не вошел, улыбаясь, тот самый джентльмен, который подмигивал мне из верхнего окна.
– Мистер Дик, – сказала моя бабушка, – не прикидывайтесь дурачком, потому что никто не может быть более рассудителен, чем вы, стоит вам того пожелать. Все мы это знаем. А стало быть – не прикидывайтесь дурачком.
Джентльмен мгновенно сделал серьезное лицо и, показалось мне, посмотрел на меня так, словно умолял не заикаться об окне.
– Мистер Дик, вы слышали от меня о Дэвиде Копперфилде? – продолжала бабушка. – Не притворяйтесь, будто у вас нет памяти, мы-то с вами знаем, что это не так.
– Дэвид Копперфилд? – переспросил мистер Дик, который, по моему мнению, мало что об этом помнил. – Дэвид Копперфилд? О да, конечно! Дэвид… разумеется.
– Ну так вот это его мальчик, его сын, – сказала бабушка. – Он был бы вылитый отец, если бы не был похож также и на свою мать.
– Его сын? – повторил мистер Дик. – Сын Дэвида? Неужели?
– Да, – подтвердила бабушка, – и недурную придумал он проделку. Он убежал. Ах, его сестра, Бетси Тротвуд, никогда бы не убежала!
Бабушка решительно тряхнула головой, вполне полагаясь на характер и поведение девочки, которая так и не родилась.
– О! Вы думаете, она бы не убежала? – спросил мистер Дик.
– Господи, спаси и помилуй этого человека! – сердито воскликнула бабушка. – О чем это он толкует? Да разве я не знаю, что она бы не убежала? Жила бы она со своей крестной матерью, и были бы мы привязаны друг к другу. Сделайте милость, скажите, куда и откуда могла бы бежать его сестра Бетси Тротвуд?
– Никуда, – сказал мистер Дик.
– Ну вот, – отозвалась бабушка, смягченная его ответом, – так зачем же вы прикидываетесь простофилей, когда ум у вас острый, как ланцет хирурга? Здесь вы видите перед собой Дэвида Копперфилда младшего, и я вам задаю вопрос, что мне с ним делать?
– Что вам с ним делать? – беспомощно повторил мистер Дик, почесывая голову. – О! Что с ним делать?
– Да, – с важной миной подтвердила моя бабушка, подняв указательный палец. – Говорите же! Мне нужен здравый совет.
– Ну, что ж, будь я на вашем месте, – задумчиво начал мистер Дик, устремив на меня рассеянный взгляд, – я бы…
Созерцание моей особы, казалось, внушило ему какую-то мысль, и он бодро добавил:
– Я вымыл бы его!
– Дженет! – произнесла бабушка, обращаясь к служанке с тихим торжеством, которое было мне в ту пору непонятно. – Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Согрей воду для ванны. – Хотя я и был глубоко заинтересован этим разговором, но в то же время невольно разглядывал мою бабушку, мистера Дика и Дженет и заканчивал уже начатый мною осмотр комнаты.
Бабушка моя была леди высокого роста со строгим, но благообразным лицом. В ее физиономии, в ее голосе, в ее походке и осанке было что-то непреклонное, чем вполне объясняется впечатление, произведенное ею на такое кроткое существо, как моя мать; однако черты лица у нее были скорее красивые, хотя жесткие и суровые.
Особенно обратил я внимание на ее живые, блестящие глаза. Седые волосы ее были причесаны просто, на пробор, и прикрыты чепцом, который я назвал бы домашним чепчиком; я имею в виду чепец, более принятый в те времена, чем нынче, – чепец с крыльями, завязанными под подбородком. Платье на ней было бледно-лиловое и удивительно опрятное, но узкого покроя, словно она предпочитала не носить на себе ничего лишнего. Помню, оно показалось – мне похожим на амазонку, у которой отрезали ненужный шлейф. У пояса она носила золотые часы – мужские, судя по их величине и форме, – с цепочкой и печатками, на шее у нее был воротничок, напоминающий мужской, а на – запястьях обшлага, вроде манжеток.
Мистер Дик, как я уже говорил, был седовласым и румяным. На этом я бы и закончил описание его, не будь у него странной привычки держать голову понуро (однако не от преклонных лет – так бывало и с учениками мистера Крикла после побоев), а его серые глаза, выпуклые и большие, со странным водянистым блеском, его рассеянность, покорность моей бабушке и детский восторг, когда она его хвалила, заронили в меня подозрение, не помешан ли он немножко, хотя я и недоумевал, почему же он находится здесь, если он и в самом деле сумасшедший. Одет он был, как и полагается джентльмену, в просторный серый сюртук с жилетом и белые штаны; в карманчике у него были часы, а в боковых карманах деньги, которыми он побрякивал, словно очень ими гордился.
Дженет, хорошенькая краснощекая девушка лет девятнадцати – двадцати, была воплощением опрятности. Хотя в тот момент я никаких других наблюдений, связанных с нею, не сделал, но могу упомянуть здесь о том, что обнаружил впоследствии: она была одной из многих опекаемых моей бабушки, которых та принимала к себе на службу со специальной целью воспитать в них отвращение к мужскому полу и которые обычно завершали свое отречение тем, что выходили замуж за какого-нибудь пекаря.
Комната была такою же опрятной, как Дженет и бабушка. Сейчас, когда я отложил на секунду перо, чтобы подумать о ней, снова ворвался ко мне ветерок с моря, насыщенный ароматом цветов; и снова я увидел старомодную мебель, натертую до блеска, неприкосновенное бабушкино кресло и столик перед круглым зеленым экраном в окне-фонаре, ковер, покрытый дорожкой из грубой шерсти, кошку, подставку для чайника в камельке, двух канареек, старинный фарфор, чашу для пунша, наполненную сухими лепестками роз, высокий шкаф, хранивший всевозможные бутылки и горшочки; увидел я и себя самого, лежащего на диване, такого чужого всему меня окружающему, всего покрытого пылью, увидел, как я лежу и подмечаю все.
Дженет пошла готовить ванну, когда бабушка, к крайнему моему испугу, внезапно оцепенела от негодования и едва могла выкрикнуть:
– Дженет! Ослы!
Дженет взлетела по лестнице, словно дом был охвачен пламенем, выскочила на маленькую лужайку перед коттеджем и отогнала двух ослов, осмелившихся ступить копытом на лужайку (на них ехали верхом две леди). Тем временем бабушка, выбежав из дому, схватила за уздечку третьего осла с сидевшим на нем ребенком, круто повернула его, вывела из заповедника и дала пощечину злосчастному юнцу – погонщику, который осмелился осквернить священную землю.
Я и по сей день не знаю, имела ли бабушка какие-нибудь законные права на эту лужайку, но она решила, что имеет, а для нее это было одно и то же. Величайшим для нее оскорблением, требующим немедленного возмездия, было появление осла на сей пречистой лужайке. Чем бы ни занималась бабушка, в каком бы интересном разговоре ни принимала участие, осел мгновенно изменял ход ее мыслей, и она стремительно набрасывалась на него. Кувшины и лейки стояли наготове в укромных уголках, чтобы окатить водой дерзких мальчишек; за дверью были припрятаны палки; во все часы дня совершались воинственные вылазки, и борьба велась непрерывно. Быть может, она была приятным развлечением для погонщиков, возможно также, что наиболее смышленые ослы, уразумев положение дел, устремлялись сюда со свойственным им упрямством. Знаю только, что, пока готовили ванну, таких тревог было три, и во время последней и самой отчаянной вылазки я видел, как моя бабушка вступила в единоборство с рыжеватым подростком лет пятнадцати и стукнула его рыжую голову о калитку, прежде чем он сообразил, что тут происходит. Такие вылазки были тем более уморительны, что в это время бабушка кормила меня бульоном с ложки (твердо уверив себя в том, будто я умираю с голоду и поначалу должен принимать пищу маленькими порциями), я разевал рот в ожидании ложки, а бабушка опускала ее в чашку, кричала: «Дженет! Ослы!» – и бросалась в атаку.
Ванна принесла мне великое облегчение. После ночевок в поле я чувствовал сильную боль во всем теле и такую усталость и сонливость, что то и дело клевал носом. Когда я выкупался, они (я имею в виду бабушку и Дженет) облачили меня в рубашку и панталоны, принадлежавшие мистеру Дику, и обмотали двумя-тремя огромными шалями. В какой узел я тогда преобразился – не знаю, помню только, что мне было очень жарко. Ослабевший и сонный, я вскоре опять улегся на диван и заснул.
Быть может, то был сон, порожденный фантазией, так долго занимавшей мои мысли, но проснулся я под впечатлением, будто бабушка подошла и наклонилась надо мной, откинула мне волосы с лица, поудобнее положила мою голову и постояла рядом с диваном, глядя на меня. Слова «красивый мальчик» или «бедный мальчик» как будто еще звучали в моих ушах, но, разумеется, когда я проснулся, ничто не могло навести на мысль, что они были произнесены моей бабушкой, сидевшей в окне-фонаре и взиравшей на море из-за зеленого экрана, который был укреплен на чем-то вроде вертлюга и мог поворачиваться в любую сторону.
Вскоре после моего пробуждения мы пообедали жареной курицей и пудингом; сидя за столом, я и сам походил на связанную птицу и с большим трудом мог двигать руками. Но раз бабушка сама запеленала меня, то я и не жаловался на такое неудобство. Все это время я с большой тревогой размышлял о том, что собирается она со мной сделать, но она обедала в глубоком молчании и лишь изредка, посмотрев на меня, сидевшего напротив, произносила: «Господи, помилуй!» – а это отнюдь не рассеивало моей тревоги.
Убрали скатерть, поставили на стол бутылку хереса (мне тоже дали рюмочку), и бабушка снова послала за мистером Диком, который, присоединившись к нам, постарался принять самый глубокомысленный вид, когда она попросила его выслушать мою историю и постепенно вытянула ее из меня, задавая вопросы. Пока я рассказывал, она не спускала глаз с мистера Дика – не будь этого, он, я думаю, погрузился бы в сон, а всякий раз, когда он готов был расплыться в улыбку, его останавливали нахмуренные брови бабушки.
– Понять не могу, что приключилось с этой бедной, злосчастной малюткой, почему она взяла и вышла еще раз замуж! – сказала бабушка, когда я кончил рассказ.
– Может быть, она влюбилась в своего второго мужа, – предположил мистер Дик.
– Влюбилась! – повторила бабушка. – Что вы хотите этим сказать? Зачем ей было это делать?
– Может быть, она это сделала для своего удовольствия, – подумав и глупо улыбнувшись, сказал мистер Дик.
– Удовольствие, как бы не так! – воскликнула бабушка. – Нечего сказать, большое удовольствие для бедной малютки простодушно довериться какому-то негодяю, который, конечно, должен был плохо обращаться с ней. Хотела бы я знать, что она воображала? Один муж у нее уже был. Она проводила до могилы Дэвида Копперфилда, который всегда, с самой колыбели, бегал за восковыми куклами. У нее родился младенец – о! в ту ночь на пятницу, когда она родила на свет вот этого ребенка, который тут сидит, там в доме было двое младенцев – чего же еще ей было нужно?
Мистер Дик украдкой кивнул мне головой, как бы давая понять, что на это нечего ответить.
– Она даже не могла родить такого ребенка, какого родила бы всякая другая! – продолжала бабушка. – Где сестра этого мальчика, Бетси Тротвуд? Нет ее. Ах, полно!
У мистера Дика был совсем испуганный вид.
– А этот докторишка с повисшей набок головой, Джеллипс или как его там зовут, – сказала бабушка, – он-то о чем думал? Только и знал, что твердил мне, как реполов (да он и похож на реполова!): «Это мальчик!» Мальчик! Ох, до чего они все глупы!
Эта энергическая фраза чрезвычайно испугала мистера Дика, да, по правде сказать, и меня.
– А потом, как будто этого еще было мало, как будто она и без того уже не встала поперек дороги сестре этого мальчика, Бетси Тротвуд! – продолжала бабушка. – Она выходит замуж второй раз, – выходит за какого-то убийцу или что-то в этом роде[34] – и встает поперек дороги вот этому мальчику! Каждый, кроме младенца, мог бы предвидеть, каковы будут естественные последствия: мальчик скитается, бродяжничает. Вырасти еще не у спел, а уже уподобился Каину!
Мистер Дик посмотрел на меня в упор, словно стараясь установить мое сходство с Каином.
– А потом эта женщина с языческим именем, – продолжала бабушка, – эта Пегготи, она тоже взяла да и вышла замуж. Вот мальчик рассказывает, что она тоже взяла да и вышла замуж, как будто своими глазами не видела, к какой это приводит беде! Надеюсь только, – тут бабушка затрясла головой, – надеюсь, что ей попалась в мужья какая-нибудь дубина (об этом так часто пишут в газетах) и будет колотить ее как следует.
Я не мог спокойно слушать, как осуждают мою старую няню и высказывают на ее счет такие пожелания, и объявил бабушке, что, право же, она ошибается, объявил, что Пегготи – самый лучший, самый верный, самый надежный, самый преданный и бескорыстный друг и слуга; что она всегда любила меня горячо и любила горячо мою мать; что ее рука поддерживала голову моей умирающей матеря и на ее лице моя мать запечатлела последний благодарный поцелуй. При воспоминании о них обеих у меня захватило дух, и я не совладал с собой, когда пытался объяснить, что ее дом – все равно что мой дом, и все, что принадлежит ей, – мое, и я пошел бы к ней искать приюта, если бы, зная ее скромные средства, не боялся оказаться в тягость, – повторяю: пытаясь объяснить все это, я не совладал с собой и, закрыв лицо руками, уронил голову на стол.
– Ну, полно! – сказала бабушка. – Мальчик прав, что заступается за тех, кто за него заступался… Дженет! Ослы!
Я твердо уверен, что, не будь этих злополучных ослов, мы пришли бы к полному согласию, так как бабушка положила мне руку на плечо, а я, набравшись храбрости, ютов был обнять ее и молить о покровительстве. Но этот перерыв и волнение, в которое пришла бабушка после боя на лужайке, положили конец всем нежным излияниям, и до самого чая бабушка с негодованием излагала мистеру Дику свое твердое намерение искать справедливости у отечественных законов и подать в суд на всех владельцев ослов в Дувре за вторжение на чужую землю.
После чая мы сидели у окна – подстерегая, как предположил я, судя по зоркому взгляду бабушки, новых непрошеных гостей. – сидели до сумерек, покуда Дженет не принесла свечи и ящик для игры в трик-трак и не спустила шторы.
– А теперь, мистер Дик, – с важной миной сказала бабушка, снова, как и раньше, подняв указательный палец, – я хочу задать вам еще один вопрос. Посмотрите на этого мальчика.
– На сына Дэвида? – спросил мистер Дик с видом сосредоточенным и недоумевающим.
– Вот именно, – сказала бабушка. – Что бы вы сейчас с ним сделали?
– С сыном Дэвида? – спросил мистер Дик.
– Да, – подтвердила бабушка, – с сыном Дэвида.
– О! – сказал мистер Дик. – Так… Что бы я с ним… я уложил бы его спать.
– Дженет! – воскликнула бабушка с тем тихим торжеством, какое я уже подметил раньше. – Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Если постель готова, мы отведем его спать.
Когда Дженет доложила, что все готово, меня повели спать – повели ласково, но словно пленника: бабушка шагала впереди, а Дженет замыкала шествие. Одно только обстоятельство вдохнуло в меня новую надежду: остановившись на лестнице, бабушка осведомилась, почему здесь пахнет горелым, а Дженет ответила, что делала в кухне трут из моей рубашки. Но в моей комнате не оказалось никакой одежды, кроме той, что была намотана на мне; а когда меня оставили одного с маленьким огарком восковой свечи, который, как предупредила меня бабушка, будет гореть ровно пять минут, я услышал, что мою дверь заперли снаружи. Раздумывая об этом, я пришел к заключению, что бабушка, ничего обо мне не зная, могла заподозрить, не развилась ли у меня привычка убегать из дому, и теперь принимает меры предосторожности, чтобы удержать меня.
Комната была уютная, в верхнем этаже дома, и выходила окнами на море, сверкавшее в лунном свете. Помню, я прочитал молитвы, свеча догорела, и я долго еще сидел и смотрел на лунный свет, падавший на воду, быть может надеясь прочесть в нем свою судьбу, словно в ослепительной книге, или увидеть мою мать с младенцем, спускающуюся с небес по этой сияющей тропе, чтобы взглянуть на меня, как смотрела она в тот день, когда я в последний раз видел ее кроткое лицо. Помню, благоговейное чувство, с каким я отвел, наконец, взгляд от окна, уступило место чувству благодарности и успокоения при виде кровати с белыми занавесками, и это чувство усилилось, когда я лег в мягкую постель с белоснежными простынями. Помню, я задумался о тех заброшенных уголках, где спал под ночным небом, и молился о том, чтобы никогда мне больше не лишаться крова и никогда не забывать о тех, кто его лишен. И помню, как я словно поплыл в мир сновидений по этой печальной и лучезарной морской тропе.
33
«Смерть Нельсона» – популярная песня композитора Брэма.
34
…выходит за какого-то убийцу… – фамилия Мэрдстон созвучна слову «мэрдерер» (murderer) – убийца.