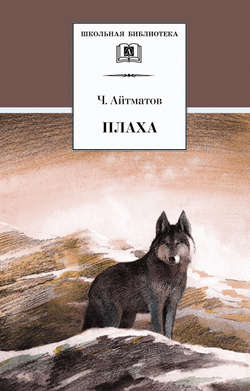Читать книгу Плаха - Чингиз Айтматов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Плаха
Часть первая
IV
ОглавлениеЗа это время Авдий Каллистратов отправил Инге Федоровне несколько писем на станцию Жалпак-Саз, и она отвечала ему до востребования на городскую почту, ибо к тому времени постоянного адреса у него уже не было. Матери он лишился еще в детстве, и отец его, дьякон Каллистратов, оставшись вдовцом, тратил всю свою доброту и немалую начитанность, и богословскую и светскую, на сына и дочь, что была старше Авдия на три года. Сестра Авдия, Варвара, уехала учиться в Ленинград, хотела поступить в педагогический институт, но ее там не приняли как дочь служителя культа, поскольку это открыло бы ей доступ к школьному обучению, и тогда она прошла по конкурсу в политехнический да так и осела в Ленинграде, вышла замуж, обзавелась семьей и работала сейчас чертежницей в каком-то проектном институте. Авдия же дорога лежала в духовную сферу, этого хотел он сам, и этого очень хотел отец, особенно после истории с поступлением в пединститут дочери Варвары. Когда Авдий начал учиться в семинарии, дьякон Каллистратов ходил счастливый и гордый – он радовался тому, что мечта его сбылась, что не напрасны были его труды и внушения, что Господь внял его мольбам. Вскоре, однако, он умер, и, возможно, в том была милость судьбы, ибо он не перенес бы той еретической метаморфозы, которая случилась с его сыном Авдием, увлекшимся новомыслием на поприще вечного, как мир, богословия – учения, данного раз и навсегда, в бесконечности и неизменности божественной силы.
А когда Авдий Каллистратов стал сотрудничать в областной молодежной газете, та небольшая квартирка, в которой дьякон Каллистратов прожил с семьей многие годы, была затребована для вновь назначенного служителя церкви, а бывшему семинаристу Авдию Каллистратову предложили освободить ее как лицу, не имеющему никакого отношения к церкви.
Авдий вызвал в связи с этим сестру Варвару, чтобы она по своему усмотрению увезла в Ленинград нужные ей родительские вещи, в основном старинные иконы и картины, как память и наследство. Себе Авдий оставил отцовские книги. То была последняя встреча брата и сестры – у каждого была своя планида. Больше они не виделись, отношения их были вполне нормальные, но жизненные пути разные. С тех пор Авдий жил на частных квартирах, сначала в отдельных комнатах, потом в углах, так как отдельные комнаты стали ему не по карману. Оттого-то и письма писались ему до востребования.
И именно в этот период наметилась первая поездка Авдия Каллистратова в Среднюю Азию от редакции областной комсомольской газеты. Непосредственным поводом к тому послужила идея Авдия изучить и описать пути и способы проникновения в молодежную среду европейских районов страны наркотического средства – анаши, растения, произрастающего в Средней Азии, Чуйских и Примоюнкумских степях. Анаша – родная сестра знаменитой марихуаны, особый вид дикой южной конопли, содержащей в листьях и особенно в соцветиях и пыльце сильнодействующие одурманивающие вещества, вызывающие при курении эйфорию, иллюзию блаженства, а с увеличением дозы фазу угнетения и вслед за этим агрессивность – форму невменяемости, опасную для окружающих.
Историю этой поездки Авдий Каллистратов подробно описал в своих путевых очерках, описал он, и как неожиданно столкнулся в степи с волчьим семейством, описал все пережитое – с болью и тревогой, как очевидец, как гражданин, озабоченный распространением одурманивающего зелья. Но публикация очерков, вначале принятых в редакции на ура, задержалась, а затем и вовсе остановилась.
Обо всех своих неудачах и переживаниях Авдий Каллистратов и писал Инге Федоровне, которую он считал даром судьбы, самым близким себе человеком, ведь она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повседневного бытия. Вскоре он понял, что переписка с Ингой Федоровной – главное событие в его жизни и, возможно, то самое предназначение, которое оправдает его существование.
Отправив ей письмо, он затем жил этим, заново восстанавливая в памяти все написанное и как бы комментируя себя. То была странная форма общения на расстоянии – беспрерывное излучение во времени и пространстве его страждущей души.
«… Потом я думал много дней, не шокировали ли Вас начальные слова моего письма: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Я их привел, будучи воспитанным в этих традициях, они всегда служат мне камертоном перед серьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние духа, и я не стал изменять этому правилу, хотя я и лишний раз напомню Вам о своем происхождении из духовного сословия и семинаристском прошлом. Мое отношение к Вам не позволяет мне умалчивать о каких бы то ни было обстоятельствах, касающихся меня.
И еще думалось о том, что пишу на Вы, а, расставаясь, мы были уже на ты. Простите, но что-то произошло со мной, хотя я так недолго вдалеке от Вас. Впрочем, все чудаки пытаются найти себе какое-нибудь нелепое оправдание. Но это к слову. Позвольте все же на расстоянии обращаться к Вам на Вы. Так я чувствую себя гораздо удобнее. А если нам суждено будет встретиться, о чем отныне мои затаенные и оттого особо сокровенные мечты (эти мечты мне как дети, я их взращиваю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту), а мечты эти родились как устремление духа к божественному совершенству, вечно притягательному и бесконечному, так вот благодаря этим мечтам я, сам того не подозревая, противостою угрозе небытия, возможно, потому, что любовь – антитеза смерти, она потому и являет собой ключевой момент жизни вслед за таинством рождения, все это я повторяю, как заклинание, чтобы нам суждено было встретиться, и обещаю при встрече не утруждать Вас – обещаю обращаться на ты… А пока так много есть чего сказать…
Инга Федоровна, Вы помните, надеюсь, что мы условились, как только появятся в газете мои материалы, ради которых я приезжал в Ваши края, незамедлительно слать их Вам авиапочтой. К сожалению, я не уверен, что мои очерки о юнцах-подростках, о гонцах за анашой и обо всем том, что связано с этим печальным явлением наших дней, появятся в ближайшее время. Я говорю наших дней, потому что анаша произрастала на этих землях, как сорная трава, с незапамятных времен, а лет пятнадцать тому назад – Вы сами знаете, да что же я рассказываю Вам, специалисту, но, простите, я все равно буду рассказывать, Инга Федоровна, именно Вам, и только это придает теперь какой-то смысл всему этому предприятию – так вот, лет пятнадцать тому назад, как утверждают местные жители, никто и не помышлял собирать эту злую штуку, или, как именуют ее анашисты, травку, ни для курения, ни для иного потребления. Это зло возникло совсем недавно, и в немалой степени под влиянием Запада. И вот теперь мне предлагают ограничиться какой-то докладной запиской в какие-то инстанции – это просто уму непостижимо. Понимаю, что тут особый разговор, ведь ложное опасение, что остро сенсационный материал о наркомании среди молодежи – оговоримся для порядка: среди части малосознательной молодежи – причинит якобы ущерб нашему престижу, может вызвать лишь гнев и смех. Ведь это и есть страусовая политика… Зачем он нужен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!
Представляю, Инга Федоровна, как Вы снисходительно улыбались, читая эти строки, улыбались скорей всего моему наивному возмущению, а может быть, и наоборот, хмурились, что, кстати, Вам очень идет. Когда вы хмуритесь, Ваше лицо становится чистым и глубоким, как у юных монахинь, всерьез озабоченных постижением божественной сути, ведь подлинная красота этих невест Христовых в их одухотворенности. Скажи я это вслух, да еще и в присутствии других людей, это выглядело бы попыткой лести. Но я уже сказал, что в моем отношении к Вам нет абсолютно ничего, что я должен был бы преуменьшать или преувеличивать. И если Ваш озабоченный лик вызывает у меня в памяти Богоматерь в живописи Возрождения, отнесите это в крайнем случае к моему недостаточному искусствоведческому опыту. Как бы то ни было, я уповаю на то, что Вы Верите в мою искренность… Ведь с этого все началось – Вы поверили мне с первого слова и открыли для меня новую полосу жизни…»
* * *
Сегодня снова был в редакции газеты по поводу своего материала, и опять то же самое – все на месте, никакого движения, никакого просвета. Никто не может толком объяснить, почему мои степные очерки, встреченные поначалу редакцией с таким ликованием, теперь ни у кого не вызывают энтузиазма, а ведь сколько откровенных признаний вызвали затронутые проблемы. Главный редактор газеты всячески избегает теперь встречи со мной, дозвониться ему невозможно, секретарша все ссылается на его занятость – то у него заседание, то планерка, то его вызвали в вышестоящие, как она любит подчеркивать, инстанции.
И снова я иду одиноко по знакомым улицам, как будто бы сторонний человек, случайно приехавший сюда, как будто бы я здесь не родился и не вырос, так пусто и отчужденно на душе моей. Иные знакомые со мной не здороваются – я для них церковный отлучник, изгнанный из семинарии еретик, и прочее, и прочее. И только одно греет мое сердце, одна желанная забота всегда со мной – мое письмо. Иду и думаю о том, что напишу, что в очередном письме я расскажу обо всем, что мне кажется интересным для нее, обо всем, что может дать мне повод поделиться с ней своими думами. Никогда не предполагал, что думать о любимой женщине и писать ей письма станет смыслом моей жизни. Я только и жду хотя бы малейшей возможности поехать туда, где мы встретились. Скорей бы! Иду и думаю об этом. Наверно, и у других людей были такие дни, когда они тоже на какое-то время находили в любви главный смысл жизни и были ею счастливы, но в отличие от них я не перестану любить до самой смерти, и смысл моего житья будет только в этом…
Вот уже и листья падают на бульваре. А ведь то, о чем я писал, происходило в начале лета. Редакция в те дни приветствовала мою идею, торопила. Я же не предполагал, что, когда вопрос коснется дела, редакция уйдет в кусты. Не думал никак, что странный принцип – оповещать в массовой печати только о том, что для нас благоприятно, престижно, – настолько силен.
А в те дни я больше был поглощен предстоящей мне длительной поездкой в незнакомые и притягательные для меня, провинциального россиянина, южные края. Замысел состоял в том, чтобы поехать не как сторонний наблюдатель, а как один из гонцов за анашой, влившись в их тайную компанию. Конечно, возрастом я постарше их, но не настолько старше с виду, чтобы это настораживало. В редакции прикинули, что в старых джинсах и разбитых кроссовках я вполне могу сойти за простецкого малого, если к тому же сбрею бороду. Так я и сделал – бороду на то время сбрил. Никаких записных книжек я с собой не брал, надеялся на память. Мне важно было проникнуть в ту среду, выяснить, почему именно эти ребята оказались туда вовлеченными, что двигало ими кроме соблазна наживы и спекуляции; мне необходимо было изучить изнутри личные, социальные, семейные и не в последнюю очередь психологические моменты этого явления.
С тем я и приготовился. Это было в мае. Именно в это время начинает цвести конопля-анаша, и именно в эти дни приступают к сбору ее цвета те, кто специально отправляется за этим зельем в Примоюнкумские и Чуйские степи. Обо всем этом мне поведал мой знакомый, учитель истории одной из школ нашего городка Виктор Никифорович Городецкий. Когда мы оставались наедине, беседуя о разных разностях, он называл меня в шутку отцом Авдием. Сам он сравнительно молодой человек, однокашник моей сестры Варвары. А вот племянник его, сын его родной сестры, Паша, Пахом, которого Виктор Никифорович, оказывается, сам нарек этим именем, так вот Паша этот, как выяснилось впоследствии, попал в анашистскую компанию. Ни родители, ни Виктор Никифорович не знали об этом.
Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Рязань к деду, у которого он часто бывал. Дней через пять после его отъезда Виктор Никифорович получил телеграмму от следователя транспортной прокуратуры Джаслибекова с какой-то далекой казахстанской станции. В телеграмме сообщалось, что его племянник Паша находится под стражей – его задержали в связи с преступным провозом наркотиков по железной дороге.
Виктор Никифорович сразу понял, почему именно ему, а не родителям адресовал следователь Джаслибеков телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и крутого. Виктор Никифорович немедленно вылетел в Алма-Ату, а оттуда через сутки добрался на поезде до той степной станции. Застал он Пашу в отчаянном состоянии. Ему грозил немедленный суд и приговор по особому указу со сроком не менее трех лет в колонии строгого режима. Суд был неизбежен – состав преступления налицо. Виктор Никифорович пытался, как мог, втолковать племяннику, что другого исхода, к сожалению, нет, что по закону за преступление следует наказание. Советовал, как держаться, что говорить на суде, обещал все объяснить родителям, обещал приезжать к нему на свидания в колонию. Все это происходило в присутствии Джаслибекова. И тут вдруг Джаслибеков говорит:
– Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш племянник впредь не повторит подобное преступление, я отпущу его под свою ответственность. Мне почему-то показалось, что вы сможете наставить этого молодого человека на путь истинный. Если же он еще раз попадется с провозом анаши, его будут судить как рецидивиста. Вот решайте сами.
Ну, конечно, Виктор Никифорович несказанно обрадовался, тут же поручился за Пашу, не знал, как и благодарить следователя, и тогда Джаслибеков сказал:
– А вас, Виктор Никифорович, я просил бы помочь нам там, на местах у вас. Попробуйте поднять в прессе серьезный разговор на эту тему. Ведь вы учитель. Мы боремся с самими преступлениями, когда они уже совершены или в процессе совершения. А вот кто и что гонит таких, можно сказать, мальчишек в даль, в безлюдные места, в среду деклассированных элементов, а то и отпетых рецидивистов, мы не знаем, а ведь мы этих подростков судим, вынуждены, обязаны судить. Очень хорошо, что вы, в частности, сразу откликнулись, незамедлительно приехали и тем очень помогли мне, а многие родственники – и таких большинство – не приезжают вовсе. И так попадает человек пятнадцати лет от роду в колонию строгого режима. А что там? Что с ними происходит, чему они там научатся? Никчемными, искалеченными людьми – вот какими они выйдут оттуда. Сами понимаете, тюрьма не от хорошей жизни. Виктор Никифорович, душа болит, на все это глядя. Верите ли, только в прошлый сезон по нашему участку дороги мы судили более ста подростков, а скольких мы пропустили, не смогли задержать, а они все едут и едут отовсюду, от Архангельска до Камчатки, прут, как рыба на нерест. Сколько же можно? Всех ведь не пересудишь. У них возникла целая система промысла. Среди них есть проводники – и здешние, и нездешние, – которые ведут их в места произрастания анаши, их мы тоже судим. А что они творят с поездами? Останавливают в степи товарняки, в пассажирский-то они не смеют сунуться, там сразу их схватят. Кто-то снабжает их специальным составом, порошок такой, если посыпать ночью на шпалы, на рельсы, то в лучах фар возникает иллюзия, будто дорога занялась огнем. Шпалы горят, рельсы горят. Конечно, машинист останавливает состав – в степи всякое может случиться, выбегает на дорогу, но нет, ничего не горит, все в порядке. А анашисты тем временем залезают в вагоны со своими сумками, с чемоданами. Составы нынешние такие – на целый километр, попробуй уследи, а они забираются и едут до узловой станции. Там покупают билеты. Пассажиров-то вон сколько! Узнай, кто есть кто. Правда, милиция в последние годы завела специальных собак, они анашу по запаху находят. Вот вашего племянника и обнаружили с помощью собаки…
И еще много кое-чего узнал Виктор Никифорович в тех местах. Он-то и посвятил меня в эти дела. Но еще до этого я был внутренне готов к такому разговору. Меня давно терзала мысль – найти исхоженные тропы к умам и сердцам своих сверстников. Я видел свое призвание в поучении добру. Может, несколько самонадеянно было с моей стороны полагать, что в этом мое предназначение, но, во всяком случае, мне этого искренне хотелось, и, пожалуй, не в последний степени это объясняется моим происхождением. В некоторых статьях своих я уже говорил, хотя и в самых общих чертах, о пагубности алкоголизма среди молодежи, примерно то же писал и о наркомании, ссылаясь на печальный опыт Запада. Но все это было, по сути, с чужих слов, из вторых рук. А для яркого и в то же время проникновенного материала, где были бы мои собственные размышления и переживания по поводу всем известных и в то же время суеверно избегаемых многими как чумы случаев наркомании среди молодежи, особенно среди подростков, приводящих к печальным последствиям – от саморазрушения личности до садистских убийств, – так вот, для такого материала мне не хватало знания проблемы изнутри и реалий. А тут как раз получилось, что Виктор Никифорович Городецкий, столкнувшийся с этим явлением на собственном опыте, решил поделиться своими думами и душевными огорчениями. Чтобы оторвать Пашу от прежних друзей-товарищей, промышлявших анашой, вся семья, отец, мать, дети, вынуждена была, обменяв квартиру на меньшую, переехать в другой город. Обо всем этом Виктор Никифорович и рассказал мне с печалью и горечью.
Это и подтолкнуло меня решительно взяться за задуманное дело.
* * *
Я прибыл в Москву, где должен был отправиться с Казанского вокзала в конопляные степи. Дело в том, что именно здесь, на Казанском, формировалась первоначально группа гонцов, они так себя и называли – гонцы. Эти гонцы, как я потом убедился, съезжались из самых разных городов Севера и Прибалтики, причем наиболее оживленными точками являлись Архангельск и Клайпеда, должно быть, потому, что анашу там могли перепродавать морякам, уходящим в плавание. Чтобы напасть на след гонцов, я должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком «восемьдесят семь», по кличке Утюг, или Утя, и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомство в билетных кассах – он обеспечивал, безусловно за какую-то мзду, проезд. Но узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось, видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот Утя обеспечивал организованный выезд группы гонцов, то есть он должен был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал, что первая заповедь всех добытчиков анаши состояла в том, чтобы в случае провала ни за что не выдавать друг друга, поэтому на людях им надо было поменьше общаться между собой.
И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Чудовищная толчея, особенно в метро и на вокзалах, – не пробьешься, не протиснешься от многолюдья, и кого только и откуда только не закрутит, как щепку, живой водоворот площади трех вокзалов, и все равно любил и наезжать в Москву, любил, вырвавшись уже ближе к центру на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиш и реклам и, если удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку или Пушкинский музей.
В этот раз, выйдя на Ярославском вокзале с электрички и следуя в потоке толпы к Казанскому вокзалу, я поймал себя на мысли, как хорошо, оказывается, мне жилось и чувствовалось прежде, когда я, предоставленный самому себе и своим неприхотливым побуждениям, не был обременен ничем и никакие заботы не ограничивали особенно моего времени и моих странствий по московским улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрей разыскать на огромном, кишащем, как муравейник, Казанском вокзале того самого связника-носильщика, по кличке Утюг, с нагрудным знаком «восемьдесят семь». Боже, сколько же их, этих носильщиков, а вернее тележников, на Казанском вокзале, если этот значился восемьдесят седьмым, – уж, наверно, не меньше ста. И действительно, в этом столпотворении оказалось не так просто его обнаружить. Потратив по меньшей мере полчаса на то, чтобы обойти все возможные стоянки тележников, я наконец нашел его на перроне у поезда, отходящего в Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно перенося с тележки в вагон чемоданы и коробки, бойко перебрасывался на ходу шутками с проводниками и повторял расхожее привокзальное присловье: «Деньги есть – Казан поеду, деньги нет – Чешма пойду». Я подождал в стороне, – пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина, эдакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было не допустил оплошность – едва не обратился к нему на «вы» да еще чуть не извинился за беспокойство.
– Привет, Утюг, как дела? – сказал я ему насколько возможно бесцеремонней.
– Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, – бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.
– Значит, ты и пан, – заключил я, указывая на его тачку.
– А ты думал! Мы, брат, тоже знаем, у кого денег куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвезти, может, что-нибудь надо? Изволь!
– Подвезти я и сам могу, – пошутил я. – Дело у меня есть.
– Ну говори, какое дело.
– Не здесь, давай отойдем.
– Айда, чавыча, отойдем.
И мы пошли по длинному перрону к зданию вокзала. Ташкентский поезд тронулся, уплывая мимо вереницей окон и вереницей лиц за стеклами, а на соседнем пути встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стояли в несколько рядов, народ суетился, спешил, громкоговоритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся и прибывающих поездов.
Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свернул тележку в уголок, где не было народа, и там, оглядевшись по сторонам, я передал ему привет от Пашкиного друга, которого звали Игорем, но у гонцов он прозывался Моржом. Почему Моржом, кто знает.
– А Морж где сам? – осведомился Утюг.
– Доходит, – ответил я. – Язва желудка замучила.
– Как в воду глядел, – с сожалением, но и не без торжества хлопнул себя Утюг по лбу. – Говорил я ему, чавыча, еще в прошлый раз говорил, не дури, Моржок, не лезь на хухок. Он же экстру применял, ну и перехватил через край. Вот тебе и язва.
Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно говоря, не понимал, что это за экстра – водка или еще что. Но, слава Богу, догадался не уточнять. Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из пластилина – конопляно-пыльцовой массы, напоминающей детский пластилин, – самое ценное сырье (насчет пластилина я, кстати, знал, Виктор Никифорович рассказывал), особое конечное наркотическое вещество наподобие опиума. Это и была экстра. В химических лабораториях экстра могла быть преобразована в порошок для инъекций, как героин. Это таким, как Морж, и прочим гонцам было недоступно, зато они при большом желании могли употреблять экстру – держать ее под языком, жевать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреблять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но самым доступным и простым было все же курить анашу – кто во что горазд – в чистом виде, в смешанном составе с табаком. Это, наверное, не хуже, чем врезать по мозгам, правда, действие дыма более быстротечно, нежели другие способы.
Все это и многое другое из жизни самих гонцов я постепенно узнавал в поездке на «халхин-гол», под «халхин-голом» опять уже подразумевались места произрастания анаши. С этим «халхин-голом» я снова чуть не попал впросак.
– А ты, чавыча, тоже на «халхин-гол»? – спросил Утюг как бы между делом.
Я вначале запнулся, не поняв, что это за «халхин-гол» такой, а потом как-то смекнул:
– Да вроде. В общем-то да, а то чего бы мне…
– Ну тогда вот так. Насчет билетов, чавыча, не беспокойся. Все будет. Ну а насчет остального – это уже когда вернетесь с травкой, сам Дог разберется. Это дело не мое.
Кто такой был Дог, который обеспечивал нас билетами, и в чем он должен был потом разобраться, я и не знал и так и не выяснил до самого конца. Зато в том разговоре с Утюгом я узнал, что отъезд наш в «халхин-гол» может состояться не раньше чем на другой день. Прежде всего потому, что съехались еще не все гонцы. Двое гонцов из Мурманска должны были прибыть ночным поездом. И еще один, не знаю откуда, мог приехать только к утру. Это меня нисколько не волновало, побыть лишний денек в Москве тоже что-нибудь да значило.
Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный час должен был прийти на Казанский вокзал (а что мне было туда приходить, когда так и так пришлось бы ночевать на вокзале), Утюг поинтересовался, есть ли у меня рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать травку, то есть анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в магазинах какую-нибудь герметически закрывающуюся стеклянную или пластмассовую коробочку, чтобы собирать в нее пыльцовую массу – так называемый пластилин.
– Не будешь лопухом, соберешь малость пластилинчику, хотя дело это и непростое, – пояснил он. – Сам я никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один, Алеха, так он за два сезона «жигуль» отхватил. Ездит теперь себе по Москве, поплевывает… А трудов-то – от силы дней на десять…
С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко в камеру хранения и пошел пройтись по Москве.
Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень, ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже несказанно прекрасна. Но мне больше по душе именно московское предлетье – и днем отрадно на улицах, и белыми ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари и в городе, и в звездном небе над городом.
Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух, но, вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, снова окунулся в многолюдное движение. До вечернего часа пик было еще далеко, и я через чередующиеся, гудящие смены тьмы и света свободно доехал до самого центра. На площади Свердлова заглянул в мой любимый сквер. Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодатный островок среди охватившего его кольцом непрерывного движения и обступивших строений. И я почти безотчетно двинулся в потоке прохожих вначале к Манежу – думал, там какая-нибудь выставка окажется, но Манеж был закрыт, и я тогда побрел мимо старого МГУ, мимо Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покойно и благостно – может быть, это от московских улиц в центре перед часом пик исходит такое умиротворение, а может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Кремля, подобно незыблемому горному кряжу, господствующему в этой части города. «Что видели эти стены и что еще увидят?» – думалось мне, и в уличных размышлениях, наплывающих сами по себе, я забыл, что недавно сбрил бороду, и оттого все время прикасался к голому подбородку; забыл на какое-то время и то, что я пытался постичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном средоточии зла.
Нет, все-таки судьба есть, она определяет и добрые, и худые события. И надо же случиться такому везению, о котором, направляясь в Пушкинский музей, я даже не помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на какие-нибудь новинки в экспозиции музея, хоть и это было не обязательно, – походил бы себе и так просто по залам, освежил старые впечатления. А тут у самого входа, перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу, остановила меня.
– Слушай, паря, тебе не нужен билетик? – предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и его спутницы были нетерпение и скука.
– А что, билетов нет, что ли? – поинтересовался я, так как никаких очередей не видно было.
– Да нет, это на концерт. Только бери оба.
– На какой концерт? – спросил я.
– А кто его знает, хор какой-то церковный.
– В музее? – удивился я.
– Берешь или не берешь? Отдаю два билета за трояк, бери.
Я схватил оба билета и поспешил в музей. Я не слышал, чтобы в Пушкинском устраивались концерты. Но оказалось, как выяснил я у администратора, что с некоторых пор при музее действовало нечто вроде лектория классической музыки, главным образом избранной камерной музыки в исполнении знаменитых музыкантов. А в этот раз – вот уж диво! – в зале, именуемом Итальянским двориком, предстоял концерт староболгарского храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось! Неужели будет исполняться отец славянской литургии Иоанн Кукузель? К сожалению, администраторша подробностей не знала. Сказала только, что ожидаются важные гости, чуть ли не сам болгарский посол. Пусть это меня не касалось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца своего еще был наслышан о болгарских песнопениях, а тут на тебе – такой подарок перед рискованной для меня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса, и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу подышать и успокоиться.
Ах, Москва, Москва, на одном из семи взгорьев этих близ Москвы-реки, под конец майского дня! Все отрадно и осмысленно в граде, когда на душе ни тени и царит недолгая гармония бытия. Мне дышалось свободно и глубоко, в небе была ясность, на земле – тепло, и я ходил взад-вперед вдоль чугунной ограды сада перед музеем.
Мне стало жаль, что я никого не жду, – может быть, потому что у меня было два билета. И как понятно и естественно было бы, если бы она с минуты на минуту должна была подоспеть и я увидел бы ее на другой стороне улицы, как она собирается перейти дорогу, боясь, что опоздает, а я, волнуясь за нее, такую прекрасную, неосторожную и глупую, делал бы ей отчаянные знаки, чтобы она ни в коем случае не перебегала улицу, – вон сколько машин несется, сколько людей повсюду, и только она одна среди всех несла в себе счастье, отпущенное мне, а она улыбнулась бы мне – ведь она догадалась бы о моих мыслях по выражению моего лица. И тогда я сам, упреждая ее, побежал бы к ней на ту сторону улицы, за себя я не боялся, я ловкий, а перебежав, посмотрел бы ей в глаза и взял бы за руку. Вообразив себе ни с того ни с сего такую сцену, я действительно почувствовал вдруг тоску по любви и в который раз подумал, что до сих пор не встретилась мне та, которой предопределено судьбой быть моей любимой. Но существует ли она, такая предопределенная, не придумал ли я ее и не усложняю ли простые вещи? Об этом я много думал и каждый раз приходил к печальному выводу, что, пожалуй, сам во всем виноват, – то ли слишком многого ожидаю, то ли неинтересный я для девушек человек. Во всяком случае, мои сверстники оказались в этом смысле гораздо удачливее и сноровистее. Оправданием могло послужить лишь то, что духовная семинария препятствовала окунуться в молодую жизнь. Но и после ухода из семинарии я нисколько не преуспел на этом поприще. Почему? Вот если бы действительно она явилась сейчас, та, которую я готов полюбить, то я первым делом сказал бы ей: пойдем послушаем храмовое песнопение и в том обретем себя. Но потом на меня напали сомнения. А что, если это покажется ей скучно и однообразно, не совсем понятно, а главное, одно дело – ритуальное пение в храме, а другое – в светском здании при разнородной публике. Не получится ли, как если бы баховские хоралы стали исполнять на физкультурном стадионе или в казарме авиадесантников, привыкших к бравурным маршам?
К Пушкинскому музею стали подъезжать сверкающие глянцем машины, прикатил даже интуристский автобус. Значит, настало время. У входа в Итальянский дворик уже толпились люди. Чем-то они все походили друг на друга, и женщины, и мужчины, – так бывает, когда люди сообща ожидают какого-то действия, события. Кто-то спрашивал лишний билетик. Я отдал один билет студенту, близорукому, должно быть, или не в тех очках. И сам был не рад. Он стал отсчитывать в толпе мелочь, ронял ее, я его просил прекратить, сказал, что билеты были мне подарены и потому один из них я дарю ему, но он ни в какую и, когда я уже проходил в зал, бросил мне ту мелочь в карман куртки. Конечно, деньги мне были нужны, я жил, как говорится, на вольных, но скудных хлебах, и все же… Смутило меня и то, что столичная публика была соответственно одета, а я был в старых, поношенных джинсах, в куртчонке нараспашку, в здоровых башмаках и еще с обритой бородой, к чему я так трудно привыкал, точно бы мне чего-то не хватало, ведь я собрался в далекий путь-дорогу, в какие-то неведомые конопляные степи с невесть какими добытчиками анаши. Но все это были незначительные мелочи…
В высоком, в два этажа Итальянском дворике все экспонаты остались, как мне показалось, на местах, только в середине зала поставили плотными рядами стулья, на которых мы и разместились. Ни сцены, ни микрофонов, ни занавеса – ничего такого не было. Там, где положено быть президиуму, стояла с краю небольшая кафедра. Минуты через две все места были уже заняты, кое-кто даже толпился у входа. Видимо, среди присутствующих было много знакомых, между собой все оживленно переговаривались, и только я один молчал, был сам по себе.
Но вот откуда-то сбоку из дверей вышли две женщины. Одна из них, служительница Пушкинского музея, представила другую – болгарскую, как она выразилась, коллегу из софийского музея при соборе Александра Невского. Разноголосица в зале стихла. Болгарка, серьезная молодая женщина, гладко причесанная, в хороших туфлях, с красивыми ногами, что почему-то бросилось мне в глаза, строго глянув поверх больших затемненных очков, приветствовала нас и на сносном русском языке сделала небольшой доклад. Рассказала, что наряду с бесценными экспонатами церковного зодчества, старинными рукописями, образцами иконописи и книгопечатания они демонстрируют в своем музее, крипте – полуподвальных залах собора, на вечерних концертах, как сообщила она с улыбкой, и экспонаты в живом исполнении – средневековые церковные песнопения. С этой целью по приглашению Пушкинского музея они-де и прибыли с капеллой «Крипт».
– Попросим! – предложила она под аплодисменты.
Певцы вошли, собственно, они оказались здесь же, за дверьми, через которые и мы проходили. Их было десять человек, всего десять. Причем все молодые, можно сказать, мои ровесники. Все в одинаковых черных концертных костюмах, с жесткими бабочками на белых манишках, все в черных ботинках. Ни тебе инструментов, ни микрофонов, ни эстрадных звукоусилителей, ни даже помоста для сцены и никаких, конечно, световых манипуляторов – просто в зале несколько приглушили свет.
И хотя я был уверен, что сюда собрались слушатели, имеющие представление, что такое капелла, мне почему-то стало страшно за певцов. Столько народу собралось, да и молодежь наша привыкла к электронному громогласию, а они – как безоружные солдаты на поле боя.
Певцы плотно выстроились плечо к плечу, образовав небольшое полукружие. Лица их были спокойны и сосредоточенны, точно они вовсе не боялись за себя. И еще одну странность я заметил – все они почему-то казались похожими друг на друга. Возможно, потому, что в этот час ими владела общая забота, общая готовность, единый, душевный порыв. Ведь в такие мгновения все, может быть и очень важное в другое время в повседневной жизни каждого, начисто исключается из помыслов – точно так перед началом боя все думают лишь о том, как одержать победу.
Между тем ведущая, все так же серьезно поглядывая через затемненные очки, дала перед началом концерта коротенькую историческую справку о своеобычности болгарской церкви, идущей от византийских корней, но со своими особенностями, со своей литургией, коснулась также некоторых деталей, относящихся к национальным традициям болгарского пения. И объявила начало концерта.
Певцы были готовы. Они еще немного помолчали, настраивая дыхание, еще тесней сплотились плечами, и тут стало совсем тихо, зал точно опустел – до того всем было интересно, что же смогут эти десятеро, как они отважились и на что надеются. И вот по кивку стоящего справа третьим от края – видимо, ведущего в этой группе – они запели. И голоса взлетели…
В той тишине как бы медленно тронулась с места божественная воздушная колесница со сверкающими ободами и спицами и покатилась по незримым волнам за пределы зала, оставляя за собой долго не стихающий, всякий раз вновь возрождающийся из неисчерпаемых запасов духа торжественный и ликующий след голосов.
Уже с зачина стало ясно, что этой капеллой достигнута такая степень спетости, такая подвижность и слаженность голосов, которую практически немыслимо достигнуть десяти разным людям, какими бы вокальными данными и мастерством они ни обладали, и если бы это песнопение проходило в сопровождении любых, особенно современных, музыкальных инструментов, то несомненно такое уникальное здание на десяти опорах разрушилось бы. Редкая судьба могла устроить такое чудо – чтобы именно они, эти десятеро, отмеченные свыше, родились примерно в одно и то же время, выжили и обнаружили друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед праотцами, некогда выстрадавшими Его, придуманного, недостижимого и неотделимого от духа, ведь лишь из этого могло возникнуть такое непередаваемое истовое пение. И в этом была сила их искусства, сильного лишь страстью, упоением, могуществом исторгаемых звуков и чувств, когда заученные божественные тексты лишь предлог, лишь формальное обращение к Нему, а на первом месте здесь дух человеческий, устремленный к вершинам собственного величия.
Слушатели были покорены, зачарованы, повергнуты в раздумья; каждому представился случай самому по себе, в одиночку, примкнуть к тому, что веками слагалось в трагических заблуждениях и озарениях разума, вечно ищущего себя вовне, и в то же время вместе со всеми, коллективно воспринять Слово, удесятеряющее силу пения от сопричастности к нему множества душ. И в то же время воображение увлекало каждого в тот неясный, но всегда до боли желанный мир, слагающийся из собственных воспоминаний, грез, тоски, укоров совести, из утрат и радостей, изведанных человеком на его жизненном пути.
Я не понимал и, по правде говоря, не очень и желал понимать, что происходило со мной в тот час, что приковало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к этим десятерым певцам, с виду таким же, как и я, людям, но гимны, которые они распевали, словно исходили от меня, от моих собственных побуждений, от накопившихся болей, тревог и восторгов, до сих пор не находивших во мне выхода, и, освобождаясь от них и одновременно наполняясь новым светом и прозрением, я постигал благодаря искусству этих певцов изначальную сущность храмового песнопения – этот крик жизни, крик человека с вознесенными ввысь руками, говорящий о вековечной жажде утвердить себя, облегчить свою участь, найти точку опоры в необозримых просторах Вселенной, трагически уповая, что существуют помимо Него еще какие-то небесные силы, которые помогут ему в этом. Грандиозное заблуждение! О, как велико стремление человека быть услышанным наверху! И сколько энергии, сколько мысли вложил он в уверения, покаяния, в славословия, принуждая себя во имя этого к смирению, к послушанию, к безропотности вопреки бунтующей крови своей, вопреки стихии своей, вечно жаждущей мятежа, новшеств, отрицаний. О, как трудно и мучительно это давалось ему. Ригведа, псалмы, заклинания, гимны, шаманство! И столько еще было произнесено в веках нескончаемых мольб и молитв, что, будь они материально ощутимы, затопили бы собой всю землю, подобно горько-соленым океанам, вышедшим из берегов. Как трудно рождалось в человеке человеческое…
А они пели, эти десятеро, Богом сопряженные вместе, с тем чтобы мы погружались в себя, в кружащие омуты подсознания, воскрешали в себе прошлое, дух и скорби ушедших поколений, чтобы затем вознеслись, воспарили над собой и над миром и нашли красоту и смысл собственного предназначения, – однажды явившись в жизнь, возлюбить ее чудесное устроение. Эти десятеро пели так самозабвенно, так богодостойно – быть может сами того не ведая, – что пробуждали в душах высшие порывы, которые редко когда охватывают людей в обыденной жизни, среди постылых забот и суеты. И оттого собравшихся безотчетно переполняла благость, их лица были взволнованны, у некоторых поблескивали слезы в глазах.
Как я радовался, как благодарил случай, приведший меня сюда, чтобы подарить мне этот праздник, когда мое существование словно бы вышло на вневременной и внепространственный простор, где чудодейственно совмещались все мои познания и переживания – и в воспоминаниях о прошлом, в сознании настоящего и в грезах о будущем. И среди этих размышлений мне подумалось, что я еще не любил, и тоска по любви, которая жила в моей крови и ждала своего часа, дала о себе знать щемящей болью в груди. Кто она, где она, когда и как это будет? Несколько раз я оглядывался невольно на двери – возможно, она пришла и стоит там, слушает и ждет, когда я увижу ее. Как жаль, что ее не было в тот час в том зале, как жаль, что невозможно было тогда разделить с ней то, что меня волновало и питало мое воображение. И еще я думал – только бы судьба не устроила из этого нечто смешное, такое, что потом самому будет стыдно вспоминать…
Почему-то вспомнилась мне мать в раннем детстве… Помню ясное зимнее утро, редко падающий снежок на бульваре, она, глядя мне в лицо улыбающимися глазами, застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и что-то говорит, а я бегу от нее, и она весело догоняет меня, и плывет над нашим городком колокольный звон из церкви на пригорке, где в тот час служит мой отец, провинциальный дьякон, человек, истово верующий и в то же время, как я теперь догадываюсь, прекрасно понимавший всю условность того, что создано человеком от имени и во имя Бога… А я, при всем сочувствии к нему, пошел совсем иным путем, не таким, как он желал. И мне становилось тягостно от сознания того, что отец ушел в мир иной в согласии с собой, а я мечусь, отрицаю прошлое, хотя и восторгаюсь при этом былым величием, могучей выразительностью этой некогда всесильной идеи, пытавшейся, распространяясь из века в век, обращать души необращенных на всех материках и островах, с тем чтобы навсегда, на все времена утвердиться в мире, в поколениях, в воззрениях, сдерживая и отводя, как громоотвод молнию в землю, вечный вызов мятежных человеческих сомнений в глубины покорности. Благодарностью им – Вере и Сомнению, силам бытия, обоюдно движущим жизнь.
Я родился, когда силы сомнения взяли верх, порождая в свою очередь новые сомнения, и я продукт этого процесса, преданный анафеме одной стороной и не принятый со всеми моими сложностями другой стороной. Ну что ж, на таких, как я, история отыгрывается, отводит душу… Так думал я, слушая староболгарские песнопения.
А песни те пелись одна за другой, пелись в том зале, как эхо минувших времен. Библейские страсти в «Жертве вечерней», в «Избиении младенцев» и в «Ангеле вопияше» сменялись суровыми пламенными песнями других мучеников за веру, и хотя все это во многом мне было известно, меня неизъяснимо пленяло само действо – то, как эти десятеро завораживали, претворяли знаемое в великое искусство, сила которого зависит от исторической вместимости народного духа – кто много страдал, тот много познал…
Вслушиваясь в голоса софийских певцов, опьяненных, вдохновленных собственным пением, вглядываясь в их мимику, я вдруг обнаружил, что один из них, второй слева, единственный светлый среди смугловатых и черноволосых болгар, очень похож на меня. Поразительно было увидеть человека, так похожего на тебя самого. Сероглазый, узкоплечий – его, наверное, тоже в детстве звали хиляком, – с длинными светлыми волосами, с такими же жилистыми тощими руками, он, возможно, так же преодолевал свою застенчивость пением, как мне подчас приходится преодолевать свою скованность, переводя разговор на близкие мне теологические темы. Можно представить себе, как глупо это выглядит, когда я завожу такие серьезные разговоры при знакомстве с женщинами. И обличием сероглазый певец был такой же – впалые щеки, нос с легкой горбинкой, лоб перерезан двумя продольными складками и – самое примечательное – борода точь-в-точь такая, как у меня до того, как я ее сбрил. Потянувшись невольно к былой бороде, я снова вспомнил, что назавтра мне предстоит отправиться в путь-дорогу вместе с добытчиками анаши. И диву дался, подумав об этом: куда я еду, зачем? Какой контраст – божественные гимны и темные страсти привокзальных Утюгов по дурному дыму от дурной травы. Но во все времена настоящая людская жизнь с ее добром и злом протекала за стенами храмов. И наша современность не исключение…
Вот такое совпадение обликов обнаружил я на том концерте. Потом я уже не спускал глаз со своего двойника, следя за тем, как он пел, как вытягивалось его лицо, как разверзался рот, когда он брал самые высокие ноты. И, сочувствуя ему, я представлял себя на его месте, точно бы он был моим перевоплощением. Таким образом бы участвовал в процессе пения. Во мне все пело, я слился с хором воедино, испытывая необыкновенное, доходящее до слез чувство братства, величия, общности, точно мы встретились после долгой разлуки – возмужалые, сильные и торжествующие голоса наши возносятся к небесам, и земля под нами прочна и незыблема. И так мы будем петь сколько будет петься, петь бесконечно…
Так пели они и я с ними. Такое состояние чудесного забытья я испытываю обычно, когда слушаю старинные грузинские песни. Мне трудно объяснить отчего, но стоит запеть хотя бы троим грузинам, пусть самым обыкновенным, – и изливается душа, и дышит искусство простое и редкое по соразмерности, по силе воздействия духа. Наверно, это у них особый дар природы, тип культуры, а может, просто от Бога. Мне не понятно, о чем они поют, мне важно, что я пою вместе с ними.
Думая об этом, я слушал певцов, и меня вдруг посетило озарение, мне открылась суть прочитанного однажды грузинского рассказа «Шестеро и седьмой». Небольшой рассказ, каких полно в периодической печати, и нельзя сказать, чтобы он чем-то выделялся, рассказ больше фабульный, чем психологический, скорее романтического склада, но финал этой истории запомнился мне надолго, финал почему-то засел во мне занозой.
Содержание рассказа, а вернее баллады, «Шестеро и седьмой» (сложную фамилию ее малоизвестного автора я не помню) тоже весьма тривиальное. Пылает революция, идет кровопролитная Гражданская война, революция утверждает себя в последних схватках с врагом, и в Грузии, стало быть, типичный исторический исход – советская власть побеждает, все больше вытесняя последние остатки вооруженных контрреволюционеров даже из самых глухих горных селении. Действует основной в таких случаях закон – если враг не сдается, его уничтожают. Но жестокость порождает ответную жестокость – это тоже давний закон. Особенно яростно сопротивляется отряд удалого Гурама Джохадзе, отлично знавшего окрестные горы, бывшего пастуха-конника, а ныне дерзкого неуловимого налетчика, запутавшегося в классовой борьбе. Но и его дни уже сочтены. В последнее время он терпит поражение за поражением. В отряд Гурама подослан чекист, который, рискуя быть раскрытым – со всеми вытекающими отсюда последствиями, входит в доверие к Гураму Джохадзе, становится одним из его соратников. Он устраивает так, что, отступая после большого боя с поредевшим от потерь отрядом, Гурам Джохадзе попадает на речной переправе в засаду. Когда они на бешеном скаку достигают берега и бросаются в реку, чекист сваливается с коня возле зарослей: у него якобы обрывается подпруга. А большая ватага конников Джохадзе преодолевает на разгоряченных лошадях перекаты широкой горной реки, и на самой ее середине, где они открыты со всех сторон, два заранее установленных и замаскированных станковых пулемета косят их с двух берегов, берут их в перекрестный кинжальный огонь. Дикая свалка, люди погибают, захлебываясь в горной реке, но Гурам Джохадзе – судьба его бережет! – успевает вырваться из-под обстрела, поворачивает вспять и благодаря своему могучему коню уносится вдоль берега по зарослям. А за ним мчатся несколько верных всадников, оставшихся в живых, и среди них чекист, немедленно присоединившийся к ним, как только он понял, что операция не вполне удалась и что главарь уходит от расправы.
Этот пулеметный расстрел на реке означал окончательный разгром отряда Джохадзе, фактически полное его истребление.
Когда, оторвавшись наконец от преследователей, Гурам Джохадзе останавливает загнанного коня, выясняется, что от отряда вместе с Гурамом Джохадзе осталось всего семь человек, и седьмым был чекист – звали его Сандро. Отсюда, очевидно, и название рассказа – «Шестеро и седьмой».
Сандро имел приказ во что бы то ни стало ликвидировать главаря банды – Гурама Джохадзе. Голова его оценивалась в большую сумму. Но дело было даже не в сумме, а в том, как осуществить этот приказ теперь, когда уже было ясно, что Джохадзе больше не вступит в бой, где его можно было бы подстрелить; ведь нынче, когда он остался, по сути дела, один, как загнанный в ловушку зверь, он, рассчитывая лишь на себя, на свою личную ловкость, будет чрезвычайно бдителен. Было ясно, что Джохадзе не отдаст свою жизнь без борьбы до последнего издыхания…
И вот развязка этой истории – она взволновала меня больше всего…
После жестокого разгрома на реке Гурам Джохадзе, знавший все ходы в ущельях, поздним вечером того дня останавливается в одном труднодоступном месте – в горном лесу близ турецкой границы. И все они, шестеро и седьмой, едва расседлав коней, валятся от усталости наземь. Пятеро тут же засыпают мертвым сном, а двое не спят. Не спит чекист Сандро, его мучает забота – он обдумывает, как ему теперь быть, как лучше достичь своей цели, как осуществить возмездие. Не спит после сокрушительной катастрофы и удалой Гурам Джохадзе – он переживает разгром отряда, его мучает завтрашний день. И лишь один Бог ведает, о чем еще думали эти двое непримиримых врагов, разделенных революцией. Полная луна стояла справа от их изголовья, лес шевелился по-ночному тяжко и глухо, внизу неумолчно шумела по камням река, и горы вокруг замерли в каменном молчании. И тут Гурам Джохадзе неожиданно вскочил, словно чем-то обеспокоенный.
– Ты не спишь, Сандро? – удивленно спросил он седьмого.
– Нет, а ты что вскочил?
– А ничего. Сон не идет, не лежится мне что-то на этом месте, луна сильно светит. Пойду лягу в пещере. – И Джохадзе взял свою бурку, оружие и седло под голову и, уходя, добавил: – Об остальном поговорим завтра. Теперь нам недолго осталось разговаривать.
И с этим ушел, устроился в устье пещеры – в бытность свою пастухом он не раз укрывался здесь от непогоды – вот и теперь то ли укрылся переживать свою бескрайнюю беду, то ли предчувствие подсказало ему расположиться так, чтобы к нему ниоткуда не подойти и чтобы он, наоборот, видел любого, кто приближается к пещере. Сандро забеспокоился: как понять этот, казалось бы, здравый поступок главаря? Что, если он начал о чем-то догадываться?
Так прошла у них та ночь, а наутро Гурам Джохадзе велел седлать коней. И никто не знал, что у него на уме и что намерен он предпринять. И когда лошади были уже оседланы и все молча стояли перед ним, держа коней под уздцы, он со вздохом сказал:
– Нет, не годится так уходить с родной земли. Будем сегодня прощаться с землей нашей, взрастившей нас, а потом разбредемся кто куда. Но пока мы еще здесь, будем как у себя дома.
Он отправил двоих конников в ближайшее селение, где у него были верные люди, за вином и едой, еще двоих, Сандро и другого парня, оставил собирать сушняк для костра и стеречь лошадей, а сам с двумя оставшимися пошел на охоту – подстрелить, если удастся, какую-либо дичь, а то и косулю на прощальный ужин.
Чекисту Сандро ничего не оставалось как подчиниться и ждать подходящего момента, когда он может привести в исполнение приказ. Но пока что такой удобной ситуации не возникало.
Вечером все шестеро и седьмой снова собрались вместе: на краю леса возле пещеры разложили костер, расставили на холстине, привезенной из селения, хлеб, вино, соль, еду, что передали им на прощание верные люди Гурама Джохадзе. Костер разгорелся вовсю. Семеро приблизились к огню.
– Все ли кони оседланы и все ли готовы стать на стремя? – спросил Гурам Джохадзе.
В ответ все молча кивнули головами.
– Слушай, Сандро, – заметил Гурам Джохадзе, – дрова ты хорошие собрал, сильно горят, но почему ты оставил их так далеко от костра?
– Не беспокойся, Гурам, это моя забота, отвечать за огонь буду я. А ты скажи свое слово.
И тогда Гурам Джохадзе сказал:
– Други мои, мы проиграли свое дело. Когда стороны воюют, кто-то побеждает, кто-то терпит поражение. На то они и воюют. Мы проливали кровь, и нашу кровь проливали. Много сынов и с той и с другой стороны сложили свои светлые головы. Что было, то было. Прощения прошу у погибших друзей и погибших врагов. Когда враг погибает в бою, он перестает быть врагом. Будь я сейчас на коне, я все равно просил бы прощения у погибших. Но судьба отвернулась от нас, потому и народ в большинстве своем отвернулся от нас. И даже земля, на которой мы родились и выросли, не желает, чтобы мы оставались на ней. Нам нет на ней места. И нет нам прощения. Если бы я был победителем, я бы не миловал своих врагов, говорю это как перед Богом. Сейчас у нас только один выход – унести свои головы в чужедальние стороны. Вон за той большой горой – Турция, рукой подать, а чуть в стороне, за хребтом, над которым поднимается луна, – Иран. Выбирайте, кому куда. Сам я отправляюсь в Турцию, в Стамбул, буду там грузчиком на пароходах. Каждый из нас должен сейчас решить, где ему преклонить голову. Нас осталось семеро. И через некоторое время мы, один за другим, отправимся на чужбину в семь разных сторон. Разбредясь по свету, каждому предстоит испить свою горькую чашу. Больше мы никогда не увидимся. Это последний день, когда мы, семеро оставшихся в живых, вместе и когда мы видим и слышим друг друга. Так давайте же попрощаемся друг с другом и попрощаемся с землей нашей, попрощаемся с грузинским хлебом и солью, попрощаемся с нашим вином. Такого вина больше нигде не пригубишь. Простившись, мы разойдемся каждый в свою сторону. Мы ничего не уносим с собой, даже песчинки с грузинской земли. Родину невозможно унести, можно унести только тоску, если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы грош. Так выпьем напоследок и споем напоследок наши песни…
Вино было бурдючное, крестьянское, в нем сочеталось земное и небесное. Оно пробудило удалой хмель и желание излить свою печаль, в душах заново боролись веселье и грусть. И песня полилась сама по себе, как пробивается вдруг родник среди камней на горном склоне, и всему, что будет соприкасаться с его водой на всем пути, – тому цвести и умножаться. И тихо завели они песню отцов, и тихо нарастала она, гортанно журча, как родник со склона, – все семеро превосходно пели, ибо нет непоющего грузина, пели слаженно, каждый по-своему и в свою силу, и песня разгоралась, подобно костру, вокруг которого они стояли.
Так начиналось прощальное песнопение семерых, вернее шестерых и седьмого, который, однако, не забывал ни на минуту о том, что ему предстояло совершить. Никто из них, и прежде всего Гурам Джохадзе, не должен был уйти безнаказанно за границу. Этого он, чекист, допустить не мог – так гласил полученный им приказ. И он должен был выполнить этот приказ.
А песни пелись одна за другой, и пилось вино, которое чем больше пьешь, тем охотнее оно пьется, и тем сильнее горит душа, жаждущая снова и снова вина и песни.
Они стояли в кругу, иногда возложив руки на плечи друг другу, иногда уронив их плетьми, а когда хотели, чтобы их услышала божественная сила, неведомая и неотвратимая, но всевидящая и всезнающая, воздевали руки к небу. Как же так, если Бог все видит и все знает, куда он гонит их с земли своей? И почему так устроено, что люди воюют и борются между собой, что льется кровь, льются слезы, и каждый считает себя правым, а другого неправым, и где же истина, и кто ее вправе изречь? Где тот пророк, который бы их рассудил по справедливости?… Не об этом ли, не об этих ли вылившихся в напеве страданиях, пережитых давным-давно, осмысленных отцами как изначальный опыт добра и зла, прочувствованных в их красоте и вечности, пелось в тех старинных песнях, сохраняемых в памяти народа? И потому в устах тех семерых от одной песни рождалась другая, и они не размыкали круга, но седьмой, Сандро, время от времени покидал круг, чтобы поднести дров и подложить в костер. Не зря, пожалуй (на все ведь есть своя причина в жизни), не зря сложил он сушняк в лесу огромной кучей, зато теперь сам заведовал огнем. И песни он пел, как все, от души, ведь песни принадлежат всем в равной мере. Нет песен, которые бы пелись только царями, а другим их нельзя было бы петь, как нет таких песен, которые были бы достойны только черни. Пой, веселись, грусти и плачь, танцуй, покуда жив…
Кого ты любил, кого, трепеща, ждал на свидание, кто разлюбил тебя, и как страдал ты и как хотел, непонятый, умереть, и чтобы песню твою предсмертную услышала бы она, и как ласкала мать тебя в детстве, и где голову отец сложил, как други бились в бою кровавом, каким богам ты душу открывал в порыве чистом и бескорыстном; и думал ли, что такое рождение человека, и думал ли, что смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти смерти нет, но жизнь выше смерти, нет меры в мире выше жизни – и потому избегни смертоубийства, но коли враг пришел на землю, землю свою защити; и честь любимой береги, как землю родную; изведал ли, что есть разлука и что разлука тяжка, как тяжко на себя взвалить гору, что без любимой ничто не отрадно: ни цвет, ни свет, ни день грядущий, – да и мало ли о чем поется в песнях – всего не перескажешь…
И не было в ту ночь людей родней и ближе меж собой, чем эти семеро грузин, поющих горестно и вдохновенно в час разлуки. Стихия песен сближала их еще тесней. Как много все же сумели предки пережить и придумать впрок для потомков задушевных слов, полных бессмертной гармонии. Как по полету можно отличить птицу, так по песне грузин грузина отличит за десять верст и скажет, кто он, откуда он, что с ним, что на душе у него – на свадьбе развеселой был или горе его томит…
Уже луна довольно высоко поднялась над горами, луна заливала мягким светом всю землю – лес вкрадчиво покачивался темными верхушками от дуновения ветра, река приглушенно шумела, поблескивая, переливаясь влажным серебром по валунам, ночные птицы, как тени, неслышно пролетали над головами поющих у костра, и даже лошади, оседланные, терпеливо ждущие хозяев, прядали чуткими ушами, и в глазах их плясали огненные блики… Тем лошадям был уготован путь в чужие страны, и тот час приближался…
Но песням, казалось, конца не будет, за все отпеться решил, должно быть, Гурам Джохадзе: «Так пойте, други, пейте вино, нам больше вместе не собраться в круг, и слух наш не ублажат грузинские напевы»… То пели порознь, то вместе, то танцевали под собственный аккомпанемент истово и яро, как перед смертью, и снова становились в круг те семеро, вернее шестеро и седьмой. Сандро же то и дело выходил из круга – дрова подбрасывал в огонь, и жарко-жарко горел костер.
Решили спеть последнюю песню, потом еще, еще одну на прощание, все не унимались и снова собрались в круг, склонили головы – и задумчиво и мощно нарастал, как гул из-под земли, напев. Сандро же снова отошел за дровами, хотя костер горел ярко. То был точный расчет – со стороны он отчетливо видел каждого из шестерых, стоящих в кругу, а тем, что пели у слепящего зрение костра, он плохо был виден… Тяжелый маузер был уже готов – на взводе. Настал неотвратимый час расплаты, час возмездия. Вскинул многозарядный скорострельный маузер, опустил на руку для опоры и первым выстрелом, прогрохотавшим во тьме подобно грому, свалил главаря Гурама Джохадзе и тут же, не умерли еще слова песни, слетавшие с уст, уложил подряд всех остальных, и они даже не успели понять, что произошло. И так и еще раз в порочной круговерти убиений, и еще раз за пролитую кровь кровь пролил.
Да, законы человеческих отношений не поддаются математическим исчислениям, и в этом смысле Земля вращается, как карусель кровавых драм… Так неужто карусели этой дано кружить до самого скончания света, пока вращается Земля вокруг Светила?
Огонь был метким, и лишь один вдруг судорожно приподнялся на руках, но Сандро подскочил к нему и уложил выстрелом в затылок… Кони шарахнулись в испуге и снова замерли на привязях…
Костер еще горел, река шумела, лес и горы – все на месте, и луна на своем месте в невозмутимой высоте, только оборвалась песня, так долго звучавшая в тот вечер…
Лицо Сандро в ночи было бело как мел, он задыхался, схватил бурдюк с оставшимся на дне вином и, обливаясь, захлебываясь, стал пить, чтобы залить огонь внутри… Потом отдышался, спокойно обошел убитых, что в разных позах лежали вокруг костра. Затем снял оружие убитых, привесил к лукам их седел, сбросил уздечки и недоуздки с конских голов и отпустил коней на волю. Отпустил всех семерых коней, в том числе и своего гнедого. И смотрел, как они, почуявши свободу, гуськом пошли в низовья, в предгорное селение к людям… Ведь лошади всегда идут туда, где живут люди… Но вот стих и цокот подков, и скрылись в зыбкой лунной придымленности идущие цепочкой силуэты лошадей внизу…
Все было сделано. Сандро еще раз молча обошел шестерых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону, приставил дуло маузера к виску. Еще раз выстрел прозвучал в горах коротким эхом. Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни…
Так завершилась та грузинская баллада.
Об этом я вдруг вспомнил, слушая в музее болгарских певцов, исполнявших староболгарские церковные песнопения. Эти песнопения были созданы людьми, возвышенно и даже исступленно взывающими из тьмы веков к Всевышнему, сотворенному ими же, к нереальности, превращенной ими же в духовную реальность, людьми, убежденными, что они так одиноки в этом мире, что лишь в песнях и молитвах они найдут Его.
Я вспомнил и пережил всю ту историю в какие-то секунды. По сравнению со скоростью мышления скорость света – ничто; мысль, что, уходя в прошлое, может двигаться в обратном направлении во времени и в пространстве, быстрее всего…
Теперь я поверил, что так оно и могло быть в те годы в самом деле. В заключение рассказа «Шестеро и седьмой» автор писал, что Сандро, то есть седьмой, был посмертно награжден каким-то орденом.
Но когда б трагедии гражданских войн не оборачивались трагедиями нации, когда б сопротивление одних истории нововходящей и нетерпение других в борьбе за ускорение этой же истории не переменяли жизнь на корню, откуда бы эти страшные борозды на пашне революции и разве имела бы грузинская баллада такой исход?… Цена ценою познается… Ведь тот, седьмой, мог бы торжествовать, остаться жить, но он не остался – по причинам труднообъяснимым. Всякий может истолковать их по-своему. А мне в тот час, когда я плыл в ладье болгарских песнопений под белым парусом возвышенного духа, что вечно бороздит вдали открытый океан бытия, подумалось, что причиной такого завершения грузинской были послужили песни, в которых заключалась вера всех семерых…
Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно и наступает просветление души. Глядя, как праведно, преданно и вдохновенно сияли глаза софийских певчих, поющих заветные гимны, как лица их от напряжения покрылись обильным потом, завидовал, что я не среди них, что я не тот, не мой двойник.
И на той волне нахлынувшего просветления подумалось вдруг: откуда все это в человеке – музыка, песни, молитвы, какая необходимость была и есть в них? Возможно, от подсознательного ощущения трагичности своего пребывания в круговороте жизни, когда все приходит и все уходит, вновь приходит и вновь уходит, и человек надеется таким способом выразить, обозначить, увековечить себя. Ведь когда все кончится, когда наступит тот грядущий через миллиарды лет конец света и планета наша умрет, померкнет, какое-то мировое сознание, пришедшее из других галактик, должно непременно услышать среди великого безмолвия и пустоты нашу музыку и пение. Вот ведь что неистребимо вложено в нас от сотворения – жить после жизни! Как важно осознавать человеку, как необходимо быть уверенным ему в том, что такое продление себя возможно в принципе. Наверное, люди додумаются оставить после себя какое-то вечное автоматическое устройство, некий вокально-музыкальный вечный двигатель – это будет антология всего лучшего в культуре человечества за все времена, и верилось мне, когда я наслаждался пением певчих, что те, кто услышит эти слова и музыку, смогут понять, почувствовать, какими противоречивыми существами, какими гениями и мучениками были люди на земле, единственные обладатели разума.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу