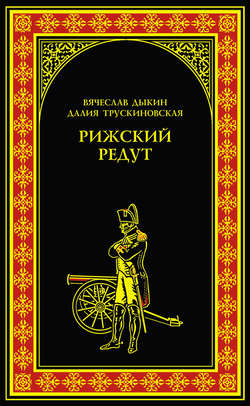Читать книгу Рижский редут - Далия Трускиновская - Страница 1
Пролог
ОглавлениеСии воспоминания мои касаются непосредственно событий достопамятного 1812 года. Потому я не считаю нужным вдаваться в прошлое, в тонкости и перипетии российской политики предыдущего времени, когда корсиканский самозванец был могуч, а короны европейские так и сыпались к его ногам. Довольно того, что прошлое это было и оставило в душе моей след весьма болезненный. Многое осталось для меня неизвестным и непонятым навеки. Я не царедворец, интриг придворных и политических тонкостей не разумею и разуметь не желаю. Решения покойного государя нашего оспаривать не могу, сколь бы ни были они для меня неприятны. И объявляю сразу, что недоброжелатели государя союзника во мне не сыщут.
Считаю недостойным долго рассказывать об обидах своих, однако придется вкратце упомянуть о них, чтобы стало понятно, почему в начале войны я состоял при вице-адмирале Николае Ивановиче Шешукове.
Коли кому не угодно тратить время на описание ранней юности моей, тот пусть, перелистнув страницы, сразу приступает к последним строчкам сего пролога и к убийству племянницы ювелировой. Но пусть потом не жалуется, ежели что осталось непонятным.
Смолоду я, не отличаясь здоровьем, имел склонность к занятиям умственным, особливо же к языкам. Ровесники мои ненавидели всеми фибрами души латынь и древнегреческий, они бы и от уроков французского шарахались, как черт от ладана, когда французский не был бы в употреблении в свете. Я же находил особое удовольствие, когда, занимаясь переводами, выискивал самое подходящее слово или распутывал заковыристую фразу так, что на русском языке она звучала красиво и складно. Особливо же мне нравилось подбирать соответствующие поговорки, и, бывало, что вся наша дворня (не столь уж великая) вместо своих прямых дел бродила в задумчивости, припоминая русскую пословицу, чтобы наилучшим образом передать французскую. Длилось это, пока не приходила матушка и не разгоняла доморощенных моих толмачей в девичью или на кухню.
Матушка моя происходила из древнего рода и гордилась прадедами своими, что сиживали в Боярской думе еще при государе Михаиле Федоровиче. Она была безмерно предана своей родне, и редкий день в нашем доме не гащивала какая-нибудь из ее многочисленных тетушек и кузин. Так познакомился я со своим дядюшкой Артамоном Вихревым.
Родство это чрезвычайно забавляло матушку, потому что Артамон, ее кузен, формально будучи мне дядюшкой, был моложе меня на полгода. Будучи одних лет и одинакового воспитания, мы подружились, и именно Артамон сманил меня бежать в Роченсальм, когда нам не исполнилось и четырнадцати.
Роченсальм, наша морская крепость у берегов Финляндских, волновал нас несказанно. Это было место величайшего поражения нашего флота в войне со Швецией, хотя незадолго до того там же мы одержали значительную победу. После того как мир со Швецией заключили, покойная государыня, понимая шаткость и непрочность этого мира, стала действовать сообразно латинской поговорке: «Si vis pacem, para bellum», что означает: «если хочешь мира, готовься к войне». Для защиты финляндских шхер со стороны Швеции близ устьев пограничной реки Кюмени основан был город Роченсальм, при котором учрежден огромный порт для гребного флота.
Укреплять Роченсальм послали фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. Это была унизительная для него, как он полагал, должность – нечто вроде инженер-инспектора по фортификации. Но он отнесся к поручению со всей ответственностью и составил план, который государыня немедленно одобрила. Прошло полтора года – и на северо-западном рубеже нашем встала мощная крепость с фортами Ликкола, Утти, Озерный; на нескольких островах, ее окружающих, возведены были сильные укрепления для русского шхерного флота. Шведская крепость Свеаборг имела достойного противника и соперника, ей противопоставленного.
Семейства наши дали флоту немало доблестных офицеров, и мы росли с сознанием того, что сами пойдем служить во флот. Путешествие в Кронштадт было для нас делом обыкновенным, но Роченсальм казался едва ли не землей обетованной. Крепость, которую строил сам Суворов, у которой разыгралось столько морских сражений, находилась к тому же и в пределах досягаемости.
Я неоднократно сомневался в успехе экспедиции нашей, на что Артамон решительно отвечал:
– С нами Бог и андреевский флаг!
Против этого возразить было нечего. Коли мы твердо решились стать моряками, то должны верить и в морские присловья.
Дядюшка мой Артамон все устроил наилучшим образом. Мы запаслись провиантом, скопили немного карманных денег и однажды ночью, выбравшись тайком из спален наших, отправились служить Отечеству. Самое занятное – что, прячась в трюме за ящиками, до Роченсальма мы все-таки добрались. Там и были изловлены.
По виду нашему матросы поняли, что мы из благородного сословия, и отвели нас к старшим офицерам. Мы же, очень этой бедой возмущенные, клялись, что откроем имена наши одному лишь контр-адмиралу Шешукову. Мы знали, что он буквально на днях назначен был командиром Роченсальмского порта.
С адмиралом нам посчастливилось несколько раз видаться при его наездах в столицу, мы оба были ему представлены и полагали, что он двух таких молодцов навеки запомнил. Но Николай Иванович нас в лицо конечно же не признал, и пришлось нам перечислять всю нашу родню прежде, чем он нам поверил.
К счастью, кто-то из общих знакомцев, отправлявшийся в тот день в столицу, не только опознал нас, не только отвез письмо от Шешукова матушке моей, но и сам доставил его, и в тот же день, воспользовавшись связями своими и покойного батюшки, она взошла на борт судна, плывшего в Роченсальм. Там ее тут же принял господин Шешуков.
Матушка моя первым делом поведала контр-адмиралу про мое слабое здоровье и успехи в занятиях, после чего он призвал меня к себе.
– Друг мой, – сказал Николай Иванович. – Я уважаю твое стремление послужить государю и Отечеству во флоте, но не всем же лазить по реям и держать штурвалы. Считай, что я принял тебя на службу, но отправил, как это часто делается, в долгосрочный отпуск для постижения наук. Мне сказывали, про твою способность к постижению языков. Именно во флоте ты найдешь ей достойное применение. Время ныне беспокойное, нам предстоит отчаянная борьба с французским и турецким флотом в Средиземном море, и офицер, знающий языки турецкий, новогреческий, италианский и аглицкий, помимо французского, будет необходим более, чем ты сейчас можешь себе вообразить. Ступай же и учись прилежно! Настанет час – и ты еще повоюешь под командованием моим!
Так и вышло, хотя менее всего мы оба могли предвидеть, при каких обстоятельствах вновь встретимся.
Нас с Артамоном разлучили, и я отправился в столицу зубрить турецкий язык. Артамон же вскоре поступил в Кронштадтское штурманское училище, открытое незадолго до того по воле покойного императора Павла.
В 1805 году мне исполнилось восемнадцать лет. Я был молод, хорошо образован и без памяти влюблен. Избранница моя была двумя годами меня моложе и отвечала мне пылкой взаимностью. Родители ее смотрели на это, я бы сказал, скептически, полагая, что их красавица-дочь составит себе более выгодную партию. Они помышляли о деньгах, я же вообразил, будто, добившись славы, смогу получить руку Натали. И тут, как нарочно, начались военные сборы. Наконец-то знания мои потребовались Отечеству, и я оказался в составе эскадры контр-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина, которая шла в Средиземное море воевать с французами.
Радость моя была безмерна, тем более что предстояло воевать вместе с моим беспутным дядюшкой. Разумеется, мы с Артамоном встречались и после побега в Роченсальм, но прежней дружбы не получилось – я несколько завидовал ему, что он уже сейчас являлся человеком флотским, а он глядел на меня свысока, потому что я, увлеченный занятиями моими, сделался, по его мнению, совершенно сухопутным человеком. Сам же он вел себя, как надлежит бравому моряку, и шестнадцати лет от роду был с большим шумом изловлен пьяный на квартире известной петербуржской девицы вольного поведения и препровожден обратно в Кронштадт, после чего за ним там следили особенно строго.
Артамон прижал меня к широкой флотской груди и тут же познакомил со всеми приятелями своими. Среди них оказался и Алексей Сурков, третий наш родственник (дальний, приходившийся дядюшке моему кузеном, а мне, как ни странно, племянником). Тут бы я мог долго описывать, как осваивался на судне и как новые мои друзья устраивали мне всяческие подвохи. Одна лишь история, как мне рекомендовали подать прошение контр-адмиралу о переводе моем из толмачей в судовые кранцы, дает полное представление о шутках, кои в ходу среди флотских.
Здесь не место для подробного рассказа о наших военных действиях, для этого требуется иное перо и иной склад ума. Скажу лишь, что Сенявин честно делал все то, что от него требовалось по обстоятельствам, кои сперва благоприятствовали нам, а потом переменились. Мы вынуждены были отказаться от плодов наших побед в угоду – чему? Политическим реверансам, которых мы тогда не понимали и понимать не желали.
Я вернулся в Отечество свое девятого сентября тысяча восемьсот девятого года. Покинул же я его десятого сентября тысяча восемьсот пятого. Четыре года, день в день, провели мы в плавании, сперва столь успешном, потом столь тягостном. Последнюю часть пути я перенес плохо – здоровье мое ослабело от плохого питания и от переживаний душевных. Мы возвращались, как побитые псы, и оттого меж нами не было более согласия.
Прибыв в Ригу, я едва добрался до известного трактира «Отель де Пари», где снял комнату и первым делом написал письма в Санкт-Петербург. Состояние мое не позволяло сразу двинуться в путь, хотя душа летела и рвалась к Натали. Артамон, бывший куда бодрее меня, на другой же день уехал, взяв письма и назначив мне свидание через две недели в Летнем саду. Сурков отправился вместе с ним. Я остался лечиться и сгорал от нетерпения.
Наконец пришло письмо от матушки. Она писала, кроме всего прочего, что Натали сделала удачную партию и вышла замуж за человека богатого и светского. Ничего в том удивительного, как я потом понял, не было – я пропадал невесть где четыре года, а девичья молодость длится недолго. Но в разум я пришел уже потом.
Легко вообразить мою растерянность, отчаяние и все те проделки, на которые способен влюбленный и отвергнутый чудак, начитавшийся впридачу «Страданий бедного Вертера» сочинителя Гёте, ставшего тогда образцом для подражания всем молодым болванам, коих обманули легкомысленные красотки. Пистолеты лежали на столе моем, я три, не то четыре раза переписал завещание и выстриг себе сбоку препорядочный пук волос, чтобы после смерти моей он был послан в черном конверте счастливой изменнице и навеки смутил ее покой.
Тогда-то и пришел ко мне посыльный от г-на Шешукова. Николай Иванович незадолго до того получил чин вице-адмирала и был назначен командиром Рижского порта. Читая бумаги, присланные с английского транспорта, он нашел в списках мое имя и приказал меня сыскать.
– Ну, вот мы и встретились, – сказал он, когда я пришел к нему в кабинет. – Видит Бог, не так я представлял себе эту встречу. Но я рад, что ты вернулся целым и невредимым. Что ты собираешься делать? Очевидно, вернешься в Санкт-Петербург?
– Скорее я поеду в Камчатку, к алеутам или к антиподам, – отвечал я. – В Санкт-Петербург меня доставят разве что связанного по рукам и ногам или же в гробу.
В тот миг устами моими говорил треклятый бедный Вертер, который ни в какой службе, очевидно, не состоял и никакого долга перед Отечеством знать не знал. Но вице-адмирал уже по пылкости моей догадался, в чем моя беда.
– Камчатка далеко, а ты оставайся-ка здесь, – предложил он. – Мне нужен человек, знающий языки и надежный. Здешние толмачи, может, и хороши, но я не желаю, чтобы меня дурачили, покамест я здесь не обживусь и не пойму, кто чего стоит. Полагаю, со временем смогу позаботиться о твоей карьере.
Я сгоряча помышлял уйти в отставку и покинуть флот навеки, но предложение Шешукова мне понравилось. Я поступил под его начало и остался в Риге.
Вот как вышло, что к лету 1812 года я состоял при командире Рижского порта и был доволен своим положением.
Моя рижская жизнь, как я и надеялся, со временем принесла мне успокоение и забвение. Я даже не стал поддерживать переписки с былыми товарищами моими, включая дядюшку Артамона и племянника Алексея Суркова. Я не хотел давать себе ни малейшего повода для воспоминаний. Хотя время было неспокойное и все мы ждали войны, я после морских моих похождений и аглицкого плена ощущал себя погруженным в приятный сон, моля Бога о том, чтобы он подольше не кончался. Я жил в окружении простых и добродушных людей, хорошо справлялся со своими обязанностями и не раз удостаивался похвалы вице-адмирала.
Да, пожалуй, я верно сделал, что сравнил свое меланхолическое состояние со сном – рано или поздно я должен был проснуться.