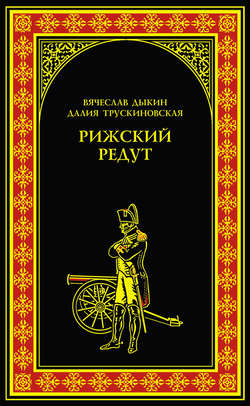Читать книгу Рижский редут - Далия Трускиновская - Страница 6
Глава пятая
ОглавлениеЯ оказался за реформатской церковью, среди амбаров. Там жили обыватели-айнвонеры – по сути, те же добропорядочные немцы, но только или недавно перебравшиеся в Ригу и не имеющие дедушки-рижанина, или происходящие от незаконного сожительства. Сейчас именно тут теснились беженцы.
Положение этих беженцев было незавидно – они знали, что Московское предместье в случае наступления неприятеля решено сжечь, но фон Эссен колебался, и бедняги то прибегали с узлами и коробьями под защиту рижских стен, то возвращались обратно. При этом в городе ночевали и те, кто не имел такого права в мирное время.
Эта суматоха непонятным мне образом возбудила в людях самые низкие страсти. Мужчины, не знающие, где проведут следующую ночь, сгорающие от беспокойства за свою судьбу, почему-то делались легкой добычей жриц любви, которые перебежали сюда из Ластадии и ютились чуть ли не по десять нимф в одной комнатушке. Так что, пока две-три красотки принимали там кавалеров, остальные шатались по улицам, хватая проходящих за руки и уговаривая пойти с собой. Впотьмах они могли перепугать своими приставаниями до полусмерти.
К счастью, наши жрицы любви были дамы образованные – знали не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски. Поэтому мои резкие слова поняли сразу и единственно верным образом.
Они-то и навели меня на мысль понаблюдать, куда ведут и откуда выпускают кавалеров. Оказалось, что иная прелестница согласна расположиться и на мешках в амбаре. Я в свете фонаря увидел большие дубовые ворота приоткрытыми и, недолго думая, вошел.
Внутри было не совсем темно – где-то горела свечка. Сложенные стеной мешки подступали к самому входу, я заметил дорожку меж ними, откуда шел свет, раздавался смех, и здраво рассудил, что здешний сторож, очевидно, выгородил себе нору, где устроил ложе и даже, возможно, сдает его за небольшое вознаграждение. Забавно, подумал я, как простой люд извлекает выгоду из войны и осады города. Не только каждый чердак и подвал – каждый угол в тесном дворе приносит, возможно, прибыль, потому что в нем сложено имущество беженцев и мужчины спят поверх узлов, охраняя их.
Я прошел дальше, достиг стены и едва не рухнул в другой проход. Там бы я и остался сидеть, пристроившись на туго набитом мешке, возможно, даже задремал бы, но тут разумная мысль посетила меня: хотя грузы и поднимали лебедкой на верхние ярусы каменного амбара, но где-то же должна быть и лестница, вряд ли ее намертво заложили мешками с провиантом и фуражом.
Лестницу я нашел и полез во мрак, размышляя, какой именно провиант хранится в мешках и лубяных коробах. Во время плавания я пристрастился к ржаным сухарям, и если бы удалось их тут раздобыть, они составили бы мой ужин. По милости герра Вейде сладких блинчиков фрау Шмидт мне сегодня не досталось. Лестница с веревочными перилами казалась мне бесконечной, и лишь упершись головой в крутой скат, я понял, что впотьмах благополучно миновал дверцы, ведущие на ярусы амбара и поднялся под самую крышу.
Пошарив по стене, я отыскал дверцу и оказался в помещении, более всего напоминавшем шалаш, наподобие тех, в которых я еще ребенком прятался вместе с дворовыми ребятишками; мы мастерили их из палок и старых рогож на заднем дворе. Оно было сравнительно широким и долгим, во всю длину гребня крыши. Туда и свет проникал. Удивительным образом тех лучей, что просачивались сквозь щели деревянных ставен, хватало, чтобы произвести дислокацию.
К некоторому моему удивлению, я обнаружил под самым скатом, близ окошка, сенник – так у нас называли мешок из грубого холста, набитый сеном и служивший вместо тюфяка. Если сено свежее и ароматное, то это даже приятно. Но в этом грязноватом мешке сено оказалось старое, свалявшееся. Выбирать не приходилось, я лег, даже не разуваясь, и тут меня ждал еще один сюрприз – между сенником и скатом крыши было спрятано сложенное в длину одеяло. Положительно, каморки эта служила чьим-то жилищем, но хозяин припозднился, и я решил, что при его появлении уж как-нибудь договорюсь.
Теперь следовало позаботиться о миниатюре из медальона Луизы. Я очень не хотел ее повредить, поэтому завернул в платок и спрятал в высокую офицерскую двууголку.
Устроившись поудобнее, я помолился на ночь, как учили матушка с няней, и довольно скоро заснул. Сказывалась дурно проведенная в подвале ночь.
Но перед сном я еще успел побороться с собой и запретить себе думать про обиды. Хотя мысли эти меня порядком одолевали.
Люди, с которыми я прожил под одной крышей почти три года и полагал, что нажил себе в них добрых приятелей, оказались враждебны мне, причем враждебны исподтишка. Фрау Шмидт ни разу не сказала мне, что наши с Анхен голоса ее раздражают, она даже не намекнула, что ее немецкая нравственность страдает от моего романа, но стоило мне попасть в беду – она тут же все припомнила. Равным образом соседи тут же ополчились на меня, хотя все это время были беспредельно любезны. Герр Штейнфельд водил меня в «Лавровый венок» и угощал пивом с колбасками…
Теперь только я понял, до какой степени чужой этому городу, чужой невзирая на то, что хорошо говорю по-немецки и даже читаю в подлиннике Бюргера и Шиллера. Очевидно, нужно было не валять дурака, поселившись на Малярной улице, а искать себе уголок в Цитадели. Там мне никто бы не стал приносить по утрам горячий кофей со свежими крендельками – да никто бы и не налгал на меня сперва квартальному надзирателю Блюмштейну, потом частному приставу Вейде.
Но я, выбирая Малярную улицу, тем и руководствовался, что не желал быть среди своих. Во мне опять-таки говорила обида, как и во многих участниках сенявинского похода, да еще другая обида – на мою Натали. Я не хотел, чтобы меня каждый вечер легко отыскивали гарнизонные офицеры, заманивая длительной, на всю ночь, игрой в фараон и вином, да еще и несли при этом чушь. Я и обычного биллиарда не желал. А желал я одиночества, которое в силу характера переносил легко и находил в нем свои приятные стороны.
Вот и нажил неприятностей на свою голову…
Мне снился сон, столь похожий на действительность, что я ощущал на щеках брызги ледяной воды.
Я стоял на палубе небольшого суденышка, которое в самую дурную погоду шло по волнам Финского залива. Ветер задувал сбоку, срывая с плеч тяжелый плащ, в который мне никак не удавалось завернуться толком. Лицо мое было мокрым, водяные струйки затекали за пазуху. Двууголку свою я придерживал рукой и, жмурясь, смотрел вдаль.
Буро-серые волны колыхались, движения я не ощущал – ни сзади, ни спереди не виднелось ничего, что послужило бы ориентиром. Я следил бы за облаками – но небо было ровного блеклого цвета. Понемногу оно светлело – и вода также менялась, теперь она отливала бирюзой. Я сильно беспокоился – я уходил от некой погони, которая во сне имела смысл, своих героев и свои особенности, но наяву все это развеялось, и в памяти остался только дождь над Финским заливом.
– Роченсальм, Роченсальм! – звал я, словно надеясь голосом приблизить его неприступные форты – Елизаветинский, Екатерининский, Слава… Там я нашел бы спасение!
И вдали возникло в тумане темное пятно – это несомненно были стены из камня. На их фоне я заметил белое пятнышко, оно росло – к моему судну шел одномачтовый йол. Радость охватила меня, не только я приближался к Роченсальму, но и он – ко мне… и солнце, солнце пробилось, зазеленела морская вода!..
Проснулся я оттого, что кто-то стал по мне шарить. Я встрепенулся и сел, ища рукоять кортика.
– Мать честная! – услышал я на чистом русском языке.
– Ты кто таков? – задал я вполне резонный вопрос, и тоже по-русски.
– А ты кто таков?
– Я человек пришлый, искал, где бы переночевать. Вижу, ворота отворены, зашел, полез повыше.
– Ишь ты! Думал, в такое время тут пустое место найдется? Проваливай, покуда цел!
Голос показался мне знакомым, но разбираться я не стал.
– Тут двоим места хватит! – возразил я незримому русскому человеку.
– Сказано тебе – проваливай!
Доводилось мне сталкиваться с людьми, которые проявляют свой сварливый нрав лишь тогда, когда чувствуют полнейшую безнаказанность. Сперва я по молодости и незрелости характера от их выпадов терялся, но старый матрос на «Твердом» научил меня уму-разуму. Он внушил мне, что чем мягче обращаешься с подобными скотами, тем более дури забирают они себе в голову, поэтому отпор следует давать сразу и сурово.
– Сам проваливай, скотина, – отвечал я незнакомцу, и отвага моя подкреплялась тем, что я уже держался за рукоять кортика.
– А вот как заеду в ухо! – пообещал русский человек.
– А сдачи не угодно ли? – спросил я.
Драка в темноте – сомнительное удовольствие, к тому же я вовсе не желал убивать владельца сенника и одеяла.
– Да шел бы ты!.. – и русский человек бойким своим тенорком указал мне то направление, что в дамском обществе повторить невозможно.
Однако он не знал, с кем связался.
Я уже говорил об интересе своем к словесности. Во время нашей средиземноморский экспедиции я многого наслушался. В частности, было нечто вроде игры, не знаю, как назвать это иначе. Некоторые унтер-офицеры составляли себе целые монологи длительностью до пяти минут, в которых пикантные выражения ни разу не повторялись. Такая особливая жутковатая поэзия, имевшая даже некоторый смысл. У матросов часов не водится, а, допустим, спуск шлюпки на воду должен осуществляться в определенный срок – вот длительность сего поэтического экзерсиса такому периоду и соответствовала, что было весьма удобно.
Будучи вынужден постоянно слышать такие речи, я сперва смущался, потом лихой мой дядюшка Артамон, нахватавшийся всякой дряни в Кронштадте, высмеял меня – и мне пришлось заучить кое-какие перлы, чтобы и он, и племянник мой Алексей Сурков оставили меня в покое.
– Ого! – произнес незнакомец, выслушав меня. – Какого ж черта ты, соленая твоя душа, сюда забрался?
Русский человек опознал во мне моряка, и я уж решил, что мое ремесло вызвало у него хоть толику уважения. Но не тут-то было!
– Господин Морозов? – вдруг спросил русский человек. – Так вот ты где скрываешься?! Убийца! Караул!
Он так завопил, что у меня уши заложило.
Теперь уж обстоятельства были против меня. Незримый русский человек голосил, призывая всех, кто его услышит, лезть сюда, под самую крышу и вязать убийцу.
Я растерялся и выхватил из ножен кортик. Сейчас, по прошествии времени, я признаюсь откровенно – обнажил клинок я от испуга. Я уже знаю, что ничего постыдного в таком страхе нет, но несколько лет мне было стыдно за свои поспешные действия. Я не любил вспоминать ту ночь, и отталкивал от себя мысли, что наводили на неприятные воспоминания.
Впрочем, даже теперь, через полтора десятка лет, я не могу восстановить точно, как вышло, что в нашей драке я нанес крикуну удар кортиком в бок. Услышал ли я перед этим встревоженные голоса снизу, или же они дошли до моего сознания уже потом, вспомнить не удается – да и не имеет это значения. Важно иное, откатившись от раненого, я впал в совершеннейшую панику. По лестнице уже спешил какой-то басовитый детина, возглавляя, как мне с перепугу показалось, целую армию, способную связать меня и доставить в полицейскую контору.
Мало мне было тех двух убийств, которые приписали мне полицейские, так теперь явилось еще и третье! И тут уж моя вина несомненна!
Стараясь оказаться подалее от своей жертвы, я отступил к окошку, забранному деревянным ставнем. Каким-то чудом я вспомнил про блок лебедки, расположенный под самым скатом крыши, и даже то, что, высунувшись в окошко, я могу достать до веревки. Распахнув ставень, я выглянул вниз и увидел, что на улице пусто.
Тут я благословил своего шалого дядюшку, который умело карабкался по вантам и преподавал мне это искусство, чтобы исцелить меня от страха высоты. Сунув кортик в ножны и нахлобучив двууголку, я захватил оба свисающих с блока конца толстой веревки, кое-как выбрался в окошко и соскользнул вниз с ловкостью, которая меня самого поразила. Высота была порядочная – около трех саженей. Хотя я после военной экспедиции должен был бы знать, на что способен человек, спасающий свою жизнь.
Коснувшись подошвами гладких округлых камней мостовой, я кинулся наутек.
Пробежав с четверть версты и сделав несколько поворотов, я перешел на шаг и попытался понять, куда это меня занесла нелегкая. Но во мраке все узкие улочки одинаковы, всюду – высокие стены и маленькие окошки каменных амбаров, и я побрел наугад. Время было, как я понял, предрассветное. Жрицы любви угомонились наконец, и все полуночники давно уж спали. Один я шел по городу в полнейшем отчаянии.
До сих пор история моя была хоть и неприятна, хоть и страшна, но не содержала в себе ничего мистического. Меня оговорили люди, которым я не сделал ничего плохого, я сбежал от частного пристава и ударил кортиком незримого русского человека. Все это было очень плохо для меня, и изрядно взбудоражило душу. Теперь мне недоставало лишь явления нечистой силы или призрака, чтобы с полным правом лишиться рассудка.
И это случилось.
Сперва я даже не понял, откуда доносятся странные звуки. Походило на то, что глубоко под землей засело в норе чудовище и испускает особый ритмический гул. Пройдя еще немного, я осознал: это хор, но надежно укрывшийся, устроивший спевку в погребе. Наконец я понял, что именно поют эти диковинные певцы. Слов я разобрать не мог, но мелодию знал отлично.
Они исполняли марш Бонапартова войска! Под рижскими улицами, амбарами и жилищами почтенных бюргеров звучала «Марсельеза»!
Первая моя мысль была: бежать к Ратушной площади, туда, где за зданием ратуши расположена полицейская контора, рассказать о странном явлении и показать место, откуда «Марсельезу» слышно лучше всего. Когда в городе, который вот-вот окажется в осаде, звучит неприятельский марш – вряд ли это к добру.
Но вторая мысль словно бы схватила первую за шиворот и удержала на месте. Появись я в полиции – первым делом схватили бы не загадочных певцов, а меня самого.
Положение мое было незавидно. Тот, кого я ткнул в бок кортиком, мог при последнем издыхании назвать прибежавшим снизу людям мое имя. Да он и называл его довольно громко во время нашей драки. Если бы в полиции вздумали меня обыскать, то первым делом явилось бы, что кортик мой в крови, и ножны также выпачканы кровью. Я мог выбросить кортик, но оружие морского офицера, найденное в таком виде на улице, сразу же понесли бы в часть, и оно попало бы к частному приставу Вейде, моему недоброжелателю.
Дорога в полицию была закрыта, но при мысли о предательстве в рижских стенах я пришел в несвойственную мне ярость. Следовало что-то предпринять!
Мысли мне в голову приходили самые разнообразные, и самая разумная – написать письмо благодетелю моему и начальнику, вице-адмиралу Шешукову, изложив все события правдиво. Вот только боялся я, что упоминание звучащей из-под земли «Марсельезы» заставит Николая Ивановича усомниться в моем здравом рассудке. А если бы я вдобавок описал то ощущение соприкосновения с потусторонним миром, которое возникло у меня в темном переулке, Шешуков поставил бы мне диагноз не хуже санкт-петербуржского профессора медицины…
Идти в порт я побаивался. Может статься, там-то меня и будут ждать с утра полицейские, если выяснится, что я заколол на чердаке неведомого склада ни в чем не повинного человека. Они решат, чего доброго, что убивать людей на чердаках – излюбленное мое занятие. Так что вся надежда на письмо.
Я даже придумал, где бы мог заняться сочинением сего послания.
В Петербуржском предместье Риги, на Лазаретной улице с незапамятных времен стоял госпиталь. Мне доводилось бывать в нем сразу после возвращения моего из Англии, когда я, уже определившись в толмачи к вице-адмиралу, некоторое время хворал. Когда-то он был Георгиевским, но уже с сотню лет, как стал просто гарнизонным. Недавно его перестроили, воздвигли новый каменный корпус, и я позапрошлым летом, как его открыли, вместе со многими рижанами ходил поглядеть на здание, план коего составил знаменитый архитектор Федор Демерцов. Увидевши длинное одноэтажное здание, имевшее более трех десятков окон по фасаду, в восторг я не пришел. Прочие строения госпиталя так и были оставлены деревянными. Деревянным был и храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», возведенный еще, кажись, при государыне Анне Иоанновне для нужд госпиталя. Храм этот в Риге очень любили, но я сам хаживал туда редко, предпочитая Алексеевскую церковь в крепости.
В госпитале я знал несколько человек, к кому мог бы обратиться за бумагой и пером. И они выдали бы мне письменные принадлежности, не задавая особых вопросов. Сейчас там явно царила суматоха – все еще привозили раненых из Левизова отряда, к тому же, и казаки, посылаемые в разъезды, возвращались порой изрядно поцарапанные. Никто бы не удивился, обнаружив в длинном коридоре госпиталя офицера из портовой канцелярии. Наверняка нашелся бы и знакомец, предполагавший после оказания помощи вернуться в крепость. Да и незнакомец бы сгодился – повторяю, город был до того невелик, что расстояние до порта от Рижского замка, тем более – от любого здания в Цитадели, составляло несколько минут пешего ходу, и считать доставку письма значительной услугой никто бы не стал.
Обдумывая все это, я шел очень медленно, а в ушах моих понемногу угасала загадочная «Марсельеза».
Хочу отметить, что, перебирая возможности, я ни разу не унизился до того, чтобы искать спасения на Песочной улице у Натали и Луизы. Что бы со мной ни случилось – это мое дело, а ставить под удар двух беззащитных женщин я не имел права. Меня могли выследить случайно – и что сталось бы с бедной Натали?
Очевидно, Господь сжалился наконец надо мной и послал мне мудрую мысль. Я решил рассказать о «Марсельезе» доброму будочнику Ивану Перфильевичу.
Поплутав немного, я выбрался на Кузнечную улицу и поспешил к ее пересечению с Известковой, откуда мог увидеть полосатую будку моего приятеля. Даже если бы дневальным в это время суток был не он, а его товарищ, бывший артиллерист Онуфриев, тоже невелика беда – и Онуфриев также меня приветствовал, когда я рано утром и вечером проходил мимо.
Мне повезло – в будке сидел Иван Перфильевич, и мне даже удалось довольно легко растолкать его.
– Ахти, господин Морозов! – воскликнул доблестный страж порядка. – А вас ведь ищут! Фриц прибегал, посыльный из части, о вас расспрашивал. Да я не выдал! Нет, говорю, ничего не знаю, ничего не замечал! Мы, флотские, должны заодно держаться.
Я подумал, что если бы он рассказал, как я минувшей ночью пытался гнаться за убийцей Анхен, может, было бы неплохо.
– Иван Перфильевич, сделай доброе дело, – сказал я. – Как сменишься с поста, дойди до части, найди ну, хоть квартального надзирателя, скажи – кто-то под каменными амбарами засел и по ночам поет «Марсельезу». Скажи – незнакомый-де господин тебе сообщил.
– Что поет? – переспросил будочник. – Каку-таку силезу?
Мне пришлось потратить несколько времени, чтобы обучить его этому слову.
– Ох, не донесу я до части, – затосковал Иван Перфильевич, – вылетит из дырявой башки…
– Ну, скажи попросту – марш, с которым Бонапартово войско ходит в атаку. А про меня молчи.
– Да вижу уж, что в беду попали… Господин Морозов, а ведь с вас причитается! – воскликнул будочник. – Я пропажу вашу подобрал!
– Какую еще пропажу?
Он торжественно вручил мне магнит, позабытый в будке прошлой ночью. Я повесил на палец подарок моего шалого дядюшки, пожелал будочнику приятных сновидений и двинулся к Карловым воротам. К утру, когда их отпирали, по обе стороны собиралось немало народу – одни жители Московского форштадта, проведя ночь за городскими стенами, хотели попасть в дома свои и собрать еще несколько узлов имущества; другие жители того же форштадта, напротив, шли с мешками и тачками в город; местные огородники везли и несли товар на продажу; из крепости доставляли на подводах смолу в бочках, деготь, скипидар, чтобы подготовить дома в предместьях к сожжению. Я мог бы выйти и Известковыми воротами, но там желающих покинуть крепость или вернуться в нее было не в пример меньше: если верить обещаниям фон Эссена, огонь, пожравший в стратегических целях Митавский форштадт, угрожал только Московскому форштадту, но пока еще не Петербуржскому.
– С нами Бог и андреевский флаг! – сказал мне вслед Иван Перфильевич.
Я невольно усмехнулся. Конечно же я, как всякий офицер, крещенный в православии, знал молитвы, ходил в церковь, а за тем, чтобы мы исповедовались и причащались, следило начальство. Но, видите ли, молитва хороша перед боем, а в бою звучит именно это:
– С нами Бог и андреевский флаг!
Так утверждал мой восторженный дядюшка Артамон, увлекая меня в бегство. И его слова подтвердились в плавании по Средиземному морю. Более того – и помолившись, и получив благословение у судового батюшки, в последнюю минуту, уже спускаясь в шлюпки, чтобы с боем высадиться на побережье острова Тенедос, наши матросы восклицали, крестясь:
– С нами Бог и андреевский флаг!
И взяли ведь Тенедосскую крепость, и сделали ее нашей главной базой! Это было в марте тысяча восемьсот седьмого года. Точно то же я слышал и в мае, в ночном бою у Дарданелл, когда наши корабли, нарушив строй, прорезали линию противника и, паля с обоих бортов, показали туркам, что есть отличная боевая выучка матросов и канониров.
Помахивая магнитом, я дошел до ворот и покинул Рижскую крепость, оставшись незамеченным. После чего я, углубившись в Московское предместье, сделал немалый крюк и вышел к госпиталю.
Возможно, тут у дотошного читателя, а тем паче читательницы, возникнет вопрос: как так получилось, что я, будучи человеком возвышенных чувств, все это время почти ни разу не вспомнил о покойной Анхен? Я сам впоследствии пытался в этом разобраться со всей возможной честностью, без всякой жалости к себе. И впрямь – мы долгое время были близки, я искренне к ней привязался, но, когда ее убили, не оплакал ее и даже, кажется, не сожалел о ее гибели так, как полагалось бы.
Я пробовал найти себе несколько оправданий.
Пока я гнался за предполагаемым убийцей и отвечал на обвинения соседей, мне было не до сожалений. Потом, в погребе, мне хватало размышлений о собственной горестной судьбе – увы, себя я тогда жалел более, чем ее. И основания для этого имелись. Потом меня отвлекло ремесло. Потом вывел из себя Вейде с его хитроумным обвинением. То есть голова моя была постоянно чем-то занята – и мысль об Анхен там уже не помещалась.
Возможно, я даже винил бедную женщину в том, что из-за ее смерти на меня свалилось столько неприятностей. Это звучит совсем не по-христиански, но чувство недовольства у меня тогда возникало, его я запомнил отчетливо. Хотя вряд ли оно могло служить оправданием.
Кроме того, я был молод и до сих пор никем и никогда в преступлениях не обвинялся. Не совру, если скажу: меня всегда любили. Столкнувшись с тем, что есть люди, не пылающие ко мне добрыми чувствами, я и удивился, и смертельно обиделся. Возможно, это затмило ту обязательную скорбь, которую должен ощущать любовник по своей покойной любовнице.
Кажется, однако всеобъемлющего оправдания мне не существовало в природе. И лишь потом, с течением времени, я стал ловить себя на том, что, увидев девицу или даму с такими же золотистыми колечками волос, как у Анхен, я невольно поворачивался и провожал ее взглядом. Как будто в душе у меня после смерти моей бедной подруги осталось некое пустое место, и я, сам себя обманывая случайным сходством, пытался хотя бы умозрительно это место заполнить, воскресив в памяти Анхен – кокетливую и деловитую, разговорчивую и ласковую…
Идя Московским форштадтом, я видел готовые к сожжению дома, в том числе и огромный Гостиный двор. Жители с хмурыми лицами развешивали по стенам просмоленные веревочные венки, полученные от полицейских. Я наслушался ругани в адрес фон Эссена с его штабом; хотя рижские бюргеры и айнвонеры, а вместе с ними и русские купцы содрогались при мысли, что Рига будет насильственно отделена от России и тем завершатся сто два года ее процветания. Но мысль о гибели имущества, которое не удалось перевезти в крепость, всех сильно раздражала.
Участь Риги в случае победы Бонапартовой была бы незавидна. Город перешел бы либо к Польше, либо к Пруссии, существовала и другая неприятная возможность – остаться вольным городом наподобие Данцига, которому вольность вышла боком, он заплатил за нее рабством, бедностью и нуждой.
Я невольно прислушивался к речам и услышал немало разумных тактических соображений.
– Предместья можно пожечь и тогда, как войдет в них неприятель! – восклицало лицо духовного звания, коли судить по его поношенному подряснику и скуфеечке. – Тогда ему более будет причинено вреда!
– Они могли бы предоставить нам телеги, чтобы вывезти имущество из города, а также дать нам охрану, – вторил ему купчина в синей поддевке и в высоких сапогах, что было верным признаком старовера, – или же позволить все сложить в крепости, хоть бы и на малой парадной площади, поставив там сараи. Не станут же теперь проклятые немцы устраивать парады!
– А можно было на стругах отправить добро вверх по реке, сопровождая по берегу казачьей конницей, и там уж, выгрузив у Икскюля, развезти по баронским усадьбам, – советовал другой стратег, в коем я по русской речи, простой мужицкой рубахе, перехваченной тканым кушаком, широким плечам и мощным рукам опознал старого плотогона.
– А, может, обойдется? – неуверенно спросил малорослый парнишка в поддевочке, и тут же получил от купчины весомый подзатыльник – то ли за необоснованную надежду, то ли за то, что мешается в разговор старших.
Я прошел мимо, помахивая своим магнитом.
Дорога к госпиталю заняла около часа, и я вышел к нему почему-то со стороны кладбища. Там я увидел свежевыкопанные могилы и тяжко вздохнул – не всех раненых, кого привезли из-под Экау, удалось спасти.
В госпитале кипела работа, звучала главным образом немецкая речь, я несколько удивился, увидев молодые лица докторов. Потом выяснилось, что студенты Дерптского университета, обучавшиеся медицине, во главе со своим профессором Эльспером вступили в ополчение, и часть их была направлена в Ригу. Я нашел знакомца своего, старого полкового фельдшера, славившегося умением излечивать грудные болезни. Он устроил так, что я вскоре примостился на подоконнике с пером и бумагой.
Писал я долго и старательно, обдумывая каждое слово. Менее всего я хотел разжалобить Николая Ивановича своими горестями. Кроме того, следовало растолковать, почему я сбежал от частного пристава Вейде, да так, чтобы у вице-адмирала не возникло желания задавать мне вопросы. Раньше я хотел поведать ему про Натали, но сейчас, сидя в госпитале, передумал – во всяком случае, писать о ней было бы верхом нелепости. Письмо могло оказаться где угодно. Я решил, что расскажу о Натали при личной встрече – и то, если буду полностью уверен в благожелательном отношении к себе господина Шешукова. Все ж я не только был несправедливо обвинен в двух смертях, но и действительно заколол, в лучшем случае, тяжело ранил напавшего на меня человека.
Драку на амбарном чердаке я также хотел изобразить правильно, чтобы не выглядеть забиякой и показать, что иного способа справиться с незнакомцем я не имел. И, наконец, я назвал фамилию фельдшера, оказавшего мне покровительство, чтобы ответное письмо было доставлено на его имя.
Затем я стал искать, кому бы доверить послание.
Как я и полагал, в госпитале находились казаки, что привезли своих раненых товарищей, а теперь собирались обратно в крепость. Я окликнул одного, показавшегося мне знакомым, и назвал имя приятеля своего, казачьего урядника Соколова. Это сразу расположило ко мне собеседника, и я вручил ему письмо, поручив передать господину вице-адмиралу в собственные руки.
Казаки ускакали, а я растолковал старому фельдшеру, насколько голоден, и получил на кухне миску пресловутого госпитального габерсупа и хороший ломоть хлеба. Оставалось ждать какого-либо ответа от вице-адмирала.
Скажу сразу – никакого ответа я не дождался.