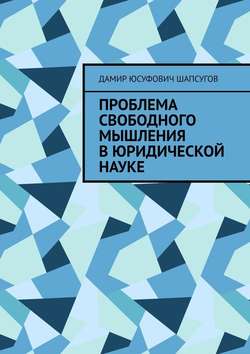Читать книгу Проблема свободного мышления в юридической науке - Дамир Юсуфович Шапсугов - Страница 5
§2. Технологии отчуждения живой мысли в опыте
(Ф. Бэкон)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОглавлениеПроведенное краткое исследование учений об уме ряда выдающихся мыслителей прошлого выявляет их общий подход к пониманию ума, как определенных, различных технологий мышления, отождествляемых с умом. Вследствие различных объективных причин проведенные ими исследования не имели в качестве предмета исследования непосредственно живую мысль, следовательно, без получения непосредственного знания о ней и минуя его. Об это прямо свидетельствует заявление Д. Локка о том, с чего надо начинать исследование разума – с определения его сущности, предопределяющей отчужденный характер технологий его познания. Это высказывание до сих пор воспринимается как единственно правильный методологический подход к исследованию предметов, несмотря на обоснование Г. Гегеля его несостоятельности. Еще Б. Спиноза утверждал: «не имея никаких представлений о сущности материи, мы не можем отказать ей в открываемых у нее свойствах с помощью наших чувств».96
Аналогичным образом высказывались и Аристотель, и Бэкон, и Декарт, и Лейбниц, в концепциях которых вообще не ставится вопрос о живой мысли, как единстве двух природ человека и, следовательно, непосредственном объекте исследования и ее трансформации вместе с последствиями, которые она вызывает в действительности. Не имея прямого доступа к ее изучению, как говорил И. П. Павлов, не погружаясь в тончайшие психологические исследования об уме97, они строят предположения о простых идеях, ощущениях, рассудке и разуме, мысленно обозначаемых ими как анализ процессов мышления. В результате они (концепции) оказываются различными технологиями познания, четко не осознаваемого и недоступного для применяемого ими, инструментария предмета. Ибо познание ума, как говорил И. П. Павлов, ограничивается имеющимися техническими средствами, которые у рассматриваемых мыслителей отсутствовали. Однако, нельзя сказать, чтобы эти технологии не имели, или не имеют сейчас научного значения.
Очевидно, что без их создания и практического применения, их глубокого анализа нельзя было бы иметь знания, опираясь на которые можно было бы продвигаться по пути поиска истины в данном вопросе.
Необходимо отметить, что все ключевые слова, выражающие познавательную деятельность (ощущения, опыт, память, индукция, дедукция, рефлексия рациональность, иррациональность и т. д.), были абсолютизированы с точки зрения их роли в познавательном процессе. Долгое время ощущения считались единственными достоверными источниками информации для познания, что нашло свою формулировку в правиле «нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувстве», выдержавшем многочисленные испытания временем, но сохранявшем характер закона познания в XIX и XX веках.
Проблема достоверности информации, поставляемой чувствами, наиболее глубоко была исследована теми мыслителями, которые получили, вряд ли заслуженное ими, название агностики. Ведь они стремились получить достоверное знание, но, подвергнув критическому анализу реальные возможности человека познавать через органы чувств окружающий мир и себя, пришли к выводу об их ограниченности98. С этой точки зрения их реальный вклад в развитие познавательной деятельности едва ли меньше тех, кто убеждал человечество в несостоятельности их идей. То же самое можно сказать и относительно указанных выше других ключевых слов. Взаимная критика представляющих собой развертывание отдельных понятий в концепцию дает основание для сомнений в их основательности, убеждает в их односторонности, не позволяющей познать истину.
Особое место в ряду этих понятий занимает интуиция, являющаяся порождением живой мысли первой фиксацией ее отчуждения может быть выражением как истины, так и заблуждения. Очищение ее от заблуждения и подтверждение ее исходной истины осуществляются посредством использования диалектики, включающей в себя операцию опосредования, которая не сводится только к преодолению противоречия, а включает взаимную проверку способов получения истинного знания в формате понятия, образа, символа и др., с тем, чтобы достигнуть максимального совпадения знания, получаемого в формате рационального рассудочного определения, и понятия опосредования, психологических и физических оснований. В этой цепочке действий осуществляется познание предмета.
При этом установление единства физического (природы), природной воли (психологического), понимаемого как естественный процесс функционирования ума (страсти, мнения субъекта и социальной природы – духовно-нравственного содержания) является критерием постижения истины, насколько это возможно в данных обстоятельствах, с учетом степени объективной возможности познания смысла и сущности вещей (всех предметов познания) имеющимися у исследователя на данный момент, учитывая его возможности (наличные средства познания на данный момент). Эта мысль вытекает из идеи бесконечности развивающегося познания и мышления, адекватной идее бесконечности развития мира природы, человека и создаваемой им среды.
Непостигнутое постигается не в каждый данный момент, но по мере создания необходимых предпосылок для возникновения живой мысли и возможностей удержания ее в сознании и исследования надежными средствами.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что имеющиеся у человека способы получения информации не в отдельности, ни в сочетаниях не могут дать абсолютное знание. Стремление к нему дает возможность создавать относительное знание, которое является надежным фундаментом для получения надлежащего знания.
Интуиция есть способ фиксации живой мысли. Индукция, дедукция, рефлекция, опыт, память, анализ и синтез, система и хаос и т. д. – способы отчуждения живой мысли, в которых она «умирает», чтобы иметь возможность «воскреснуть» в качестве истины или заблуждения. В этом смысле истина не единственный результат познания. Им может быть и заблуждение. Познание не замкнутая, а открытая система постоянно организующего взаимодействия всех познавательных средств и технологий их применения для получения развивающегося знания, позволяет сегодня сделать вывод о том, что проблема истины, традиционно опирающейся на теорию отражения сознанием бытия, смещается в другую плоскость, главным ориентиром в которой выступает поиск живой мысли, в том числе и экспериментальным путем, и выяснение ее действительных трансформаций как новой надежной основы для понимания ее сущности. Созданные искусственные технологии познания и мышления, разумеется, здесь уже рассматриваются как некий опыт, который небесполезно изучать, чтобы не повторять то, что уже ушло в историю познания и мышления и сыграло свою в целом позитивную роль. С этой точки зрения представляют большой интерес взгляды выдающегося естествоиспытателя И. П. Павлова на проблемы ума и его познания.
И. П. Павлов в своей работе – цикле лекций, объединенных общим названием «Об уме вообще, русском уме в частности» дает описание ума, проявляющегося в работе, в частности, в его личном опыте, рядом с которым нужны тонкие психологические объяснения, которые он опускает в своем изложении, дает классификацию видов ума, обосновывает особенности целостности разновидности ума, называя его русским умом, к исследованию которого он привлекает как критерий ума, некий, как он говорит, аршин – установленные им общие свойства ума.
Этот общий взгляд выдающегося естествоиспытателя на проблему ума чрезвычайно важен для понимания процессов становления ума и тех технологий его выражения, которые создавались в разные эпохи человеческой истории великими мыслителями, которые, не имея практически никаких технических средств для изучения ума, практически опираясь только на наблюдении и опыты, разрабатывали замкнутые, логически стройные концепции с целью дать объяснение, возможно, самой выдающейся способности человека, позволяющей ему познавать мир и определять свое место в нем.
Опыт И. П. Павлова по исследованию ума особенно ценен как исследование проблемы ума одним из выдающихся естествоиспытателей человечества, даже если он, возможно, и не был детально знаком с философскими, либо социологически ориентированными идеями об уме. В свою очередь первые, по крайней мере, те, о ком идет речь в данной работе, явно не были естествоиспытателями в полном смысле этого слова и, по этой причине, преимущественно, не затрагивали такую проблематику в своих исследованиях, довольствуясь знаниями, полученными предшественниками, с опорой на логику и развитие способности к творческому мышлению. Это обстоятельство сильно ограничивало их возможности в разработке универсальных концепций ума, хотя каждый из них в свое время имел право считать и, по-видимому, считал, эту цель достигнутой. Сегодня понятно, что без естественно-научной части учения об уме обречены быть технологиями отчужденной мысли, воплощенными в силу этого в специально создаваемых искусственных концепциях, гипотетически содержащих правдоподобные положения, подлежащие осмыслению на новом этапе познавательной деятельности.
«Ни Аристотель, ни Платон, ни Декарт, ни Мальбранш, подчеркивал Б. Спиноза, не скажут вам ничего о душе. Она остается неизвестной. Душу, освобожденную от тела при помощи абстракций, столь же невозможно себе представить (ведь представление основано на ощущении) как и материю без формы. Чтобы познать свойства души необходимо сперва открыть свойства, явно обнаруживающиеся в телах, активным началом в которых является душа99.
Получается так, что технологии работают, как выразился И. П. Павлов, «вне жизненной необходимости, вне страстей» и это «работа, далеко идущая от работы того ума, который действует в жизни»100.
Проведенный анализ учений об уме, на наш взгляд, вполне подтверждает обоснованность выводов И. П. Павлова и относительно их содержания. Действительно, ключевые слова рассмотренной концепции; ощущения, представления, память, индукция, дедукция, интуиция, рассудок, разум, являются обобщениями, не опирающимися на факты действительности мысли и экспериментально установленные процессы ее функционирования, позднее ставшие предметом исследования вновь образованных наук. Их смысл определяется предельно общим образом, без опоры на естественно-научные знания, без того, чтобы «дойти до непосредственного видения действительности»101. В этой связи представляется характерным, что И. П. Павлов использует слово «сигналы», а не термин «ощущения», широко применявшийся и применяющийся и сейчас в обобщающих концепциях об уме без конкретизации его естественно-научного содержания.
Таким образом, естественно-научный аспект проблемы ума, оказался вне сферы внимания его исследователей. Это обстоятельство четко было зафиксировано И. П. Павловым, применительно к русскому уму, но отражает состояние всех исследований ума предшествующих эпох, разумеется, в разной степени.
«Русский ум не привязан к фактам. Русская мысль имеет только слова „не хочет прикоснуться к действительности“, она совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысл слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни».102 Этот вывод он характеризовал как приговор русской мысли. В этом контексте важно подчеркнуть, что И. П. Павлов, разрабатывал проблематику деятельности ума, настаивал на необходимости абсолютной свободы мысли как качестве, свойстве ума. При этом Павлов И. П. не говорит то же самое о свободе слова, понимая их различие.103
Как подчеркивал Б. Спиноза, «Мысли – мои философы, только они могут просветить разум в поисках истины, именно к ним приходится восходить, если всерьез ее познать»104.
Указанный И. П. Павловым недостаток ума, характеризовавшийся им как, «словесная гимнастика», «фейерверк слов», «этикет вместо фактов», сказался особенно негативно на становление юридической науки и не только в России, где в мышлении названном правовым не оказалось права. Другого и не могло быть, пока не раскрыта естественно-научная сторона познания, процессов формирования и действия права.
Известно, какое огромное влияние на юридическое мировоззрение оказала психологическая концепция права Л. Петражицкого. Наконец-то, казалось, стена, разделявшая юридическую науку и психологию была разрушена, но объявленного господства психологии в юридической науке не случилось по той же самой причине, на которую указал И. П. Павлов.
Отчуждение мысли в формате отдающих психологией терминов, не могло заменить живую мысль о праве, которой и эта теория не занималась, поскольку не опиралась на естественно-научные процессы ее функционирования.
Таким образом, учения об уме на деле оказывались предметно ориентированными на изучение видимости ума, выступавшей в формате различных технологий отчуждения живой мысли.
Общая исходная черта технологии отчуждения – исходные допущения, аксиомы (старое знание), а не твердо установленный факт живой мысли, продолжающей свою жизнь через развитие предмета, явления, проблемы, а не их статичное состояние. Таким образом, переход предмета, проблемы в видимость, отождествляемую с предметом действительным (подмена предмета), является началом «работы» технологии видимости предмета, т.е. его отчуждения в видимость. Мир видимостей через технологии отчуждения преподносится как мир действительный. Простые идеи Локка, монады субстанции Лейбница, сомнение Декарта, опыт Бэкона, формальная логика Аристотеля на деле выступают началом объяснения и построения мира видимостей – искусственного окружающего мира, как среды формирования новых поколений людей. Дело доходит до создания искусственных продуктов питания, искусственной одежды, целого «технопарка» созданных человеком орудий и средств выделения физического человека из природной среды и постепенного включения в нее робота вместо человека – живого, который может оказаться уже не нужным природе. Ему, кажется, найдена замена в виде чистого разума без живого человека, которому не страшна смерть, не доступна любовь и совершенно ни к чему свобода и справедливость. Возникает новая природа, в которой человек утрачивает свою ценность как нравственное существо. Возникает некий «император» над роботом, воля к власти которого достигает конечной точки своего существования. Когда крушатся империи, возникает новый мир, но уже без императоров.
Таким образом, предшествующие исследования познания были сосредоточены, в основном, на идее овладения объектом, получение знания о котором составляли главную цель познания, поэтому истина здесь необходимо выступала как соответствие знания объекту, понимаемому как внешний объект. Основная цель познания определялась как получение истинности знания об объекте. Творчество человека здесь не составляло самостоятельного предмета исследования, собственно, даже не рассматривалось как деятельность человека, относилось к существу более высокого порядка – Богу, что особенно четко было обозначено в эпоху средневековья. Наряду с этим настало время, когда в определенной степени, хотя, преимущественно, абстрактно, была рассмотрена внутренняя сторона познания и мышления, выражением которого стали технологии Сократа, Платона, Аристотеля, Бэкона, Декарта, Д. Локка.
Г. В. Лейбниц попытался сделать синтез античного и средневекового подходов к познанию и мышлению. Этот синтез в иных формах пытались осуществить в последующем в XVIII XIX вв. Наступил период, когда стало необходимым сделать переход от изучения внутренних процессов происхождения и поддержания знания к анализу их внешнего действия, обусловливавшему переход к новому обобщению познания и мышления, с учетом его внешнего действия. Проблема истины здесь уже вставала не как элемент внутреннего соответствия компонентов знания друг другу, а как творческая реализуемость знания во внешней среде. Так был поставлен вопрос о воле человека, как факторе выхода знания во внешнюю среду и возможностях его применения во благо человека. Субъектом этой воли становится уже не Бог, а сам человек и проблема его воли, истины, содержания, внешние формы проявления и т. д. становятся первоочередными в процессе познания и мышления.
Такой подход «переворачивает» все старые способы познания, в которых главную роль играл объект познания. Происходит трансформация познавательных процессов от отношений к объекту познания к отношениям субъект-объектным и, наконец, к субъект-субъектным отношениям, в которых воля человека объявляется главным результатом всего познавательного процесса, выставляющим (выявляющим) его подлинную социальную ценность. Возникает необходимость в радикальной переоценке ценностей, символом которой становится Ф. Ницше. Разумеется, как это бывало и ранее, новый «символ веры» воля абсолютизируется, становится главной, едва ли не единственной целью познания и мышления, без достижения которой человеческая жизнь теряет смысл. Наступает эпоха экспериментальных психологических исследований, позволяющих преодолеть оставшийся от прежних эпох психологический пробел в познании и мышлении человека. Тем самым, создается основание для нового рассмотрения познания и мышления человека в единстве уже установленных его аспектов: от формирования физической чувствительности, метафизической обобщенности, опираемости на опыт и психологическую конкретизацию.
Становится осознанным новый предмет исследования единство природной воли и социальной духовно-нравственной природы человека. Исследование этого единства становится новым этапом в развитии человеческого познания и мышления, особенно значимым для юридической науки.
Это единство как живая мысль о праве протознак права, «прячется» в предмете правового мышления, а живет или умирает в его методе. Опять мы сталкиваемся со старой проблемой: дело не в вещах, а в разумении, требующем очень серьезного отношения к себе.
Производство знания уже выходит на совершенно другой уровень. Исследователь имеет возможность быстро и беспрепятственно собрать и изучить весь имеющийся информационный материал, касающийся интересующей его проблемы. Ему достаточно только использовать уже имеющиеся технологии, которые позволяют даже строить определённые гипотезы относительно способов исследования и решения поставленных проблем, и даже сама постановка этих проблем также может быть осуществлена на основе этих технологий.
Но старая проблема установления истины не снимается с повестки дня, ибо значительно увеличивается количество абстрактных, сугубо рационалистических, решений, не являющихся выражением истины, претендующей на выражение единства двух природ человека.
Сложившаяся и ставшая фактом универсальность знания требует новой, тоже универсальной, теории познания и мышления. Впрочем, здесь, может быть, будет не совсем уместным употреблять устоявшийся термин «теория», уже начинающий дискредитировать себя, вследствие явной недостаточности степени универсальности, которая может быть в нем выражена. Ибо мышление уже вынуждено избавляться от тех неизбежных ограничений, его возможностей, связанных с жёсткой дифференциацией отраслей знания и их разделённостью, отсутствием какого-либо зримого единства между ними, демонстрируемого массой разрозненных теорий.
Ум исторически выступает как способность человека познавать мир, себя и мыслить непознаваемое. Ощущения, идеи, память, опыт, рассудок, понятия, разум – составные части этой способности, называемой умом. Его изучение в истории человеческой мысли осуществлялось путём непосредственного наблюдения, позволявшего высказывать предположения об устройстве окружающего мира, сущности и существований человека, систематизировавшегося посредством рационализации его сознания.
Однако такой способ познания оставлял сомнения как в самой возможности получения знания, так и, в особенности, его достоверности. Д. Рикардо, опираясь на достоверность самого сомнения, как уже отмечалось, создал простую и рациональную систему познания. На предыдущем этапе развития ума получило развитие идея о том, что достоверность знания может быть обеспечена только опытным знанием, опирающимся на эксперимент.
Опора на опыт в получении знания значительно расширила сферу достоверного знания, приносящего серьёзную пользу человеку, но стало очевидно, что, как само получение опытного знания, так и его использование невозможны без рационального мышления, что вновь поставило проблему их особенностей и их единства. Эта проблема была разработана в трудах Д. Локка, Г. Лейбница.
Изучение истории человеческого познания в рассматривавшемся ранее аспекте его становления: от примитивных, первичных к развивающимся от века к веку, более содержательным, структурированным, логически стройным способам познания, породившим огромное количество новых методов познания, неизменно становившихся старыми, вызывает неожиданный вопрос: а действительно ли логический путь познания, обрамлённый в форму языка, является единственным способом получения необходимого человеку знания? В состоянии ли логика, даже во всём многообразии её современных разновидностей, решить эту задачу? Нет ли у неё никакого, более современного, заменителя? Не является ли логика уздой, наложенной на живое мышление? И не настала ли пора заняться, преимущественно, этим последним, не налагая на него логические лекала?
Не случайно, например, история учений о нравственности не укладывается в прокрустово ложе логики и даже языка, с его ограниченными средствами выражения живой развивающейся жизни. Не оказываются ли логика, язык «золотой» клеткой, в которую мы пытаемся поместить жизнь человека, живую мысль?
Выступая организаторами нашего мышления, обеспечивая человеческое общение до известного уровня, они утрачивают свойства универсализированного общения. Языки, созданные отдельными народами, стали орудием противопоставления народов, при этом они имеют тенденцию к отмиранию, хотя и выделение нескольких языков в качестве общенародных не снимает саму суть проблемы недостаточность универсальности языкового общения между народами.
Наступает эпоха осознания недостаточности сложившихся форм коммуникации, в том числе и языковой, становится неизбежным переход к новым. Этот переход уже анонсирован преобладающим влиянием в современном мире английского языка и некоторых других языков, пока неудавшимися попытками создания искусственного языка – эсперанто, современным большим интересом к проблематике цифрования. «Языковый» архаизм уже стал очередной проблемой цивилизации. Противоречие между живым мышлением и омертвляющим его языком приобрело весьма опасный характер. О существовании такой проблемы в своё время писал, как уже отмечалось. известный философ Мераб Мамардашвили.
Разумеется, речь не идёт о немедленной отмене логики, языков. Их исторический след остаётся в современных библиотеках, как составная часть памяти человечества, способного и, даже можно сказать сильнее, вынужденного создавать новые средства и способы коммуникаций, становящиеся необходимыми компонентами его будущих состояний.
В свете такой перспективы особенно неприличной представляется сложившиеся юридическая казуистика и архаика, ставшие неподъёмными оковами в нравственном развитии человечества. Причины, обусловленные их необходимостью, заключены в естественной природе людей, не проникшихся настоящей цивилизацией. Детальная регламентация поведения людей, возможно, и была неизбежной на этапе становлении человеческих обществ, но современный уровень развития уже миллионов людей, а в отдельных случаях и стран уже может стать стартовой площадкой для перехода к регулированию поведения людей на основе общих принципов, что станет выражением более высокого уровня юридической свободы человека. Их осмысление и становится основной задачей познания права, решение которой требует создания новых юридико-технических средств, вследствие исчерпанности созидательных возможностей уже устаревших прошлых.
96
Б. Спиноза. Трактат о душе.
97
Павлов И. П. Об уме вообще, о русском уме в частности / Природа. 1999. №8. С.…
98
Беркли Д. Опыт новой теории зрения. Его же. Теория зрения или зрительного языка. Его же Трактат о принципах человеческого знания. Сочинение. Вступительная статья И. С. Нарского. М., 1978.
99
Спиноза. Трактат о душе.
100
Павлов И. П. Об уме вообще, русском уме в частности // Природа, 1999. №8. Публикация Ю. А. Виноградова и В. О. Самойлова.
101
Павлов И. П. Указ соч. С. 4.
102
Павлов И. П. Об уме вообще, русском уме в частности // Природа, 1999. №8. Публикация Ю. А. Виноградова и В. О. Самойлова.
103
И. П. Павлов. Об уме вообще.
104
Спиноза. Трактаты о душе.