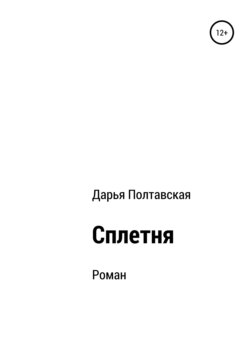Читать книгу Сплетня - Дарья Полтавская - Страница 2
Часть первая
ОглавлениеНаверное, если бы Гурам не был прирожденным сплетником, то и говорить было бы не о чем. Но так бывает: вроде мужик как мужик, а сплетни любит – ну просто мамалыгой не корми. И тогда уж он любой бабе фору даст.
* * *
Однажды в самый обычный будний день Гурам, вроде бы совершенно невзначай, проходил мимо Хасиковых ворот и, увидев хозяина, возившегося с чем-то в саду, бодро его окликнул:
– Ора1! Хасик! Добро тебе!
– И тебе добро, – отозвался, распрямляясь, хозяин.
– Слышал? Невестка твоя, Асида, на днях родила!
– Такое слышал, – спокойно ответил хозяин, вытирая ветошью руки.
– А слышал, что не от твоего брата младенчик-то?
– Такого не слышал, – спокойно ответил хозяин, нагружая тачку срезанным прутняком.
– Так ты узнал бы, а? Нехорошо…
– Коли нехорошо, узнаю, – спокойно ответил хозяин, приподняв в знак прощания кепку и увозя тачку куда-то в тенистую глубь.
Недели через полторы Гурам вновь прогуливался мимо Хасиковых ворот.
– Ора! Хасик! Добро тебе!
– И тебе добро, Гурам, – отозвался хозяин, обтёсывая кол для починки плетня.
– Так ты узнал, твоего ли брата дочка-то?
– Нет, не узнал, – спокойно ответил тот, прилаживаясь поудобнее засадить в землю кол.
– Нехорошо, Хасик, ой нехорошо! Пятно же не только на твой двор – на всю фамилию, на всю деревню, на всю республику – да что там: на всю страну!
– Коли на всю страну, узнаю, – спокойно ответил хозяин, резким точным ударом вгоняя плетнёвый кол в положенное место.
* * *
Три дня спустя Хасик, сменив застиранную рабочую футболку с олимпийской мишкой на тщательно отглаженную голубую рубашку и светлые льняные брюки, поднимался на третий этаж городского дома, где снимал квартиру его брат Даур.
– Ора! Хасик! Добро тебе! – радостно похлопал его по спине Даур. Получилось немного сверху вниз, потому как коренастый, широкоплечий младший еле доставал сухощавому Дауру до подбородка.
– И тебе добро, – пряча смущение за суровостью, ответил Хасик. – Разговор есть. Может, Мадина в магазин сбегает, пока мы тихо-тихо поговорим?
– В магазин не пойдёт – денег не имеем, – засмеялся Даур. – Третий месяц на хлебе и воде, работы нет. Но прогуляться прогуляется. Заодно газет купит – хоть узнаем, как там здоровье товарища Брежнева.
Оставшись одни, братья сели на кухне друг против друга, положив руки на стол.
– А что с работой-то? – спросил Хасик, пытаясь хоть как-то оттянуть основной разговор.
– Да ничего. Прикрыли наш театр. Решают, быть ему или не быть – а мы пока исключительно духом прекрасного питаемся. Да всё наладится, не впервой. Так о чём ты хотел поговорить?
– Тут такое дело, – Хасик внимательно рассматривал собственные ногти, отмытые перед поездкой в город от всех примет сельской жизни. – Гурам приходил.
– А! – Даур откинулся на спинку стула, в глазах загорелся веселый огонек в предвкушении новой забавы. – Что на этот раз?
– Говорит, в селе болтают, что младенец Асиды – не от нашего Астамура.
– Эк куда хватил! А от кого ж?
– Этого не говорит, но, мол, есть точные сведения…
– Да, дела… – протянул Даур, почёсывая бороду и глядя в окно. В пыльном городском дворе пыльная городская курица старательно выкапывала в пыльной городской куче что-то наверняка не менее пыльное. Очень похоже на Гурама, подумал Даур, но вслух сказал:
– Давненько мы никому на язык не попадали.
– Понимаешь, они восемь лет живут, и не было никого, а тут раз – и дочка…
– «Раз – и дочка» – это в жизни случается, – опять развеселился Даур. – Это я тебе как женатый человек говорю.
– Ора! – отмахнулся Хасик, – что делать-то будем? Он мне теперь жизни не даст. Тебе хорошо, ты в городе, а мы с матерью в горах, у всего села на виду.
Пыльная курица за окном, так ничего и не выкопав из пыльной кучи, направилась в поисках счастья к чахлому пыльному газону. Так уж ли мне хорошо – это ещё вопрос, подумал Даур, вспомнив гладеньких, переливчатых маминых курочек на сочной зелёной траве и нестерпимо синее небо, ложащееся грудью прямо на белоснежные шапки гор. И как меня в актёры занесло? Я же крестьянин, меня земля зовет. Зачем мне этот пыльный город?..
– Я, Хасик, думаю, что лучше отца ребенка никто этого дела не знает. Велел тебе Гурам узнать – вот давай и спросим у самого знающего, чего время тратить.
* * *
Ещё через три дня, уже в другом, но тоже приморском городе Хасик и Даур тихонько, чтобы не разбудить малышку, стучали в окно первого этажа самой обычной хрущевки. Откинув штору, Астамур прижал палец к губам и махнул младшим братьям в сторону скамейки, стоявшей под виноградом: мол, только уснула бедная, сейчас приду, располагайтесь. Знойный воздух звенел, как натянутая струна. Хасик осторожно опустился на скамью у доминошного стола. Нервы, честно признаться, были натянуты до предела. Вот кабы к нему кто пришёл и сказал: твоя, мол, дочка – не твоя… Он ведь себя бы не сдержал. Зачем брата обижать? Как можно брата обижать? Может, надо было Гурама прогнать, да и забыть… Да как его прогонишь – не отстанет, ещё и болтать пойдет, что нечего, мол, ответить-то братьям, видать, и впрямь нечисто там… Честный человек людям в глаза глядеть не боится. А хорошо, что я не женат, подумал Хасик.
– Ора! Рад видеть! – статный голубоглазый красавец Астамур вышел, наконец, из дверей подъезда. – Полусухое. Сосед на пробу принес.
– Как Асида, как девочка? – степенно вопросил Даур, с удовольствием рассматривая на свет бледный рубин легкого вина.
– Ох, не спрашивай. Не спит совсем. Что-то у неё там в животике крутит. Я говорю: чачей оботри, ей и дышать вкусно станет, и прохладно, опять же. Что лучше виноградной чачи? Ну разве что виноградное вино. Нас мать, почитай, так и вырастила: тут помажет, там компресс-мапресс – и всё пройдет. Всякая хворь от настоящей чачи бежит.
– Ну ты даёшь, молодой отец, – расхохотался Даур. – Нет уж, пусть лучше Асида сама решает, чем натереть, нам племянница нужна умница и красавица.
– Ора! Какой разговор! Разве у нас другие бывают? Хасик, ты чего смурной? Дома всё хорошо?
– Майка в огород Сантика рвалась, плетень повалила, чинил.
– Вот видишь, – усмехнулся Астамур, – у нас даже коровы – и те красивые и решительные. Уж если что задумала, то никакой Сантиков забор ей не помеха. Уважаю! Мама как?
– Здорова. На днях вот муки мешок намолол ей, порадовалась.
Даур снова поймал себя на мысли о том, как прекрасна и достойна эта тихая, спокойная, веками отлаженная жизнь. И никто так, как мама, не варит мамалыгу, и никто так не снимает сыр… И любая трапеза – проста, вкусна, сытна и основательна. И никто никуда не спешит, как в городе, и каждое дерево даёт тебе силу… Но с другой стороны: проживёшь свою жизнь на этой земле, никому, кроме односельчан не интересный, и в эту же землю в свой срок и уйдёшь. Хасика, если подумать, такое даже в его двадцать пять, наверное, вполне устраивает. А меня?.. В мои-то тридцать…
– Хорошее дело, – похвалил меж тем Астамур. – А я на днях с Нинусей, которая мельницу у нас тут в городе держит, повздорил: принёс ей твою, Хасик, кукурузу, возвращает мне муку, глядь – а она не моя! Ну на половину-то точно! А она мне: что, мол, ты зёрна свои в лицо, что ли, узнаешь, да ещё и в размолотом виде? А я же крестьянин. Я узнаю! Ей, городской, не понять.
– Да, – задумчиво кивнул Даур, – городским не понять.
Хасик почувствовал, что уже совсем извёлся, да Астамур-то не спросит: чего, мол, приехали. Он-то братьев в жизни не обидит. Он-то им просто рад. А они…
Хасик обнаружил, что рука под столом сжалась в кулак и стал осторожно разжимать пальцы.
– Скажи соседу: хорошее вино, братья похвалили, – Даур снова поднял стакан прямо в солнечный луч, упавший сквозь виноградную листву. Светлый рубин заискрил. – Не всем так с соседями везёт.
Рука под столом вдруг разжалась, а Астамур опять усмехнулся:
– Говори?
– Гурам приходил.
– Ну и хорошо – добро ему!
– Хасик, видишь ли, так не думает.
– Гурам – большой талант. Теряюсь в догадках. Кого спасать?
Я что, совсем не мужик? подумал Хасик и открыл было рот, но вальяжный Даур сверкнул такими же, как у братьев, лазурного цвета глазами и по-мушкетерски вскинул кисть:
– Честь рода! Ну и двух дам.
Астамур помолчал пару секунд и вдруг, к полной растерянности Хасика, расхохотался. До слёз.
– Ой, не могу! – он смеялся прямо в небо, а точнее – прямо в согретый солнцем изумрудный виноград. – Неужто до вас только сейчас докатилось?
От неожиданности смутился даже Даур. И подумал, что как бы ни был близок старший брат, а изучить его до дна за все эти годы не смог даже он, спавший в нищем колхозном детстве с Астой на одном тюфяке. Какая, однако, богатая натура для сценического образа. Надо запомнить.
– Ты, наверное, не понял, Астамур, – решительно выложил ладони на стол Хасик. И с размаху сиганул в ледяной пруд: – Гурам болтает, что дочка – не твоя. А что болтает Гурам – о том говорит и всё село.
– Опоздал твой Гурам, – отсмеявшись и вытирая слёзы изрек Астамур. – О том уж полгода как весь наш город судачит.
Хасик даже забыл вынырнуть из своего ледяного пруда. Так и завис, не в силах ни выбраться, ни потонуть.
– То есть, ты в курсе? – от потрясения даже Даур снял свою маску отстраненного пересмешника. – А почему же нам не сказал???
– А зачем? Это же неправда.
Хасик, наконец, вынырнул и с облегчением ощутил под пальцами тёплое, шершавое дерево стола. Щёки задел горячий полуденный ветер. А может, и кровь прилила. Хасик нащупал стакан, осторожно глотнул.
– Прости, Астамур. Я не мог не спросить.
– Ты в следующий раз руки-то пожалей, – хлопнул его по плечу старший брат. – Пахать да вино давить ещё пригодятся.
И подмигнул.
* * *
Гурам, которому уже несколько дней никак не удавалось застать Хасика у ворот, с удовольствием разглядел меж кустов орешника знакомую потертую кепку.
– Ора! Хасик, добро тебе!
– И тебе добро, – ответил хозяин, методично осматривая остроносые корзины для винограда.
– Вижу – нет тебя несколько дней, уже тревожиться стал.
– Зачем? – спросил хозяин, латая треснувшие прутья корзиньего бока.
– Ну так я же, чай, не чужой. Вдруг тебя красотка какая из соседнего села привлекла, вдруг ты её красть собрался. Ты, если что, приходи – я тебя научу, у меня опыт большой. Помню вот, как Асиду для Астамура-то из города крали – это ж я им присоветовал, как одним магнитофоном всю родню обмануть, хе-хе… И вспомнить приятно! Да, давно дело было. Уж лет девять, считай, прошло? Или восемь? В тот год как раз Славик всю хурму в своем саду омолодил, а сейчас вон опять – лес вымахал до неба, не знает, как и собирать-то. А ты как, узнал?
– Как хурму собирать?
– Ты мне, парень, не крути тут! Я этого, знаешь, не люблю. Ты брата спросил?
– Спросил.
– И что говорит?
– Опоздал ты, Гурам, говорит. Уж полгода, как эта сплетня прокисла.
– А… а. А как ребёночек-то? Здоров?
– Девочка у них. Радой назвали. Радость большая. Здоровенькая, да.
– Ну, добро ей… И родителям её. Заболтался я с тобой, Хасик, а я ж тороплюсь, дела имею – они не ждут, знаешь.
– И то верно, – ответил Хасик, подвешивая на крюк третью залатанную корзину.
* * *
Пару недель Гурам ходил притихший, задумчивый. Жена, Химса, его просто не узнавала: новостей не приносил, версий не строил, по соседям не ходил. В размышлениях даже птичник полностью обновил, обещанный уж года три как. Химса только диву давалась. Впрочем, она-то первой в его сети и попалась.
Как-то вечером, аккуратно макая щепоть мамалыги2 в аджику3, Гурам поинтересовался невзначай:
– А что, скажи, соседка твоя Гумала – здорова?
– А что ей сделается? Плохого не слышала.
– Ну, как-никак бабкой стала во второй уж раз. И снова девчонка. Надо же, трёх парней воспитать, одного потерять, а от них самих – только девиц и получать.
– Да какие их годы? Будут у них ещё парни, ещё выбежит Хасик на двор из ружья палить, о сыновьях сообщать4.
– Да как-то странно у них всё…
– Что ж тут странного? Старшие женились, в города подались, младший при матери остался, дом держит – всё по правилам, Гурам, нет на них греха, не мути.
– Ну, греха, может, и нет… – задумчиво собрал мамалыгой жгучие красные крошки Гурам, – а только и порядка тоже не много.
– Ора! Ты язык-то попридержал бы? Гумала – кристальная женщина. Уж двадцать лет как вдова, а никто слова худого о ней не скажет. Сама всех троих подняла, сама в люди вывела.
– Да я ж не спорю – двадцать лет, такой срок… Жаль в одночасье имя-то терять.
– Шайтан тебя забери, Гурам – что ты несёшь?!
– Ну, с меня-то толку шайтану, небось, немного – ему другие поинтересней, кому есть что скрывать. Это ж дело житейское – темно, поезд, вагон… Это теперь у них называется «ко-ман-ди-ров-ка». А потом, глядишь, и чудо случается, после восьми-то лет неудач. Ох, не зря её Гумала всегда недолюбливала. Вот как знала, а?.. Теперь-то, конечно, куда ей деться – будет сына от позора беречь.
Химса устало подперла щеку кулаком:
– Ну что ты её донимаешь, а?
– Я?! Да я ей слова лишнего не сказал. А только если Асида в поезде своём и впрямь полки перепутала, то запашок этот не им одним достанется – всё село, пожалуй, провоняет. Вот и отнекиваются. А я тебе так скажу: не для того предки наши обычаи заводили, чтобы их в «ко-ман-ди-ров-ках» нарушать.
Химса, поджав губы и покачав головой, ушла во двор загонять цыплят. Гурам побарабанил пальцами по столу и усмехнулся: дело пошло.
Жену свою он знал хорошо и потому терпеливо слушал, как она полночи ворочается, уснуть не может.
–Гурам… – не выдержала, наконец, жена. – Ты не спишь?
– Мммм? – нарочито сонно промычал муж.
– Слушай… а ты точно знаешь?..
– Ммммм… – неопределенно выдохнул он.
– Но это же такое пятно… Это ж не смыть… Ты точно-точно уверен?
Гурам перевернулся на другой бок и засопел.
Больше он разговоров на эту тему не заводил, но это уже и не требовалось: теперь пришла очередь Химсы ходить в задумчивости, приправляя повседневные дела изрядной долей рассеяности и суеты. А главное – она уже трижды навестила Ганичку, земля которой прилегала к Хасиковым полям с севера. Всё село отлично знало, что раньше особой дружбы за кумушками не водилось.
* * *
Ганичка была не просто соседкой Гумалы: она была ей совсем, совсем не чужой.
Много лет назад, когда Хасик едва перешагнул за полгода своего земного существования, у Гумалы что-то случилось с грудью. То ли она её застудила под декабрьским ливнем, то ли слишком долгое путешествие к бухгалтеру в город вызвало сильный застой молока, а только грудь её, обычно округлая и мягкая, как первый сыр, вдруг стала бугристой, твёрдой и очень горячей. Болело до темноты в глазах, а когда Хасик, нетерпеливый и жадный, как все младенцы, пытался выдоить из неё своё, причитающееся, Гумала чуть не в голос кричала – от боли и от полной невозможности отдать сыну хоть что-нибудь. Это бы даже и ничего – сырым мясом и капустным листом искони такую хворь сводили – если бы Хасик уже мог принимать другую пищу. Но он был мал, вечно голоден и совершенно не собирался об этом молчать.
Темыр, отец мальчишек, был тогда ещё жив, и истошные крики рассерженного малыша его совершенно сводили с ума. Пока Гумала через слёзы, чуть не теряя сознание, прикладывала сына к груди и всё-таки пыталась дать ему рассосать молочный затор, Темыр пошёл на соседкин двор. Ганичка, румяная и розовощёкая, кровь с молоком, на тот момент тоже кормила: всего месяцем раньше Хасика на свет появилась её очередная дочь вместо обещанного всеми знахарками долгожданного сына. Пряча глаза и не зная, как сказать, Темыр предложил ей свою корову, только бы выкормила мальца – а ну как Гумалина грудь так и останется твердой и сухой? Ганичка молча выслушала, задрав брови, усмехнулась и повела плечом: не нужна мне, Темыр, твоя корова, и так выкормлю тебе парня, а только пусть он, как вырастет, добра-то не забывает.
Нынешняя Ганичкина дочка была уже пятой в семье, поэтому проблем в жизни матери предстояло как минимум две: где взять мужей на такой хоровод невест и кому завещать дом, когда дочери все по мужьям всё-таки разлетятся. Поэтому на полугодовалого Хасика-соседа у неё были совершенно конкретные и весьма далеко идущие планы.
Через неделю капустные листы полностью спасли Гумалину грудь, но опытная знахарка кормить всё ещё не велела – дурное, мол, молоко пойдёт. Слово «токсины» тогда ещё не было в ходу в селе, но сами токсины этого не знали и травили обывателей вполне исправно, а потому недавно потерявшая одного сына Гумала изо всех сил оттягивала момент возвращения Хасика к материнской груди, упрашивая Ганичку потерпеть ещё чуть-чуть. Ганичка, усмехаясь, легко соглашалась, и колесо катилось дальше.
Ровно через месяц Темыр торжественно внёс сына домой после очередного гастрономического визита, и жизнь снова пошла своим чередом. Только Ганичка, работая во дворе да в огороде, нет-нет да и кинет взгляд в сторону Темыровых, а затем уже Хасиковых полей: как вырастешь, добра-то, мол не забудь…
И вот к этой-то Ганичке задумчивая Химса и зачастила. О чём они там шептались, Гурам не знал, но подозревал, что свершения задуманного осталось ждать совсем недолго. И, конечно, не ошибся.
Однажды вечером Химса поставила перед мужем тарелку с мамалыгой, стакан мацони5 и, переплетя руки на груди, прислонилась к буфету.
– Зря ты воду мутил, Гурам. Не прав ты. Всё – сплетня. Ганичка её сама спросила. Ей Гумала не солжёт.
– О чем ты, обара6? – недоумённо посмотрел на неё супруг.
– Ой, не делай вид, что не понимаешь! О крови Темыровой говорю. Нет у неё сомнений. Стыда нам столько ты принёс, Гурам …
– Свой стыд ты не от меня взяла, а сама на себя приняла. А только спросила ли ты Гумалу, может ли пойти в святилище и там клятву дать?
– Ора! Зачем?! Разве тебе её слова не достаточно?
– Было бы достаточно, коли бы оно было одно. А сейчас выходит, что её слово против другого слова – ну и в чью сторону перевес? Нету, поровну всё. А пока точного свидетельства не имеем, плохи дела у Гумалы, и у сыновей её нехороши. Это дело бабье, Химса, я путаться в него не буду, а только ты сама реши: готово ли село терпеть такую тень или пора бы и вспомнить обычаи стариков.
* * *
Хасик вернулся с дальнего луга, когда солнце уже клонилось к закату. Трава удалась сочная, густая, косить с утра умахался – тело ломило, руки саднило, но радовало спокойное ощущение честно выполненного дела. Хасик вообще любил это чувство: легкий (или не очень) гул усталости в крови и удовлетворение от вида аккуратно сделанной работы. Хорошо, в конце концов, что он не бухгалтер какой-нибудь. Ну что у них за радость? Цифры в колонку выписал – и сиди трепещи, не потерял ли где копейку. Нет, не Хасикова это стезя. Ему нужно, чтобы все чисто, открыто и понятно, без всякого путанного крючкотворства.
Ворота, кстати, хорошо бы покрасить, подумал он, накидывая за собой крюк на калитку. Собственно, давно уж «хорошо бы», да Хасик всё никак краску подходящую купить не мог. Хотелось шоколадную, благородную, как нос доброго охотничьего пса. А попадалась все больше странненькая – словно три ложки марганцовки в стакане воды развели. Разве это цвет для ворот родового гнезда джигитов? Да отец, небось, и войти в такие погнушался бы.
Отца Хасик совсем не помнил – ему было от силы года четыре, когда Темыра не стало – но сверяться с внутренним ощущением «как бы оценил отец» вошло в привычку так давно, что, кажется, было всегда. Когда мать кем-то из мальчиков бывала недовольна (а поводов они всегда давали в избытке – один задира Даур чего стоил), она не ругалась, а, поджав губы, тихо говорила: «Отец ваш так никогда бы не поступил. Как после такого черкеску в праздник надеть? Запятнается…»
Черкеску Хасик никогда не носил, не те времена, но от пятен всё равно её берёг. Даже от таких неочевидных, как цвет дворовых ворот. Поэтому в отсутствие нужной краски балки калитки тихо ржавели от влажности, солнца и знойных ветров. А что? Ржавчина – тоже дитя природы. Ею, пожалуй, чести не запачкаешь. Так что Хасика такое положение вещей вполне устраивало.
* * *
Гумала никогда не смотрела в окно – не имела такой привычки, да и времени на это баловство не хватало. Но она все равно точно знала, в какой момент ее сын входит в дом. Любой из сыновей. Просто, когда он (любой «он» из трёх) переступал порог, сразу менялась в комнатах атмосфера. Гумала не могла бы, пожалуй, сказать, как именно, но и сомневаться не приходилось: как будто в стакан налили хорошего вина, и пустота сменилась важной, влажной наполненностью.
Мальчики составляли всю её жизнь. С того самого октябрьского дня, когда Темыр прохрипел «Парней…вырасти…» и закрыл глаза, она словно перестала быть женщиной и осталась только матерью. Ей было тогда всего-то чуть за тридцать, и была она ещё на диво хороша. Даже старейшины признавали: такой отшельницей-то жить грех… несправедливо. Аксакалы двух родов – мужнина и её собственного – всерьёз обсуждали, как с ней быть, да только сама она себе выбора не давала. Её птенцы, её орлята всё равно должны были остаться в своём роду, на другой двор их бы дядья не пустили – ну так, значит, и ей только здесь и жить. Когда старик Мшвагуа, теребя заскорузлыми пальцами корявый посох, сообщил ей, что, мол, род примет её обратно, чтобы подыскать ей нового мужа («Сама подумай, обара, Темыр Мамсыр-ипа большой человек был, все о нём плачут, но всё же двадцать лет разницы между вами – не шутка… молодого тебе найдём»), она молча поклонилась и отвела глаза. И никуда не поехала, и никак не изменила свой уклад.
Только работать теперь приходилось за двоих – за себя и за Темыра. И если при нём она, помимо работы в колхозе, вела дом и растила сыновей, то теперь на неё легли и скот, и пахота, и дрова, и урожай… получалось, что даже не за двоих. Колхоз, конечно, никуда её не отпустил – наоборот, парни совсем мальцами тоже пошли работать. Родных братьев у мужа не было, но кузены, да и Гумалина родня опекали исправно, подставляли плечо, где только могли. По весне первым пахали её небольшой клочок земли, потом уже шли обрабатывать свои поля. И на уборке так. Пока старший, Астамур, не подрос настолько, чтобы быка под ярмом вести, дядья учили всему, что не успел передать отец. Потом уже сам Аста начал подтягивать младших. Хотя, как подтягивать – он и сам долго ещё оставался пацаном. А уж как хулиган Даур его на что подзудит – так ей только за голову и хвататься. Даур-то и школу чуть не бросил, бунтовал почем зря.
Вспомнив своего непутёвого среднего, Гумала привычно улыбнулась, покачала головой. Кто бы мог подумать, что из него большой артист выйдет? Многие вообще громко ругались, глядя на результаты Дауровых каверз: ничего, мол, из него не получится, баловство одно – как есть ба-лов-ство! Многие, да только не она. А потом он влюбился, да не в кого-нибудь – в отличницу. Умницу, комсомолку, гордость села. И вернулся за парту, и быстро всё наверстал – а то ж она, зазноба длиннокосая, и глядеть в его сторону не хотела. Даур всегда и всё делал наотмашь, по-крупному. И слава его к нему ещё придет, в этом Гумала никогда не сомневалась. Даром что Даур ей больше всех проблем доставлял – он и блеска больше всех родовому имени добавит.
С Хасиком ей всегда было проще. Не зря старшие разлетелись, а он отовсюду возвращался домой: привязан был с пелёнок крепче крепкого. Без неё оставаться категорически не хотел, чем в детстве братьям своим досаждал чрезвычайно. За что однажды и поплатился так, что и не придумаешь.
* * *
Прямо на колхозное поле ближе к вечеру прибежала соседка: неладно что-то в доме твоём, Гумала, беги, мол, скорее, спасай. Пока бежала, чего только не передумала, но того, что увидит, и вообразить себе не могла.
Старшие на крыльце строгали себе луки и стрелы для войнушки. Хасика нигде не было видно.
– Где Хасик? – с подозрением спросила Гумала.
Даур неопределённо махнул рукой куда-то в сторону леса, Астамур старательно уткнулся взглядом в нож, затачивающий стрелу.
– Ора! Где ваш брат? – уже не на шутку встревожилась Гумала, буравя прищуренными глазами явного зачинщика Даура.
Тот шмыгнул носом, утерся локтем, хмыкнул:
– Да ты не переживай, мам, посидит немного, подостынет, потом вытащим.
Похолодев, Гумала повернулась к старшему и прижала руку к сердцу:
– Астамур?..
Сын независимо дёрнул плечом:
– Надоел очень. Кричит и кричит, и ничего с ним не сделать. Словно он не мужчина. А так хоть не слышно.
– Мы его честно предупреждали, – выдал козырь Даур. – И не один раз. Всё по справедливости!
Гаркнуть на сыновей нельзя, женщина на джигита не кричит… так мама учила. Гумала стиснула кулак, тяжело сглотнула и медленно произнесла:
– Где. Ваш. Брат.
– Да мам, ну ничего же страшного, в яме он, с утками, хотел бы – вылез бы уже давно! – Даур искренне не разделял ее паники, но Гумала уже не слышала: она неслась к «яме» – глубоченному оврагу, рассекавшему надвое перелесок за дальним концом их двора. Там и впрямь жили утки, им нравились царящие в овраге сырость, полумрак и мягкая пружинистость вечного мха под лапками.
Хасик, обняв коленки, сидел на огромном валуне на самом дне оврага. И молчал.
Почти скатившись по скользкому склону, Гумала схватила сына, обняла, прижала к себе:
– Ора, почему же ты не вылез, здесь сыро, зябко, горло не болит? Ты не ударился? Не замёрз? Что случилось? Что ты молчишь, сынок?!
Хасик шмыгнул носом – совсем как его брат – и уткнулся в материну грудь. И не заплакал. Бурно и вязко дышал, рывками загоняя слёзы обратно, но изо всех сил – не плакал.
Гумала долго прижимала его к груди, почти баюкая и дожидаясь, когда он снова сможет говорить. Только сейчас она поняла, как за него перепугалась. В горле словно разжался ледяной кулак – но вползло другое: тоскливый, разъедающий страх, что он этого братьям не простит.
Нет. Нет, только не это. Их трое, её мальчиков, им нужно крепко держаться друг друга, только тогда они смогут выстоять без отца. Трое…
* * *
…В тот страшный, не такой уж далёкий год эпидемия бродила из дома в дом. Вползала тихо, незаметно, как змея, и вот уже, прямо посреди ночи, ещё один ребенок начинал метаться в жару и бреду. Взрослых тоже косила, испытывая на прочность – и прочности хватало не всем.
Вот и Темыров дом накрыла беда: два младенца задыхались в раздирающем лёгкие кашле, прямо на глазах теряли силы. От Гумалы остались одни глаза – пятые сутки не спала, не ела, вымаливала у беды своих сыновей. Сама держалась каким-то чудом. Да куда ей деваться: дашь слабину – и беда заберёт. Насовсем. Нет.
Скрипнула дверь – вернулся Темыр. Тяжело топтался в сенях, что-то стряхивал, медлил. Потом тихонько, на цыпочках, зашёл к малышам. Астамура, не тронутого болезнью, пристроили к соседям; двое младших, покрытые испариной, с лихорадочными пятнами на щеках, сквозь полусон тяжело выкашливали последние силы.
Господи, как ей сказать?..
– Обара… Я не знаю, как тебе сказать…
Гумала подняла на него глаза. Они и всегда были большими, но сейчас в них запросто мог потонуть дом.
– Приезжал врач. Из райцентра. Сыворотку привёз. В городе многих спасла, хороший результат даёт. Говорят.
В огромных глазах вспыхнул тёплый свет надежды. Гумала подалась вперёд, к мужу…
– Нам дали одну. На всех в селе никак не хватает. Нам дали одну…
* * *
Гумала зажмурилась и ещё сильнее прижала к себе вздрагивающего Хасика. «Нам дали одну…». Той страшной ночью она выбрала Даура. Сама выбрала. Одна. И никогда ему не говорила, чьей жизнью куплена его разбитная, хулиганская голова. Братья просто знали, что был младший – и ушёл.
Он приходил к ней по ночам. Тихонько садился в углу и вопросительно смотрел в глаза. Почему – так?..
С тех пор Гумала ненавидела ночи и слово «выбор». А когда родился Хасик, обрушила на него всю нежность и материнскую тоску по обоим. Любила старших, выживших, и младшего, пришедшего. И того, растворившегося в небе… Любила отчаянно, без памяти. Без меры. Без дна.
– Вас трое, Хасик, – сказала она в тёмную макушку на своей груди. Подняла голову и увидела робко жмущихся к ольхе на краю оврага старших. – Помните это всегда: вас – трое. И вы – одно.
* * *
Хасик шел по двору размашистым спокойным шагом. Солнце садилось, красное, тяжёлое и тоже спокойное, как он сам, как трава на его дворе, как горы за двускатной крышей.
Это и есть жизнь, думал он. Настоящая жизнь. Не то что в городе, где и пощупать её не успеваешь – вечно куда-то бежишь, спешишь, опаздываешь… Зачем это? Зачем суета? Вот у нас её нет – зато есть время понять, какого вкуса воздух. Дауру вон нужна слава, а мне – нет. Мне нужна моя земля. Ну и, ещё, братья. И, конечно, мама.
Хасик усмехнулся: мама-то считает, что ему нужна ещё жена, и ещё дети, и ещё дом побольше, чтобы всех вместить. Посмотрим, посмотрим… Куда спешить?
* * *
Сыр, хлеб, огурцы, горький перец, аджика, лук. И рис. Хасик любит разваренный рис, почти склизкий, почти пюре. Ну и, конечно, мясо любит, но мяса сегодня нет. Не каждый же день.
– Мам, всё хорошо?
Гумала удивленно взглянула на сына: никогда не привыкнуть, насколько ясно он читает её настроение.
– Ганичка приходила.
– Опять Марину сватать, поди? – усмехнулся сын. Добро, как просили, он помнил, и, если что, всегда первый шел Ганичкиных заплутавших телят искать или упавшие заборы чинить. Но внять печалям кормилицы насчет её дочери Марины упорно не желал.
– Нет, милый. Сплетня у них.
Хасик насторожился и с опаской взглянул на мать. Не надо бы, чтобы до неё дошло. Он же Гураму уже всё сказал – что ещё?
– Да много ли печали в сплетнях – забудь и всё.
– Нехорошо там, Хасик… Не по-чистому. Скажи, ты в город ездил – к Астамуру, часом, не заходил?
Ну вот. Так и знал.
Хасик положил открытые ладони на стол:
– Мама, был я у него, с Дауром вместе приезжал. Всё у них хорошо, а значит, и у нас хорошо. Астамур сплетню эту знает, не нова. Велел плюнуть в лицо тому, кто язык распускает почем зря.
– Ой! Хорошо как! Спасибо, сынок, – повеселела Гумала. – Надо бы съездить, внучку повидать.
* * *
Через пару дней Хасик, вернувшись с работ, обнаружил мать в настроении боевом и воинственном. Прихлёбывая картофельный суп, искоса взглянул на неё:
– Боюсь спросить.
– Правильно! И бойся. И они пусть боятся, чтоб им неповадно было! – Гумала решительно грохнула какой-то сковородкой.
– Ясно. Ганичка пришла, Гурам подослал.
– В святилище им поклясться! В аныха7, говорит, иди! Ишь, чего удумали! Где это видано, чтобы без греха в святилище идти, святотатствовать?!
– Мам, ну какое аныха – двадцатый век на дворе. Самолёты, ракеты, поезда…
– Угу, двадцать веков-то до тебя люди, небось, не глупее твоего рождались. Ракетой, оно конечно, разбомбить всё можно, да только сам знаешь – со святилищем шутки плохи.
Хасик знал. Несмотря на двадцатый век и поезда, трава вокруг деревьев и валунов аныха росла небывало пышной, сочной и, главное, высокой, потому что ни один бык или коза ближе двадцати метров к тому месту подойти не решались. Почему – ученые искренне ломали головы уже не одно десятилетие, но пока, кроме заумных слов «паранормальное явление», ничего не придумали. Что-то там такое водилось, в этом святилище, с чем – мама совершенно права – шутить не следовало.
– Ну и не ходи, – примирительно сказал Хасик.
– Ну и не пойду! – воинственно ответила мать. Потом, пожевав губами, горько добавила: – Далась им эта наша Асида… Пятно, пятно… Ну что за сплетня дурацкая? Подумаешь, восемь лет ждали… И не такое бывает!
Хасик молча ел суп, аккуратно отламывая большие ломти пышного белого хлеба.
– Послушай, сынок… Не дадут они мне жизни. Так и будут потихоньку клевать. Привези мне Астамура, пусть сам с Гурамом поговорит.
– Он не будет. Ему не в чем каяться.
– Заедят они меня, – тоскливо прислонилась к косяку Гумала. – Столько лет мы им на язык не попадались. Вот ведь шакалы. Это ж радость – девочка родилась… Красавица…
* * *
Хасик снова сидел на разогревшейся за день скамье у Астамурова дома, и настырный луч морского южного солнца снова щекотал его сквозь виноградное кружево листьев. Астамур вынес сыр, мёд и немного хлеба. Асида, улыбаясь, помахала в окно и показала жестами, что, мол, скоро тоже выйдет: малышке пора гулять.
– Они тебе не поверили и требуют доказательств, – не спросив, констатировал Астамур, откупоривая небольшую бутылочку вина. – Даже интересно, как они их себе представляют.
– Они маму тиранят. Велят в святилище идти, клятвы давать.
– Так она же не пойдет.
– Так они-то все равно тиранят.
– Мда, дела, – задумчиво протянул Астамур, тщательно пережёвывая пропитанный золотым мёдом кусок мягкого белого сыра. – Может, Даур своих ребят попросит, они в газете напечатают: дорогой, мол, Гурам, не переживай, всё по правилам, точно тебе говорим.
– Слушай, – не выдержал Хасик, – я, конечно, восхищён твоей выдержкой, но откуда она вообще взялась, сплетня эта?
– А, – беспечно махнул рукой молодой отец, – Асида сама виновата. Её предупреждали. А она же всё равно свое гнёт – принципиальная очень.
Хасик растерянно посмотрел на окно.
* * *
Асида уродилась вся в отца: принципиальная, честная, а главное – крайне решительная. С самого детства у неё были совершенно чёткие представления о том, что в этой жизни правильно, а что требует некоторой доработки.
В частности, в огранке нуждался Асидин брат, Шалико. Вот уж кто принимал все радости жизни с широкой улыбкой и даже там, где работы было куда больше, чем удовольствий, умудрялся создать себе атмосферу комфортного сибаритства. Он всегда был душой компаний и крайне редко – звездой партсобраний; его все любили – и он в ответ тоже всех любил. Особенно женщин. Претенденток на его внимание всегда водилось в избытке, и Шалико, движимый врождённым чувством справедливости, одаривал теплом и сочувствием всех, кто только попадал в поле его острого зрения – всех в равных долях, никого не предпочитая, дабы, не дай Бог, не обидеть остальных.
Это было, разумеется, совершенно неправильно, и Асида изо всех своих недюжинных сил пыталась брата образумить и наставить на путь истинный, на что легкомысленный Шалико, приобнимая её за плечи, разглагольствовал, что путь тот пусть и истинный, да уж больно неискренний. Искренний – это когда идёшь, куда сердце велит. Даже если оно велит каждый день новое. Ему видней. Сердцу-то.
Асида горячилась, доказывала, взывала к уму, чести и совести, но Шалико смиренно признавал, что все вышеперечисленное в нашей эпохе уже обрело своих хозяев, а ему лично достаточно ощущения нужности людям. Особенно если они женского пола.
Как ни крути, а обаяние Шалико было столь велико, что и Асида ему противиться не могла – и просто всё подряд прощала. Как и все женщины в его жизни. Все, кроме одной.
Эта самая одна была крашеной блондинкой с тугой химией на голове и радикально-красной помадой на губах. Асида бы сравнила ее с Мерлин Монро, если бы поменьше времени проводила за рабочими документами и почаще бы ходила в кино. Шалико как раз подобного упущения себе не позволял, поэтому был в курсе всех трендов, и первым делом дал новой знакомой понять, что блеск её лакированной сумочки совершенно затмил блёстки на платьях всех заморских див сразу. Блондинка всё поняла как надо и сделала из этого наблюдения весьма далеко идущие выводы.
Роман был ярок, как фотовспышка – и столь же краток. Честно отработав положенную, по его мнению, дозу внимания, Шалико стал оглядываться в поисках нового увлечения. Однако в планы его пассии совершенно не входило становиться бывшей. Более того: она уже присмотрела себе фасон свадебного платья и даже намекнула нескольким близким подругам, что да, они имеют все основания правильно догадываться (тут попытка скромно скрыть счастливую улыбку).
Женщиной она была весьма прагматичной, и, быстро осознав, что чувства отнюдь не взаимны, разработала целый стратегический план по выходу на орбиту, то есть замуж. Куда бы Шалико ни приходил, очень скоро она оказывалась рядом и разворачивала вокруг него милые хлопоты старательной молодой жены: приносила тщательно упакованные бутерброды, передавала заштопанные вечером носки, напоминала о записи к парикмахеру, поправляла ему ворот пиджака… К полной растерянности Шалико все вокруг, посмеиваясь, были уже уверены, что и он, старый бродяга, пал жертвою нежной любви, а потому полностью готов осесть и остепениться. В какой-то момент, раздражённый её неустанным воркованием, он не сдержался и рявкнул ей в лицо что-то в духе «отстань уже от меня, а?!» – к сожалению, прямо посреди людной улицы, на глазах у многочисленных товарищей и коллег. Разумеется, его никто не поддержал, и абсолютно все общественные симпатии и сочувствие оказались на стороне хрупкой светловолосой девушки с дрожащими от незаслуженной обиды губами и полными слёз кукольными глазами.
– Что она себе позволяет, а?! – бушевал Шалико, мечась по комнате старшей сестры. – Кто ей что обещал? С чего она вообще всё это взяла?! Подумаешь, пару раз поцеловались!..
– И… всё? – подняв бровь, решилась уточнить Асида.
– Ну… не всё. Ну и что?! Кто в наше время женится из-за таких пустяков?! Если хочешь знать, это она сама первая дала мне понять!
– Что хочет за тебя замуж?
– Что не будет против, если у меня вдруг есть на неё какие-то планы!
Асида только вздохнула.
– Ну послушай, – возмутился брат, – не могу же я жениться только потому, что всем кажется, что хорошо бы? Вот зачем тебе такая сестра?
«Это правда, такая сестра мне совершенно ни к чему», – подумала Асида. Ладно, придется помогать.
– В последний раз, – предупредила она.
– Да мне после такой долго ещё… не захочется, – мотнул чубом Шалико.
О чем и как Асида разговаривала со своей несостоявшейся невесткой, осталось тайной даже для пытавшихся подслушать соседок по общежитию. Однако, когда дверь распахнулась, и Асида, прямая и величественная, вышла в общий коридор, вслед ей донеслось отчетливо слышное: «Я тебе это ещё припомню…»
* * *
Это была самая обычная командировка. Полдня да целая ночь в поезде – и утром на суетном вокзале большого города уже ищешь свой троллейбус до ближайшей гостиницы. По счастью, в этот раз Асиду отправили не одну, а с Валерой, молодым парнем, недавно пришедшим в их универмаг товароведом, так что было кому таскать тяжеленные с чемоданы с ведомостями и отчетами. С делами управились быстро, всё прошло без сучка и задоринки, вечером даже успели сходить в театр. А утром снова сели в купейный вагон.
Асида бы эту командировку даже и не запомнила, если бы ей так старательно не помогли…
* * *
Какое же это было счастье…
Асида никогда и никому бы не призналась, но упорная восьмилетняя бездетность уже не просто удручала, а по-настоящему повергала её в отчаянье. Она была молода, здорова, счастлива со своим Астамуром – всё как у людей. А детей нет.
Свекровь, которая сперва смотрела на неё с надеждой, а потом с недоумением, никогда и словом не обмолвилась – но надо было видеть её лицо, когда Даур и Мадина впервые показали бабушке свою малышку. С какой трепетной нежностью Гумала поправляла одеяльце первой – и единственной пока – внучки. У неё ведь никогда не было дочерей, одни мальчишки, и в этой маленькой принцессе она буквально не чаяла души. «А ведь это должна быть моя, моя дочь! Даур ведь средний», – тайком кусала губы Асида и боялась взглянуть мужу в глаза. Впрочем, он бы никогда и ни в чем её не упрекнул, а что уж он там думал – кому разобрать…
И вот, наконец – наконец-то! – все её надежды воплотились в самую настоящую жизнь. Маленькую, но очень уверенную в себе. Сперва Асида даже значения не придала некоторому нарушению привычных событий, но затем стала что-то подозревать и каждый день с затаённой, от самой себя спрятанной, надеждой следила за изменениями собственного тела. Когда сомнений не осталось, Асида, сама не веря своим словам, прошептала ночью мужу на ухо: «Случилось. Да…» Он не сразу понял, о чем речь, а затем так растерялся, что ей даже стало смешно. Господи, какое же это было счастье…
Астамур её берег, как хрустальную. Вообще, вокруг так не было принято, но мало кому дано ощутить это пронзительное «до-жда-ли-и-ись!..». В какой-то момент он вспомнил про ту командировку и подскочил, как ужаленный: мама дорогая, она же там, небось, свои тяжеленные чемоданы с бумагами таскала! Как бы не навредить! Высчитали вместе с Асидой срок, Астамур обежал всех известных ему врачей и получил их клятвенные заверения, что на таких ранних неделях, почти днях, вообще никаких угроз, ну то есть совсем. Даже вино ещё можно. Хотя не нужно. Утирая пот облегчения, пришёл утешить Асиду – а она смеется: да я ж не одна в тот раз ездила, что ты, мне Валера помогал, ну товаровед наш новый, помнишь, я тебе рассказывала?
Однажды, встречая жену с работы, Астамур увидел этого самого Валеру и бросился к нему, поговорить. Собственно, просто поблагодарить, что так вовремя и удачно составил Асиде компанию.
На следующий день Валера из универмага уволился и из города исчез.
И тут поползли слухи.
* * *
Сперва Асида стала замечать, что стоило ей зайти в рабочую курилку или в столовую своего универмага, как разговоры сразу затихали. Повисало неловкое молчание, сменявшееся нарочито-бодрым обсуждением ерунды. Пару раз она пожала плечами, отмахнувшись от самой себя – мол, показалось, что ещё за новости. Списала на эдакую «беременную странность», даже мужу пожаловалась в шутку, что вот, мол, кого на солёненькое тянет, а у меня подозрительность повысилась.
Потом Астамур, закупаясь на рынке, случайно столкнулся с одной из её коллег. Кивнул бы и мимо прошёл, да что-то царапнуло: девушка так пристально на него посмотрела и затем так суетливо и так старательно отвела глаза, что Астамур даже усмехнулся:
– Обара, Гунда, я заинтригован – никак, у меня хвост отрос или уши позеленели?
Бедная Гунда, окончательно смутившись, густо покраснела и постаралась поскорее убежать.
– Что это с ней, тётя Мрамза, не знаешь? – спросил Астамур знакомую торговку, удивлённо глядя вслед исчезнувшей девице.
– Ну, ты у нас красавец знатный, – весело ответила та, – но я бы на её месте с Асидой-то не связывалась бы, ой не надо бы!
Еще через несколько дней Мрамза уже сама разыскала Астамура в базарной толчее и отвела в тихий уголок. Вид у неё был какой-то странный.
– Ты же знаешь, Астамур, как высоко я ценю твою мать, – непонятно начала она. – Когда у нас настали непростые времена, она первая пришла нас выручать…
Это была правда: семья Мрамзы жила всего через пять дворов от двора Астамура, и когда случилась история, о которой все земляки предпочитали вслух не говорить, именно Гумала первой пришла к матери Мрамзы и протянула руку, предлагая поддержку и помощь. Но, честно говоря, ясности во всей той ситуации было немного, и в чём конкретно там было дело, Астамур, ходивший тогда, наверное, класс в пятый, и его ещё более юные братья совершенно не понимали – просто вдруг оказалось, что та семья теперь живёт раздельно. А потом Мрамза и её сестра Мзия как-то очень быстро вышли замуж и переехали в город, забрав с собой и мать, а отец, оставшись один, стал совсем нелюдимым, старательно избегал соседей и уж тем более их детей. Село побурлило какое-то время – да мало ли у крестьян других забот, так что история вскоре сошла на нет и почти забылась. С чего бы её сейчас вспоминать?
– Я тоже ценю свою мать, спасибо, – Астамур озадаченно посмотрел на собеседницу. Той было явно неловко, она словно собиралась с духом, да никак не решалась что-то сказать.
– Послушай… Тут люди такое говорят… твоей матери бы не понравилось… Но я думаю, лучше, чтобы ты знал.
– Да о чём?! – совершенно сбитый с толку Астамур почти перестал улыбаться.
– Ну… про поезд толкуют, понимаешь? – она с надеждой заглянула в его глаза: вдруг он все поймет сам, и говорить не придётся?
– Про поезд?.. – совсем растерялся Астамур, разрушая её надежду на корню. – А… а что с поездом не так?
– Он ночной, – обреченно вздохнула Мрамза, уже жалея, что всё это затеяла.
– Угу, – Астамур потёр переносицу и усмехнулся. – Тётя Мрамза, я тебя очень уважаю и, в общем-то, почти люблю, ты же знаешь. Но клянусь своей много раз починенной «Волгой»: я даже примерно не понимаю, что ты хочешь мне сейчас сказать. Если ты совсем не можешь объяснить это прямо, то я, пожалуй, пришлю к тебе Даура – он у нас мастер всех этих художественных иносказаний. Просто утешь меня, что тебе не нужна помощь, что никто из твоей родни не попал, не дай бог, на какой-нибудь неправильный поезд – да ещё и ночной – и давай разбежимся, а на днях мы зайдём к тебе вместе с Дауром, сыграем в нарды с дядей Нодаром, пропустим по стаканчику – у меня есть отличное вино, сосед угостил…
– Аста, – вздохнула женщина, – ну что ты несёшь, какое вино. Это тебе нужна помощь, а не мне. Слухи в городе ходят, что восемь лет подряд ты не умел обработать пашню, а молодой товаровед за одну ночь в поезде её отлично вспахал…
* * *
У Астамура потемнело в глазах. Вроде уж и не мальчик, а никогда раньше такого не испытывал: вдруг, буквально секунд за десять мир словно пожух и съёжился, осталось что-то небольшое, мутное, но в основном – темнота. Мрамза тоже никогда раньше не видела, чтобы человек бледнел так стремительно – особенно загорелый взрослый мужчина. Она испуганно вцепилась в его руку, проклиная саму себя.
– Аста, мальчик мой, ты только не убей её! Ну вдруг всё не так, вдруг всё врут – но лучше же, чтобы ты от меня услышал, чем от зубоскалов на набережной?.. – Мрамза причитала, трясла его за плечо, испуганно моргала и всячески пыталась сфокусировать его взгляд на себе, но он стоял молча, глядя куда-то внутрь пространства и пытался наладить взаимоотношения со светом и тьмой перед глазами.
Потом немного наклонил голову, посмотрел на торговку и спокойно спросил:
– Кто – говорит?
– Да все судачат… Почитай, весь район уже в курсе …
* * *
Ну вот и что теперь делать? Увезти её, чтобы слухи не успели задеть? А куда? Слухи так устроены, что мчатся следом – а то ещё и опережают: получится, что всё так и есть, потому и сбежали. Смешно. Но она – она так этого не оставит, пойдёт бороться. С её-то натурой народоволки-правдолюбки. Начнёт искать, кто это придумал. Чтобы разобраться, выволочь за косы на честный бой. В том, что причина в женщине, Астамур не сомневался, да и Асида тоже непременно так подумает.
Но какая, в конце концов, разница, главное ведь – сохранить дитя. Чтобы ничто не нарушило радостного ожидания, а затем и долгожданный приход в мир этого малыша. Ну, или малышки. Астамур вдруг обнаружил, что впервые признался себе: это ведь может быть и не сын. Как в бородатом анекдоте: «А кто тогда?..» Он задумался, произнёс мысленно слово «дооочка», словно попробовал его на ощупь… Да нет, конечно, точно будет сын. Хотя, с другой стороны…
Хотя с любой стороны, главное – чтобы никакие сплетни, слухи, злоба и цинизм не разрушили то, чего они с Асидой так ждали долгих восемь лет. Итак, возвращаемся: ну и что теперь делать—то? Как её уберечь? Как защитить?
* * *
Астамур всегда, всю свою жизнь был старшим. С того самого дня, когда отец совершенно внезапно и нелепо погиб, Аста оказался главой семьи – ответственным за двор, за мать, за младших братьев. Именно его, десятилетнего, дядья учили ставить быка под ярмо, править плуг, отбирать зерно для посева. Не сразу, конечно, всё постепенно, всё по мере сил. Но никто и никогда больше не относился к нему, как к малышу, у которого ещё полная чаша детства впереди – всё успеется, мол, пусть пока понежится, дурака поваляет. Не было такого. Даже Даур, который был всего полутора годами младше, имел в глазах школьных учителей, соседей и дядьёв все права побыть хулиганом, понаделать ошибок, побить баклуши и быть своевременно оттасканным за вихры. Какие его годы, в самом деле? Подрастёт, образумится. Все наладится, все придёт. Но к Астамуру у тех же соседей и учителей счёт был совершенно другой: ты же старший в семье, как же ты мог – не выучить, не вызваться первым, не сделать, не подать пример… Нет, Астамур по природе вовсе не был «со всех сторон положительным», и, если бы судьба сложилась иначе, он, вероятно, прошел бы весь путь Дауровых ошибок. Но рядом всегда была мать, её глаза, яснее всяких слов, её скупая нежность: спасибо, сынок, что я могу на тебя положиться, это так важно…
И он к этому привык: на него всегда можно положиться. Он не строил из себя главного, не командовал братьями, как можно было бы ожидать, он просто усмехался и делал то, что окружающие считали правильным в данный момент. Что уж он на сей счет думал, часто – почти всегда – оставалось на его собственной совести, но упрекнуть его было не в чем. Как ни странно, в результате он не стал ни законопослушным параноиком, постоянно озирающимся в попытках понять, чего ещё от него ждут; ни забитой марионеткой, идущей четко предписанным путём; ни бездушным циником, ни тайным бунтарём… Его спасали врожденная ирония и чувство меры. Ко всему в своей жизни – с самой ранней юности – он относился несколько отстранённо и с доброй усмешкой умудрённого опытом старца. Ну хорошо, хорошо, ладно, – сквозило в его усмешке, – пусть так, сделаю вам, всё будет, не ссориться же, в самом деле, из-за таких пустяков, вот поживите с моё, и однажды вы тоже поймёте.
Гумала порой только диву давалась: откуда в нём, тонкокостном ещё, голенастом подростке, такая спокойная мудрость веков. Он и книг-то, по большому счёту, немного читал – некогда было: хозяйство, учеба, колхоз, да и матери помочь. Но своё понимание жизни у него было совершенно предметное, устойчивое, упорядоченное. И очень, очень ироничное: так матёрый котяра с расслабленным умилением смотрит на возню котят, пытающихся победить резиновый мячик – а потом, вдруг подобравшись, одним прыжком настигает зазевавшуюся мышь и, слегка придушив жертву, отдаёт её совершенно ошалевшим от восторга мальцам.
Такими вот мальцами рядом с Астамуром частенько ощущали себя не только браться и сверстники, но и гораздо более взрослые сперва соседи и учителя, затем коллеги и друзья. Да и сама Гумала с затаённой гордостью молча признавала, что да, её старший – и впрямь глава их небольшой семьи, способный вырасти в главу большого клана.
И ещё она прекрасно знала, что уж если Астамур принял какое-то решение, то переубедить его практически невозможно – всё равно что рыбу в реке руками ловить. Выслушает, смиренно склонив голову набок, усмехнётся, глядя куда-то в край стола, да и пойдёт себе своей дорогой, словно и не прозвучало ничего. И никогда даже спорить не будет: в конце концов, если человек публично сморозил глупость, деликатнее же сделать вид, что ничего не заметил, не так ли? – говорят его такие весёлые, такие непонятные глаза.
И женился он так, что мать едва охнуть успела.
* * *
…Конечно, она ему идеально подошла. Своенравная, решительная, честная, неутомимый борец за правду и справедливость – Асида совершенно не признавала компромиссов, из которых он полностью соткал свою жизнь. Конечно, это было первое, о чём она заявила, глядя прямо в его глаза. И – потонула в них. Совсем.
Он смотрел на неё и думал, что сам бы так никогда не смог. Промолчать, уйти от ответа, потушить ещё не начавшийся конфликт – и сделать по-своему – это пожалуйста. Это его путь. Но вот так, с открытым забралом и игрушечным мечом – на живого, сильного, полноценного противника… Нет. Не понимаю, думал он, чего ради так кипятиться и обострять? Он привычно усмехнулся и хотел было – тоже привычно – отвести глаза. И – не смог. Так и стоял, смотрел на неё, не замечая, как усмешка медленно растворяется в чём-то совсем другом.
* * *
Конечно, её отец ни за что бы не одобрил простого рабочего парня, у которого всего-то и есть за душой, что руки, да младшие братья и мать в горном селе. Но кого это останавливает в 18 лет? Асида только и видела, что его невероятные голубые глаза, только и искала вокруг, не мелькнёт ли где знакомый силуэт.
Скрываться долго не хватило сил.
Однажды вечером они просто вдруг оказались вдвоём на пороге Астамуровой тётки Наргиз. Та, распахнув дверь, поморгала немного, осознавая свершившийся факт, и, сглотнув, недоверчиво уставилась на племянника:
– Никак, украл?
Всё дальнейшее Асида помнила смутно: как тётка провела её в дальнюю комнату «передохнуть», как глухо звучали из-за закрытой двери голоса – вопрошающий и оправдывающийся – и как пару раз, заставляя сжиматься сердце, мелькнуло имя отца… Конечно, ей было страшно, но она ни о чём не жалела. Ни о том, что кивнула, когда он протянул ей руку; ни о том, что сама, по совету доброжелателя, завела погромче магнитофон, чтобы отвлечь внимание родни, и «пошла прогуляться» поздним вечером, зная, кто ждет её за углом, да не один, а с чудом раздобытой машиной (и где только денег взял?); ни о том, что, когда он заглянул ей в глаза – ты уверена?.. – гордо откинула за спину косу и изящно скользнула в автомобиль. Её выбор был сделан, а там – будь что будет.
* * *
Хасик захлопнул книгу, протёр усталые глаза и потушил ночник.
Хотя он только что пошёл в выпускной класс, уже года три как был у матери на хозяйстве один. Братья уехали в города – старший работать, средний учиться – и Хасик всё чаще думал о том, как ему поддержать мать. Всё заработанное она норовила передать Дауру – ему сейчас сложней, ему надо пробиться, на ноги встать. На себя почти ничего не оставляла. И так, мол, проживём, много ли нам на надо? Но всё-таки мать временами хворала, да и одежда на колхозных полях выгорала и изнашивалась быстро… Поэтому Хасик всё думал, куда бы пристроиться, чтобы хоть небольшая копейка, да в дом бы текла.
На его удачу, местный почтальон, которого все иначе как Митричем не именовали, категорически запил, и ни газеты-журналы, ни тем более пенсии, ему больше никто не доверял. Туда-то Хасик себя и предложил. В селе, пусть оно и велико, его знал, почитай, каждый, да и он любой дом нашёл бы даже впотьмах. Так что ему выделили гнедую кобылу, огромную перемётную суму и весь запутанный набор периодической печати: читать в селе любили, и чего только не выписывали, от сельскохозяйственного вестника до «Мурзилки» и «Роман-газеты». Довольно скоро Хасик уже ориентировался в этом хаосе не хуже многоопытного Митрича и уж точно справлялся с доставкой на порядок быстрее. Вот только от школы его никто не освобождал, и если к периодике во второй половине дня сельчане быстро привыкли, то учителя войти в положение и сократить домашние задания желания не изъявили. Аттестат хочешь – изволь к экзаменам быть готов.
Так что зубрить историю партии приходилось по ночам, когда мама, слава богу, уже спала и не видела, как он методично портит себе глаза. Она, конечно, искренне хотела помочь Дауру, но уж точно не ценой Хасикового зрения, так что обнаружила бы – сразу бы пресекла.
Хасик с удовольствием потянулся и зарылся носом в подушку: целых пять часов блаженного сна! Вот оно – простое человеческое счастье!
Но у этой ночи планы на счастье были совсем другие.
* * *
Стук был негромким, но настойчивым.
– Эй, Хасик! Ты где? Спишь, никак?!
Вопрос прозвучал несколько негармонично, учитывая, что тьма стояла полнейшая: шёл первый час ночи. Но Гурам точно знал, что его дело того стоит, и снова деликатно, но уверенно постучал в косяк двери.
– Ора, что стряслось?.. – всклокоченная голова Хасика появилась в окне: он недовольно пытался разглядеть впотьмах собеседника.
– Ну, стряслось или свершилось – это вам с Гумалой решать, – расхохотался Гурам. Хасик принюхался: ну точно, стаканчика три-четыре сосед этой ночью уже осушил.
– Не говори загадками, а? Мне рано вставать, так что рассказывай дело своё – а то, может, вообще завтра увидимся?
– Ннннет, – покачал головой Гурам, – до завтра уже точно никак.
– Ора, Гурамчик, зайди в дом, – раздался спокойный голос Гумалы («эх, разбудили!!!», – в сердцах подумал Хасик), – что на улице подмерзать.
– Благодарствую хозяйка! А за то у меня для тебя есть новость.
– Надеюсь, достаточно важная для часа ночи…
– Более чем, – Гурам даже приосанился. – Гумала Дамей-ипа, меня прислали искать твоего благословения! Сын твой, Астамур, просит твоего дозволения жениться на девушке по своему выбору и своему предпочтению.
– … Что?! – только и смогла вымолвить Гумала, нашаривая ладонью стул и тяжело опускаясь на его скрипнувшее сиденье.
– Ааа… на ком хотя бы?.. – растерянно заморгал Хасик.
Гурам, который был полностью подкован в этом вопросе, кратко описал род Асиды до пятого колена, включая двух её троюродных тёток – героинь труда.
– Но… но я же её никогда даже не видела, – жалобно проговорила Гумала, потерянно переводя взгляд с соседа на сына, словно это могло помочь изменить свершившееся.
– Ну, это легко поправить, – заметил Гурам. – Словом, выбор у тебя такой, – тон гостя стал деловитым, а жесты – базарными и совсем не тожественными, – если ты благословляешь, то я сейчас метнусь за ними и привезу сюда, чтобы отпраздновать; ну а если ты совсем против, то придётся им скушать свадебного козлёнка у тёти Наргиз.
– Ора, – Гумала сощурила глаза и поджала губы. – Я так и знала, что без Темыровой родни не обошлось. – Её голос внезапно зазвенел: – Или ты запамятовал, Гурам, что нет никакой Наргиз – есть Наргиза Мамсыр-ипа! Нехорошо данное отцом при рождении имя самовольно менять, какая бы смелая она ни была!
Гурам, не ожидавший такого отпора, ошарашенно заморгал, а Хасик примирительно развёл руками:
– Ну что ты, мама, причём тут Гурам , её все давно так называют.
Эге, подумал Гурам, а старые раны-то эвон как долго саднят. Знать бы ещё, какие… ну да сейчас не о них речь.
Гумала опомнилась и перевела дух, но горечь в голосе была неподдельной:
– И тут, значит, она… Можем мы хотя бы до утра это всё отложить? Встретиться, поговорить по-человечески
– Видишь ли… – замялся Гурам. – Дело в том, что Астамур Асиду эту уже… украл. А отец у неё сама понимаешь какой – уже полгорода, небось, на ноги поднял, ищет… Тут уже не отложить. И домой её уже тоже… того… не вернуть.
– Но… но она сама-то хотя бы согласна??? – Гумала невольно положила руку на сердце, глядя на вертлявого соседа во все глаза. Ну уж такого от своего разумного, со всех сторон положительного старшего сына она никак не ожидала. Украл… Господи… Средневековье какое-то.
– О, да, это можешь быть спокойна, это конечно, – зачастил Гурам, – да за нашего Астамура любая с закрытыми глазами пойдёт, да это он ей честь такую оказал, что прямо уххх!..
От переизбытка чувств он даже кулаками куда-то в небо потряс. Он бы нашёл еще немало хвалебных слов для внезапного жениха, но тут Хасик, который уже смирился с тем фактом, что выспаться не получится, подошёл к матери:
– Они же там волнуются, небось… тоже не спят. Твоего ответа ждут. Мама?
Гумала набрала воздуха, развела руками, словно хотела что-то сказать, но потом передумала, повернулась к Гураму и коротко велела:
– Вези.
– Вот я так и знал, вот я был в тебе уверен, вот я совсем даже не сомневался! – взорвался бесконечной тирадой Гурам, чуть не приплясывая от нетерпения. – Ну так я поехал, часа через два привезу, а вы тут готовьтесь – ну там стол, мясо, туда-сюда…
Когда за ним захлопнулась дверь, мать и сын молча переглянулись и уставились на то место, где он только что топтался и болтал. Гумала растерянно думала о том, что не так она представляла себе первую женитьбу своих сыновей – ночью, внезапно, на совершенно незнакомой ей девушке… Да и будет ли она доброй женой её мальчику? Ведь он такой… его понимать надо. Способна ли она это? Девчонка… Украл… Как так – украл?
Но Хасик думал совершенно о другом.
– Мама, – озадаченно спросил он, – а где мы возьмём «мясо, стол, туда-сюда»? В доме, небось, и яйца-то лишнего не найти.
* * *
Два часа спустя их дом было не узнать.
Во-первых, несмотря на глубокую ночь, во дворе собралась целая толпа из тех, кого поехавший за молодыми Гурам успел оповестить по пути. Событие и впрямь было из ряда вон: Астамур был парень заметный, а невестин отец – ещё заметнее, и чтобы вот так, по обычаям старины, рискнуть, не побояться, сделать свой выбор и рубануть с плеча… на это не всякий пойдёт, говорили соседи, ай да Аста наш, ай да джигит!
Двор гудел, как улей: все обсуждали, удивлялись, намекали, что давно подозревали, хотя никто ровным счетом ничего не подозревал. Но много ли нужды в той правде: главное, что всех эта новость объединила, взволновала, обожгла дыханием подлинной жизни.
Но Гумале с Хасиком было не до возвышенных мыслей (хотя кому как не им бы, самый подходящий момент). Они бурно хлопотали в попытке накрыть хоть какой-никакой стол для гостей.
Хасик был совершенно прав: в запасах не было и пары яиц. Астамурова невеста шла замуж в дом весьма небогатый (что не могло не тревожить Гумалу: ох, балованная, небось, при таком-то отце). Немного подумав, Гумала послала Хасика к своей сестре, попросить курёнка – сварится быстро – а сама пошла спросить базарившую на дворе соседку, не даст ли взаймы немного кукурузной муки на мамалыгу.
До тётки Веры было добрых три километра в один конец, да к тому же она совсем не сразу поняла, чего Хасик от неё хочет в три часа ночи. Пока поохала, пока ловила курёнка, пока собиралась побежать вслед за Хасиком – «Вот только Джамала своего разбужу, скажу!» – пока полусонный Джамал настаивал насчёт выпить в честь свадьбы старшего племянника и искал чистый графинчик, чтобы из бочки нацедить… Словом, Хасик еле вырвался.
Когда, совершенно взмыленный, он всё-таки вернулся с жертвенным курёнком, гастрономическая жизнь в его дворе уже била ключом. Кто-то услышал Гумалин вопрос к соседке и, метнувшись домой, принёс сыр, кто-то – вино, кто-то – овощей с огорода, муки уже было даже с избытком, а асызбал Гумала и сама запасала на зависть многим. На козлы во дворе примостили припасённые Хасиком для починки сарая широкие доски – получился вполне достойный, просторный стол; на костре закипала мамалыга; ждали только курёнка тётки Веры, обречённого украсить весь этот пир.
Когда Гурам привез Астамура с Асидой, праздник уже вышел на линию высшего накала: сыпались тосты, лились песни… Над горами занимался прозрачный рассвет.
– Вот это да! – потрясённо выдохнула молодая жена, никогда такого не видевшая в своем городском быту. – И часто у вас такое?
– Бзиала бабаит, спха, – поднялась ей навстречу Гумала, – добро пожаловать домой, доченька…
* * *
Бзиала бабаит, спха…
Астамур вдруг представил, как держит на руках маленькую дочку, всматривается в её личико. Добро пожаловать в наш мир, доченька.
Ну уж дудки: парень будет! Сын! Астамур упрямо замотал головой и потёр ладонью лоб: какая сейчас разница? Что делать-то, как её от уберечь сплетен?
То есть, как уберечь их обоих: Асиду и ребёнка. Асиду и… дочку.
* * *
У них не было друг от друга тайн. Просто не получалось: даже если бы кто-то из них и хотел бы что-то скрыть, то в доме сразу становилось как-то колюче и неуютно, словно воздух менял структуру – и оба это прекрасно чувствовали.
Мило покруглевшая Асида подпёрла щёку кулачком, глядя на обедающего мужа. Пару минут она молча его разглядывала, потом вздохнула и произнесла:
– Всё-таки, не показалось. Говори уже, а?
– Как ты думаешь, почему уволился Валера? – словно невзначай обронил он, старательно пережёвывая пухлый лаваш.
– Валера? Который?
– Ваш молодой товаровед.
– А! Слушай, это удивительная история, – Асида захлопала ресницами и откинулась на спинку стула, – такой перспективный, и у начальства на хорошем счету – и чего ему тут не хватало? Вроде, планировал у нас как минимум до начальника отдела дорасти – и вот на тебе. Чудеса. А почему ты спросил?
– Потому, что я знаю природу этих… чудес.
– Тогда поделись, – улыбнулась Асида, пододвигая к нему стакан чая. – Про чудеса всегда слушать интересно.
– Честно говоря, – Астамур почесал бровь, – не уверен, что тебя это так уж порадует.
– Слушай, не томи уже, а? Выкладывай, что у тебя там.
– Валера твой боится. Меня.
От неожиданности кулачок Асиды даже соскользнул с подбородка:
– Тебя?! Да он тебя видел-то раз в жизни, небось. Когда ты кинулся его за чемоданы благодарить.
– Ну вот ему и оказалось достаточно. Потому что подружки твои сделали из этого удивительный вывод: они решили, что в следующий раз я его в тихом уголочке придушу.
– Что за чушь?!
– Действительно, чушь: наверняка они себе рисовали что-нибудь более джигитское и кровавое. Хорошо: прирежу.
– Аста!!
– И более того, – буднично добавил будущий отец и несостоявшийся убийца, пропитывая соусом хлеб и подчищая тарелку до блеска, – он сам, видимо, сделал такой же вывод.
Асида прищурилась, подозревая, что сейчас прозвучит главное. Астамур внимательно осмотрел тарелку на свет, нашел не до конца протертый след от соуса, кхекнул, как охотник, обнаруживший нору, и уверенным, быстрым жестом прикончил след.
Гордо предъявил идеально чистую тарелку жене, но та лишь поджала губы и наклонила голову к плечу, глядя исподлобья: ну?
– Ну чисто же, ну что ты, – вздохнул Аста. – Похвалила бы, что ли: меньше мыть. О тебе же забочусь… Ну, – пожал он плечами, понимая, что тянуть дальше некуда, – можешь и не хвалить, как знаешь. Видишь ли, кто-то придумал, что вы в том поезде познакомились несколько ближе, чем хотелось бы ожидать, и что я об этом как-то узнал и пылаю справедливым гневом.
Асида посмотрела на свой живот, погладила его и вдруг, словно споткнувшись, замерла на миг и – расхохоталась.
Уф, выдохнул Астамур, пронесло. Теперь всё будет в порядке.
– И правда, какое удачное совпадение! – хохоча, признала Асида. – Господи, почему я сама такое не придумала? Я же могла бы тебя вволю дразнить и мучить предположениями.
Астамур отодвинул пустой стакан, поднялся и подошёл к ней, озадаченно глядя на ее живот.
– Меня, честно говоря, мучает другое предположение, – признался он, почесав теперь затылок. – Как ты думаешь: а вдруг, всё-таки, дочь?..
* * *
Отсмеявшись и проводив мужа на работу, Асида прислушалась к себе. Да, что-то не так. Что-то свербит. Надо бы разобраться, а то так и будет скрести на душе, мешая жить и радоваться.
А жить Асида любила именно для того, чтобы радоваться. Особенно теперь, когда, после стольких лет затаенного страха бесплодия, внутри теплилось что-то удивительное и не до конца понятное.
Кто мог это всё придумать – вот в чем вопрос. Всю эту историю с Валерой. Да ещё напугать его так, что даже из города сбежал.
Ну ладно бы эта командировка была чем-то из ряда вон. Так ведь нет. И сама Асида ездила с отчётами не реже раза в два-три месяца, и коллеги её постоянно по какой-нибудь служебной надобности оказывались в поездах. Всякое бывало – и по двое, и по трое в купе. Не при царе, чай, живем, нет такого, чтобы для юных леди свой отдельный дортуар и для джентльменов – тоже отдельный. Что за чушь? Да видели бы они второго её соседа в том же купе – а главное, слышали бы: храпел мил-человек, аки простуженный кашалот. И матрона ещё какая-то была, весьма корпулентная. Валера ей даже уступил свою нижнюю полку – боялся, небось, как бы она ночью на него всем своим весом не сверзилась.
А в итоге на него (и на неё саму, Асиду) сверзилось нечто иное. И как легко подхватили девушки-коллеги, надо же… Им только пищу для сплетен дай, а уж ферментов для переваривания у них в запасе всегда достаточно.
Подхватили – да, но кто начал-то? Тамара-разведёнка? Или Эсма-болтушка? Или Занда, подружка закадычная, язык без костей?
Нет, не так. Столько лет в одном коллективе, с одним мужем, с одними подружками – и не было сплетен. Тут причина должна быть: кто-то подтолкнул. Зачем? Кому-то понравился Валера, а она, Асида, с ним по командировкам разъезжает, чемоданами грузит? Или этот самый Валера чьих-то намёков не уяснил, вот и, с досады, ему пригрозить Астамуром решили? Странный способ. Или он, не дай бог, прихвастнул тем, чего не было, ну, по нетрезвости, например. И? На дурака вроде не похож, а что Астамур этого так не оставит, и себе дороже выйдет – это ж и без гадалок ясно. К тому же, в итоге перспективное место потерял именно Валера, а не кто-то другой.
Нет, через Валеру не получается. Попробуем через Астамура. Предположим, это на него кто-то глаз положил – а что он верный супруг и примерный семьянин, всему городу известно. И вот, этот «кто-то» решается намекнуть, что, мол, жена-то гуляет – отомсти ей!
Ого, подумала Асида, эдак уже целый детектив получается. Странно, никогда меня на такие фантазии не тянуло – не иначе, как гормоны играют.
Она усмехнулась и слегка пощекотала живот. Из глубины отчетливо пнули. Охнув от неожиданности, Асида согнулась и изумлённо заморгала. Это было совершенно новое и совершенно потрясающее ощущение – и осознание: маленькая рыбка, живущая где-то внутри, не только отлично читает её мысли, но и предельно ясно выражает свое отношение к ним.
– Ну ладно, ладно тебе, – примирительно произнесла Асида, глядя на собственный живот (вот бы увидел кто – совсем, подумал бы, рехнулась! с чревом беседует) – Ты полагаешь, это не из-за папы? (ох, и это тоже впервые: пусть и мысленно, но назвать Астамура – папой).
Внутри кувыркнулись.
– Но тогда я просто теряюсь в догадках. Валера – не подходит, Астамур… то есть, папа – ты настаиваешь, что тоже нет. Но причина-то быть должна? Почему-то же кто-то эту историю придумал?
Асида даже потёрла сморщенный нос. Но подсказок больше не поступало – надо было искать варианты самой.
Ну и ладно, подумала она, отложим пока.
Но вообще говоря… Сплетня. Про неё. Про Асиду. Надо же.
* * *
Гунда позвонила в дверь совершенно внезапно. Честно говоря, она долго – минут двадцать – собиралась с духом, чтобы отважиться нажать на кнопку звонка, но, когда Асида, наконец, открыла, это было трудно заподозрить. Сияя улыбкой, Гунда заструила тщательно заготовленную речь:
– Обара, здравствуй, Асида, помнишь, ты обещала мне выкройку сарафана? Мне как раз удалось достать симпатичный отрез, не дашь ли выкройку, раз такая удача?
Асида подняла брови, открыла рот, чтобы изумиться вслух, но, передумав, вежливо посторонилась:
– Добро тебе, Гунда, заходи. Какой сарафан – ээээ… с юбкой-клеш?
Гунда с преувеличенной готовностью кивнула. И тихонько выдохнула: вроде бы, срослось. Все знают, что Асида отлично шьёт. Авось, ничего не заподозрит.
– Ээээ… хорошо, я поищу, – озадаченно произнесла хозяйка. – Не очень помню, правда, где она лежит. Уж года, наверное, два как мы с тобой об этой выкройке говорили. Кофе?
– Ну что ты, не стоит, не хочу тебя утруждать, – смутилась Гунда, но потом подумала, что за кофе-то оно проще будет подступиться к главному, зачем пришла, и добавила: – Впрочем, разве что у тебя есть немного молока…
Не сказать, чтобы Гунда входила в число её закадычных подруг, поэтому Асида, помешивая кофе, настороженно ждала, когда гостья скажет главное. Но вся Гундина смелость, кажется, ушла на решение нажать кнопку звонка, поэтому она просто сидела молча, сложив руки на коленях. Асида вздохнула. Всё сама, всё сама.
– Ты пришла только за выкройкой? – будничным тоном спросила она, ставя перед гостьей маленькую керамическую чашку.
Гунда повертела в пальцах обжигающие бока, слегка ковырнула ногтем наплывы обливной эмали, потом сглотнула – чего тянуть, глупо же? – и тихо произнесла:
– Нет… Скажи, Асида, ты… ты не знаешь, куда уехал Валера? Может… может быть, он оставил тебе адрес?
Честно говоря, в деятельном Асидином мозгу уже роились предположения по поводу цели столь неожиданного визита. Но такого поворота она совершенно не ожидала.
– Мне?! – она потрясенно уставилась на приятельницу. – Зачем?
Гунда покраснела так густо, что Асида перепугалась, как бы с ней не случился удар.
– Обара, у меня, конечно, нет его адреса, откуда – но почему ты вообще подумала, что он мне его оставил?
– Потому что вы… – еле слышно прошептала Гунда, – потому что все говорят, что у вас…
Ага.
Ну, вот сейчас мы всё и узнаем, подумала Асида. Забавно: первая из её версий как раз и строилась на том, что кому-то Валера в душу запал, и что таким негуманным способом дама пытается ему показать верное и неверное направление симпатий. Но Гунда уж больно бесхитростна. Нет, тут что-то другое.
Асида взяла табурет и решительно уселась напротив гостьи.
– Дорогая, – начала она вкрадчиво и мягко, – конечно, у нас с Валерой нет, не было и просто не могло быть ничего общего, кроме работы. Как и, в сущности, у нас с тобой. Если, конечно, не считать сарафан. Теперь тебе, надеюсь, стало легче?
Закрыв глаза, Гунда кивнула и даже слабо улыбнулась шутке. И тут, совершенно внезапно для самой себя, Асида решилась слегка приврать:
– Я тебе больше скажу: когда мы были в той злополучной командировке, мы сходили в театр, там шла «Двенадцатая ночь» по Шекспиру. Комедия. И вот, в антракте Валера, мимоходом так, обронил, что он, мол, понимает герцога Орсино: в том, чтобы безутешно вздыхать по неприступной красавице, есть некоторая сладость бытия. Вот так прямо и сказал, представляешь?
Гундины и без того огромные карие глаза расширились: она взглянула на собеседницу с изрядной долей недоверия.
«Мда, вру я не очень», – признала про себя Асида. Вокабулярчик-то не Валерин, отнюдь.
– Ты так смотришь, словно мне не веришь. Зачем мне врать?
– Я… я просто боюсь поверить, – по-прежнему тихо произнесла Гунда. – Он же не мог иметь в виду… меня?
– Этого он мне не говорил, тут не могу ничего утверждать, – нырнула в спасительные кусты Асида. И сразу, не дав гостье отдышаться, взяла быка за рога: – А теперь, дорогая, допей свой кофе и скажи мне: кто именно «говорит» о Валере и обо мне?
– Все, – просто ответила Гунда, пожала плечом, глотнула, наконец, остывающий кофе и снова закрыла глаза. Она пыталась загнать обратно слёзы радости и облегчения. Хотя никто так и не сказал, что Валере она, Гун, интересна, но он хотя бы не увлечен Асидой, а кроме того, появилась нежданная надежда на то, что…
– Угу, – Асида не собиралась сдаваться. – Попробуем по-другому: лично ты слышала – от кого?
– От Занды. Но она совсем не одобряет эту сплетню! – Гунда поспешила исправить неосторожное слово. Занда – официальная подружка Асиды, и если получится, что подруг поссорила она, Гун, то ой, что будет! Лучше не додумывать эту мысль до конца. – Она мне просто сказала, что, вот, мол, злые языки чего только не мелют– им лишь волю дай…
– Тут она, безусловно, права, – вздохнула Асида, поднимаясь с табурета. В этой лужице ловить было больше нечего. Но с Зандой разговор определенно предстоит. – Валера и впрямь хороший парень, Гун. Если вдруг я узнаю, куда он уехал, я тебе непременно сообщу. И кстати… выкройку-то – как? Искать?
* * *
Разводить интриги было не в Асидином духе, равно как и долго ждать, готовиться и оттягивать решающий момент. Поэтому тем же вечером она оказалась на Зандином дворе.
Подруга жила не в квартире, а в маленькой частной развалюшке, покрытой некогда розовой, а ныне сероватой и пооблупившейся штукатуркой. Следы бушевавшего над ней времени не сломили гордый нрав двухэтажной хибарки, и она по-прежнему бодро и свысока взирала покосившимися окошками на окружающую ее действительность, особенно на неизменных кур. За всю историю своей жизни домик повидал уже, наверное, не менее тридцати поколений пеструшек. Но что толку – всё равно они совершенно не менялись ни внешне, ни поведенчески. И сегодня, как век назад, они семенили по двору, покачивая головами, слегка покряхтывая в такт шагам и выискивая в пыли что-нибудь съестное. Разница лишь в том, что век назад этим съестным были крошки калача из соседней лавки, а сейчас – кусок печенья «Земляничное», которое никто из людей всё равно есть не может ввиду чрезмерного сходства на вкус с куском «Земляничного» же мыла. Не беда, наши курочки склюют и не такое, хмыкнул бы дом, если бы кто-нибудь мог его услышать.
А вообще, интересно было бы услышать мысли древнего дома, подумала Асида, просовывая руку сквозь штакетник калитки и отодвигая язычок щеколды. Вот, например, когда пришли красные, они как – аккуратно открыли щеколду, чтобы добро не портить, или просто снесли дверь с петель? Нет, всё-таки, красные, во-первых, наши, то есть плохого не делают, а во-вторых, они крестьяне, то есть рачительные. Интересно, зачем мне это в голову сейчас пришло?
1
Обращение к мужчине или возглас-междометие типа «Эй!»
2
Плотная кукурузная каша, почти хлеб
3
Очень острая приправа-паста из жгучего перца и чеснока
4
По традиции, из ружья на дворе палят только если родился сын, девочек так не анонсируют.
5
Род простокваши
6
Обращение к женщине
7
Святилище