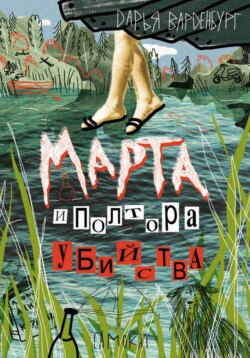Читать книгу Марта и полтора убийства - Дарья Варденбург - Страница 2
Суббота, 16 июля
ОглавлениеВ ночь с пятницы на субботу кто-то поменял местами номера у всех автомобилей на центральной улице поселка. Скрутили номер с одной машины, прикрутили на другую. Номер с другой приделали на третью. И так со всеми восемью легковушками и одним ржавым микроавтобусом семьи панков. Первым обнаружил это наш сосед слева, Полуханов. Накануне он громко жаловался моей маме через забор, что простоял пять часов в пробке на выезде из Москвы и теперь у него даже нет сил, чтобы открыть пиво (хотя открытая банка уже была у него в руке). Полуханов же и вызвал полицию, несмотря на протесты других владельцев машин. Они, отыскав свои номера на соседских драндулетах, предлагали просто-напросто прикрутить знаки на положенные места и вернуться к дачным делам.
– Нечего тут полиции делать, – проворчала мама-панк, хмуро сдвигая фиолетовые брови с серебряными кольцами пирсинга.
– Дети шалят, – миролюбиво сказал папа-панк, держа на руках младенца в ползунках с надписью «fuck off».
– Сами найдем хулиганов и руки поотрываем, – воинственно заявила старушка Елисеева.
– Это не гражданский подход, – укорил соседей Полуханов. – Преступление совершено. Надо зафиксировать.
Он набрал номер, и тогда мы – граждане дачного поселка в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет – сбились в кучу и дружно попятились за кусты ежевики. Я, моя московская подруга Ника, с которой мы вместе приехали на дачу, соседи справа – Илона и Карабас, велосипедист Амадей и его подруга Варвара, оператор Тиша (он целыми днями снимает прыжки и падения велосипедиста Амадея), а также мелкий Сеня, который сквернословит, хрипит и харкает как дальнобойщик. Все мы прекрасно знаем, кто ночью поменял номерные знаки, – это Петр и Леонид, братья-разрушители.
За это лето они уже успели провернуть несколько рискованных дел и ни разу не попались. Петр и Леонид выкрали всех кур у пенсионера Каспаряна и запустили этих кур на участок председательницы нашего дачного товарищества Хованской. Петр и Леонид покрасили калитку мрачного старика Иванова в нежно-розовый цвет, и старик ходил по поселку с руганью, обещая всех отправить в колонию, а потом закрасил розовый буро-зеленым. Петр и Леонид дождались, пока очередная машина подъедет к самому берегу реки, наплевав на табличку «Проезд воспрещен», из нее вылезут упитанные мужчины с крестами на шеях и вразвалочку пойдут купаться, и вкопали позади машины пять железных прутьев, а потом еще обмотали эти прутья колючей проволокой. Купальщики выдирали прутья, матерясь и зарабатывая ссадины, а Петр и Леонид сидели в пятидесяти метрах на ольхе и жалели, что у них не было времени залить ограду бетоном.
Полицию из-за Петра и Леонида вызывали дважды. Первый раз, когда они вынесли холодильник у пенсионерки Малининой и поставили его в чистом поле. А второй раз, когда они погрузили уснувшего в канаве пьяницу Чурова в тачку и отвезли его в гараж все к той же Малининой. Чуров, проснувшись в незнакомом месте, стал биться в закрытую дверь гаража и звать на помощь, а Малинина со страху вызвала полицию.
Первый раз по вызову приезжал красный и круглый полицейский Спиридонов, про которого моя мама сказала, что так пить вредно для здоровья. Во второй раз приехал печальный Марат Маратович с меланхолически повисшими усами. Он чуть было не раскрыл дело, потому что сразу взялся за нас и разговаривал с нами таким грустным голосом и глядел такими усталыми глазами, что нам стало почти стыдно и мы чуть было не проговорились, что знаем нарушителей.
Мелкий Сеня нарочно свалился с забора, лишь бы только не беседовать больше с Маратом Маратовичем, и мать повезла его в районный центр в больницу. Марат Маратович отвлекся на крики и ругань пострадавшего Сени, мы успели взять себя в руки, и больше печальный полицейский от нас не добился ничего.
Так что и на этот раз, пока Полуханов диктовал в трубку адрес нашего дачного поселка, мы с некоторым волнением гадали, кого пришлют – красного или грустного? Ни Петра, ни Леонида мы еще не видели – они наверняка, как это было у них заведено после каждой выходки, сидели смирно на участке и помогали своей бабке полоть грядки. Петр старше Леонида на год и выше раза в полтора, зато миниатюрный Леонид похож на модель из рекламы мужских трусов, в то время как неказистый Петр смахивает на прыщавого медведя, вставшего на задние лапы.
Илона и Ника глядели на Леонида с восхищением, меня же его чрезмерная красота всегда немного пугала.
– Возьми тогда Петра, – предлагала Ника.
Что значит «возьми»? Мы не в магазине, чтобы его брать. И потом, Петр меня тоже ни капли не интересовал ни в эротическом, ни в романтическом плане. Сказать по правде, меня никто из наших парней в этом плане не интересовал.
– Амадей занят, – перечисляла Ника. – Карабас? Тиша? Сеню не берем, маленький. Лето зря проходит, Марта!
У самой Ники лето зря не проходило – сначала она охмурила Леонида, или он ее, не знаю. Через две недели Леонид ее бросил, или она его, не знаю. Ника переключилась на Тишу, а Леонида заполучила Илона. Амадей и Варвара купили друг другу деревянные кольца на рынке в районном центре. Я смотрела на все это и мрачнела. У меня никого не было, и никто мне не нравился.
Я написала сто тридцать пятое сообщение однокласснику Денису, который был мне как брат и я надеялась поговорить с ним о том, что со мной не так. Но Денис, видно, еще не вернулся из своего экологического лагеря на Белом море и на сообщения не отвечал.
Тогда я написала однокласснице Лусинэ, которая тоже была мне как брат, но Лусинэ закидала меня в ответ невыносимо искрящимися сердечками и просюсюкала: «мы поцеловались в гу-у-у-у-убы». У нее там в деревне в Тверской области любовь в разгаре, не стану я ей рассказывать, как у меня тут все тухло.
С мамой о таких вещах тоже не поговоришь – она мечется между дачей и Москвой как деловой шмель и для разговоров непригодна. В Москве она ходит по собеседованиям, а на даче злится. Злится она на тех, кто не дал ей работы, на нас с Никой, на папу и вообще. «Сорок лет уже старуха для них? Девочки, кто так вилки моет? Если бы твой папа умел зарабатывать! Да что ж это за жизнь такая!» А потом подходит ко мне, рассматривает как чучело в музее и говорит: «Если бы ты закалывала волосы вверх, нос бы так не выделялся». И через секунду: «Все, бегу на автобус!»
Вот и сейчас, пока мы взволнованной кучкой стоим за кустами ежевики и ждем полицию, мама выскакивает из наших ворот – каблуки, пиджак, помада, узкая юбка до колен – и суетливо семенящим из-за юбки шагом припускает по улице.
– Вам хорошо, у вас машины нет! – кричит ей вслед Полуханов.
– Мне отлично! – на ходу отвечает мама. – Два часа на автобусе, час на метро.
– Зато без пробок, – продолжает Полуханов. – Я вот вчера…
– Да-да, я знаю! – не оборачиваясь, машет ему мама и исчезает за поворотом.
Через секунду из-за того же поворота появляется белый автомобиль с синими полосами по бокам и, расплескивая двухдневные лужи, направляется в сторону дачников, собравшихся на улице. Полуханов поднимает обе руки и машет, словно боится, что сидящий за рулем не заметит толпу людей и проедет мимо. Машина останавливается. Мотор глохнет, дверь открывается, и на дорогу с кряхтением вылезает красный Спиридонов.
Мы в ежевике переглядываемся с облегчением – равнодушному Спиридонову можно врать без зазрения совести.
* * *
Спустя всего лишь час (спиридоновское расследование долго не продлилось, хотя Полуханов и просил снять с номерных знаков отпечатки пальцев) мы с Никой и Сеней сидим на лужайке перед нашим домом и выстригаем колтуны у Чубакки. С Чубаккой мы познакомились неделю назад – он трусил, повесив голову, по улице, и свалявшиеся от грязи колбаски длинной серой шерсти мотались из стороны в сторону как дреды. Ника бросилась к нему первая. Накормила маминым паштетом (хорошо, что мама в это время была за сто семьдесят километров на собеседовании) и потащила к нам мыться. Чубакка оказался добрейшим псом, который послушно стоял под шлангом и не возражал против шампуня и расчески. Когда мы его отмыли, он стал скорее белым, чем серым, и был бы совсем красавцем, если бы не ужасная худоба. Остаться жить у нас он не захотел (может, и к лучшему, мама бы вряд ли обрадовалась), ночевал всегда в поле или у помойки, но регулярно заходил к нам поесть. Чубаккой его прозвал Сеня. Хотя наш Чубакка на того Чубакку мало походил, разве что носы у них были похожи.
– Чуба, – говорит Ника псу, – ты вроде потолстел немного?
И тыкает его пальцем в бок.
– Он кур у Каспаряна таскает, – харкнув и сплюнув, сообщает Сеня.
– Сень, хорош харкать, – делаю я замечание.
– Так я ж в траву! Чо такова-та?
– Сеня, мы это уже обсуждали, – нудю я, как училка. – Еще раз тут харкни, и будем Чубакку без тебя стричь.
Сеня нахохливается, как январский воробей, и затихает. Какое-то время мы все молчим, слышны только пощелкивание ножниц и вздохи терпеливо сносящего стрижку Чубакки.
– А с чего Каспарян взял, что это Чубакка, а не лиса какая-нибудь? – спрашивает Ника.
– Он его видел, – коротко отвечает Сеня.
* * *
В полдень я готовлю макароны – запекаю их с помидорами, петрушкой и яйцом, – а Ника валяется на полу кухни, гоняет туда-сюда чаты и ленты в телефоне и по обыкновению комментирует.
– Лусинэ твоя видала, что пишет? В губы поцеловались. Тоже мне событие. Ей двенадцать лет, что ли?
– Тебе обязательно на полу лежать? Не помню, когда мы его мыли, – ворчу я. Мне не нравится, когда Ника с таким пренебрежением говорит о Лус.
– Мне обязательно на полу лежать, – отвечает Ника, – у меня ско-ли-оз, искривление позвоночника, спинка бо-бо.
Я ничего не отвечаю, Ника что-то мурлычет, потом говорит:
– Лусинэ спрашивает, что там с Денисом. Что ей написать?
– Напиши ей, что не отвечает, – говорю я.
Пауза, потом Ника докладывает:
– Лусинэ пишет, что будет за него молиться. Не, ей точно двенадцать лет.
– Пусть молится, – отвечаю я. – А ты сама Денису не писала разве? Я думала, он тебе нравится.
– Ну-у-у, – неопределенно тянет Ника, потом выпаливает: – Тиша новое выложил, глянь!
Она вскакивает и сует мне под нос телефон. Там сегодняшняя съемка, как две капли воды похожая на все предыдущие: Амадей на своем акробатическом велосипедике с маленькими колесами и низким седлом разгоняется, подпрыгивает, перелетает через положенные друг на друга четыре покрышки и падает при приземлении. На пятый раз у него получается не упасть, и в кадр вбегает радостно визжащая Варвара.
Ника смеется и начинает набирать комментарий.
– Как у вас с Тишей, все круто? – спрашиваю я.
– Да-а-а, – тянет она, не отрываясь от телефона.
– И как он, добрый? – не отстаю я.
– Угу, – кивает Ника, продолжая набирать.
– Веселый?
– Угу.
– Заботливый?
– Ну, вроде.
– Секси?
– Ну-у-у…
– Ты что там, роман пишешь?
– «Анну Каренину»!
Ника отрывает, наконец, взгляд от экрана и начинает ржать как лошадь. Я хохочу вместе с ней – уж очень смешно она гогочет.
– Сегодня почитаем? – спрашивает она меня, отсмеявшись.
Иногда по ночам, возвратившись домой, мы не сразу засыпаем, а лежим и читаем друг другу по очереди вслух «Анну Каренину». На чердаке, где мы ночуем, полно старых книг. Не знаю, как так получилось, но мы выбрали эту. Честно говоря, я не хочу ее дочитывать – и я, и Ника знаем, что в конце Анна должна броситься под поезд. Утешает то, что читаем мы медленно и лето может кончиться раньше «Карениной».
Или мы просто-напросто остановимся, как только нам перестанет быть весело.
* * *
Обедаем мы в саду за деревянным столом – так вкуснее. За забором упражняются Илона и Карабас. Карабас играет на контрабасе (его потому так и прозвали: контрабас-карабас), а Илона на флейте. Время от времени слышен голос их мамы:
– Еще раз! Внимательнее! Лева, спишь!
Лева – это Карабас. Они с Илоной похожи на своего папу – оба невысокие, округлые, близорукие, кудрявые и тихие. Мама у них, напротив, громогласная каланча с острым зрением и прямыми короткими волосами, которые она красит в черный.
Ника выхватывает у меня вилку и начинает двумя вилками, своей и моей, выбивать по столу барабанную дробь. При этом она трясет шевелюрой и корчит рожи, как барабанщик рок-группы. Мама Илоны и Карабаса в паузах между упражнениями наверняка слышит этот шум, но на провокацию не ведется и продолжает как ни в чем не бывало:
– Еще раз! Я сегодня вами недовольна! Лева, проснулся!
Ника переходит к тарелкам и со всей дури лупит вилкой по своей. Тарелка со звоном разбивается. Макарон в ней уже не было, но все равно обидно.
– Ой, извиняюсь, – смущенно бормочет Ника, положив вилки на стол.
– Правильно говорить «извини меня, пожалуйста», – шиплю я сердито.
Это была любимая мамина тарелка. Ну, одна из трех любимых.
– Извини меня, пожалуйста, – повторяет Ника. Вид у нее растерянный.
– Ладно, все окей, – улыбаюсь я немного криво. – К счастью.
За забором мама Илоны и Карабаса наверняка празднует победу над Никиным барабаном – барабана не слыхать, а контрабас и флейта продолжают свои упражнения.
– Лева, о чем ты думаешь! Илона, распутай ноги, встань нормально!
* * *
На реке, как всегда в субботу, полно народу. Дети, младенцы, мамы и папы, бабушки и дедушки, собаки и собачки. Все толпятся у деревянных мостков, время от времени кто-нибудь из детей разбегается и прыгает в воду, обдав стоящих на мостках брызгами.
Я тоже разбегаюсь и ныряю рыбкой, вытянув вперед руки и стараясь не сгибать колени, а то получится не рыбка, а лягушка. Нырять я люблю, мне нравится производить впечатление на зрителей, которые рыбкой еще не умеют.
Ника прыгает бомбочкой, зажав нос, и малышня на мостках взвизгивает, когда на них летят брызги.
Потом мы с Никой наперегонки вылезаем на мостки и снова летим в воду, стараясь успеть прыгнуть друг другу буквально на голову – это ужасно весело, только успевай уворачиваться.
Дети, не раздумывая, включаются в игру и с воплями сигают с мостков, целясь в нас с Никой.
С викинговским криком «А-а-арх!» и тяжелым топотом разбегается папа-панк и летит в реку как корова, вообразившая себя ласточкой. Мама-панк с младенцем стоит на берегу и хохочет. Младенец на ее руках таращит глаза, высматривая папу в воде, а увидев его, разевает беззубый рот и тоненько кричит: «Ха! Ха!».
На берегу появляются рабочие. Двое из Беларуси, Валера и Николай, и двое из Таджикистана, Сархад и Рустам. Валера и Николай работают у родителей Варвары – строят им баню. Сархад и Рустам копают фундамент под новый дом на угловом участке. Участок давно пустовал, прошлым летом мы ночами заседали там на развалинах сарая, к которым надо было пробираться сквозь дебри крапивы. Этим летом участок купил какой-то новый дачник, никто его пока не видел. Сархад и Рустам появились там недели две назад – скосили крапиву, разобрали сарай и начали копать фундамент. В очереди у автолавки, которая приезжает в наш поселок по понедельникам и четвергам, они познакомились с Валерой и Николаем и в тот же день первый раз пришли вчетвером на реку.
Плавок или купальных шорт ни у кого из них нет – все, кроме Рустама, купаются в трусах, а стеснительный Рустам в тренировочных штанах. Когда четверка впервые появилась на берегу – это было тоже в субботу, в самый час пик, – собравшиеся у мостков взрослые сразу притихли и начали исподтишка разглядывать рабочих. Валера поздоровался первым, обнажив в широкой улыбке все свои девять зубов, за ним повторил «Здрасте» усатый Николай. Сархад и Рустам поздоровались хором, стоя плечом к плечу и чуть ли не взявшись за руки.
За прошедшие две недели дачники привыкли к рабочим и теперь уже не косятся на них с подозрением. А рабочие привыкли к реке и дачникам и перестали дожидаться в сторонке, пока все искупаются и освободят мостки.
Слава богу, теперь Валера, Николай, Сархад и Рустам идут купаться без промедления, и все мы можем наблюдать, как легко и ловко Николай крутит сальто, как запросто беззубый Валера встает вверх ногами на краю мостков и, оттолкнувшись руками, летит по дуге в воду и как далеко может прыгнуть рыбкой Сархад (дальше, чем я). Рустам заходит в воду по лесенке, без всяких там прыжков, и плывет по-собачьи. Никому и в голову не приходит над ним смеяться – всем нравится Рустам, нравится его застенчивая улыбка и то, как он радуется собравшемуся на реке обществу, самой реке, купанию, солнцу и, кажется, всему на свете.
Нанырявшись до того, что у нас щекочет в носу как от газировки, мы с Никой бредем домой, накинув на плечи влажные полотенца. Проходя мимо забора старушки Елисеевой, мы слышим, как она тоненько кричит: «Окорочка мои, окорочка!» Переглянувшись, останавливаемся и, приникнув к щелям забора, пытаемся разглядеть, что там происходит. Калитка распахивается, Елисеева вылетает на улицу, в руке у нее выбивалка для ковров.
– Украл, черт лохматый! – бросает нам Елисеева и почти бегом припускает по дороге.
– Кто? Что? – кричим мы ей вслед.
– Окорочка размораживаться положила! У помойки живет! Сейчас я ему всыплю, вражине хвостатой!
Мы с Никой бросаемся за ней. Живет у помойки и хвостатый – наверняка это Чубакка. Слопал небось куриные окорочка, которые старушка вытащила из морозилки и положила размораживаться. Сейчас она ему и вправду всыплет своей выбивалкой, надо Чубакку спасать.
К счастью, ни у помойки, ни вокруг нее никого не видно. Чубакка, надо думать, отлеживается где-нибудь в кустах, прекрасно понимая, что совершил нечто недозволенное.
Покружив с кровожадным видом, Елисеева в сердцах шлепает выбивалкой по торчащему из переполненного мусорного контейнера облысевшему плюшевому зайцу и в раздражении отправляется домой.
– Ой, дурак Чубакка, – обеспокоенно говорит Ника.
Мне тоже все это не нравится – рано или поздно Чуба попадется.
* * *
На вечернем автобусе возвращается мама. Она уставшая, без помады на губах, пиджак несет в руке и уныло размахивает им на ходу.
– Мам, будешь макароны?
Она кивает и плюхается на стул на кухне. Мы с ней вдвоем, Ника на чердаке красится перед ночной прогулкой.
– Как дела? – спрашиваю осторожно, когда мама съедает половину своей порции.
– Нормально, – невнятно бурчит она.
Съев все до конца и отказавшись от добавки, она поднимает на меня глаза и говорит:
– Три собеседования за день – это чересчур.
Я киваю. Наверняка чересчур.
– Что-то я не то делаю. – Она снова опускает глаза.
– Давай я помою.
Я забираю у нее тарелку и несу к раковине, а она сморкается в салфетку и несет эту салфетку к мусорному ведру.
– Марта, это что такое? – совсем другим тоном, резким и неприязненным, спрашивает мама.
Я оборачиваюсь и холодею. Мы забыли вынести на помойку мусор, в котором лежала разбитая тарелка! Ведь хотели же, чтобы мама не заметила. Она бы, может, до конца лета так и не поняла бы, что эта несчастная тарелка пропала. А теперь – стоит над ведром и выуживает оттуда осколки один за другим.
– Это я разбила, извини меня, пожалуйста, – торопливо говорю я. Отчего-то я решаю, что сейчас лучше не говорить, что виновата Ника.
Я жду, что мама будет ругаться, но она прижимает к себе эти осколки, всхлипывает как девочка и говорит прерывающимся голосом:
– Склеить ведь можно. Зачем в мусор-то?
И уходит вместе с разбитой тарелкой к себе в комнату.
* * *
Из самого дальнего угла участка, подальше от дома, чтобы не услышала мама, я звоню папе:
– Пап, мама плачет.
– Хм. Почему?
– Откуда я знаю. Плачет и все.
– Хм.
– Пап, может, ты приедешь к нам уже?
– Ну, не знаю. Мне кажется, мама не хочет меня видеть.
Ух, как он меня бесит, когда начинает так говорить.
– А если это я хочу тебя видеть? – повышаю голос.
– Это другое дело. Надо подумать.
Мы молчим. Папа спрашивает:
– Ты как там?
– Нормально, – отвечаю.
Рассказывать, что на самом деле все ненормально, не хочется. Папе сейчас не до меня, он думает о чем-то другом, я чувствую.
– Как бабушка? – спрашиваю.
– В порядке, вот гуляли с ней только что. Хотела бездомного кота к себе забрать, – смеется папа. – Хочешь, дам ее?
Я соглашаюсь, и спустя некоторое время в трубке раздается слегка дрожащий, но решительный голос:
– Кто меня спрашивает?
– Бабушка, это я, твоя внучка Марта, – представляюсь по всей форме.
– Марта! – радостно ахает бабушка. – Ты что не в школе?
– У меня каникулы.
«И вообще уже ночь, какая школа», – можно было бы добавить, но первого объяснения достаточно.
– Ты в каком классе, в третьем?
– В одиннадцатый перешла. Бабушка, как живешь? – меняю я тему.
– Чудесно, Юрочку жду, – радостно докладывает бабушка.
– Какого Юрочку?
– Одноклассника. Он в меня влюбился, представляешь? – И она переливчато смеется.
– Представляю. То есть не представляю, – говорю я. – Он хороший?
– Очень!
Бабушке явно хочется о нем поговорить.
– Добрый?
– Да, – уверенно отвечает она.
– Веселый?
– Все время меня смешит!
– Заботливый?
– Юрочка чудесный!
– Секси?
– Как-как?
– Ну, целоваться с ним хочется?
Бабушка заливается смехом, а потом выговаривает кокетливо:
– Мы уже целовались, – и добавляет с торжеством: – в губы!
Я вспоминаю Лусинэ.
– Бабушка, я так рада за тебя!
– Спасибо, моя милая. Ну, а ты как живешь? – спрашивает бабушка.
По ее тону я чувствую, что у нее-то, в отличие от папы, полно времени и она готова подарить его мне.
– Бабушка, мне так хочется влюбиться в какого-нибудь классного парня, если бы ты знала. Но тут никого, совсем никого нет. И в Москве никого. У меня такое ощущение, что во всей стране для меня никого нет. Но ведь где-то они должны быть?
– Конечно, должны, – уверенно отвечает бабушка. – Это просто провал у тебя такой. У меня тоже бывало. Ходишь-ходишь, коза неприкаянная, а потом – раз, как по волшебству! – вот он, твой веселый друг. И все сразу так просто, ясно и прекрасно! Как у меня с Юрочкой.
Я уже и сама верю в этого мифического Юрочку, порожденного бабушкиным больным воображением. Я ей даже немного завидую. Ей ничего не надо, она создает миры одним только усилием свихнувшегося ума и живет в них как в сказке.
– А ты кто? – спрашивает бабушка после небольшой паузы.
– Твоя внучка Марта. Я перешла в одиннадцатый класс, у меня сейчас каникулы, я на даче, – сразу выдаю я как можно больше информации, чтобы избежать повторных вопросов.
– Марта! – радуется бабушка. – Как ты живешь?
* * *
Как ни странно, разговор с бабушкой меня развеселил. Я ей по второму разу рассказала, что хочу встретить классного парня, но не могу нигде такого найти, а потом прибавила ее собственные слова «ходишь-ходишь, коза неприкаянная».
– Ну ты скажешь! – захихикала бабушка.
Она бы и дальше охотно продолжила со мной болтать. Мне наверняка пришлось бы рассказывать о своих затруднениях в третий раз, но папа позвал ее чистить зубы и ложиться в кровать.
* * *
Накраситься перед выходом я не успела, но какая разница, все равно в темноте ничего не видно. Перед нашим домом маячил Тиша, головой в телефоне, и телефон его сиял в ночи как гигантский прямоугольный светлячок. Ника чмокнула Тишу в щеку, Тиша рассеянно чмокнул ее в ухо, и они пошли по улице впереди меня, положив руки друг другу на попы.
– Ты это видела? А это? Вот это глянь, – то и дело говорил Тиша Нике, и из его телефона сыпалась звенящая дребедень: человеческая речь на всех языках мира, писки и визги, рев моторов и хохот.
Мне стало скучно, я обогнала их и пошла быстрее. Наша компания меняла место сбора несколько раз за лето. Сейчас это была дряхлая седая яблоня между полем кукурузы и полем овса. Рядом с ней мы вытоптали площадку и жгли каждую ночь костер, притаскивая с помойки и из оврагов сухие деревья, старые оконные рамы и жерди выкорчеванных заборов.
Когда я добираюсь до яблони, там уже горит огонь и вокруг костра на бревнах сидят Петр, Леонид с прицепившейся к его рукаву Илоной, задумчивый Карабас и мелкий Сеня, который при виде меня звучно и густо харкает в костер. Я не обращаю на него внимания и встаю у огня, сунув руки в карманы. Разговор у них идет, разумеется, про сегодняшнюю выходку братьев и приезд краснолицего Спиридонова. Над Спиридоновым смеются, выходку хвалят. Леонид встает подбросить дров, потом садится снова, и сразу же Илона берет его под руку.
– Да пусти ты, – с легким нетерпением говорит Леонид и высвобождает свою руку.
Илона смотрит на него растерянно, а тут еще подходят в обнимку Ника с Тишей, ей становится совсем не по себе, она съеживается и обхватывает колени руками.
– Что пьем сегодня? – хлопает в ладоши Леонид, который Илониных переживаний вообще не заметил.
– Пива больше нет, – сообщает Тиша, не отрываясь от телефона.
Его отец недавно привез из Москвы три канистры, Тиша тайком сливал оттуда пиво и носил нам.
– Портвейна тоже, – замечает Карабас.
Они с Илоной утащили ополовиненную бутылку у родителей.
– Портвейн еще вчера кончился, все уже в курсе, – ворчит на брата Илона. Ей хочется выместить на нем свою обиду.
– Надо к Кате-под-мостом идти, – решает Петр. – Чья очередь?
– Карабаса, – тут же подсказывает Илона.
– Я же ходил недавно, – неуверенно возражает Карабас.
Бедняга Карабас робеет ходить к Кате-под-мостом, оно и понятно. Катя эта на редкость несимпатичная женщина, просто тролль какой-то. Лет ей, наверное, сорок, а может и пятьдесят. Она вся словно в спешке слеплена из кусков сырого теста. Лицо ее похоже на непропеченный блин с щелью рта и маленькими глазками, обычно сонными, но иногда в них мелькает хитрое жадное выражение. Темные редкие волосы собраны в жидкий хвостик, стянутый синей резинкой, такой на рынках связывают пучки укропа. Говорит она так, словно ненавидит тебя с рождения, но иногда на нее нападает странная любезность, и она лебезит, лебезит так противно, что лучше бы грубила. Катя живет в старом деревенском доме у моста, по которому грохочут день и ночь фуры, пьет сама и продает нам водку. Ни в одном магазине нам алкоголь не продадут – мы все несовершеннолетние, даже Петру еще нет восемнадцати.
– Иди, не ссы, – подбадривает Петр погрустневшего Карабаса.
– Да я же ходил, пусть кто-нибудь другой, – безнадежно повторяет тот.
– Двигай, Карабасина, – пихает его в плечо Леонид. – Все по чесноку, твоя очередь.
Карабас продолжает скулить, и Сеня выпаливает в него одним из своих ругательств тошнотворных.
– Да перестаньте вы! – не выдерживаю я. – Детский сад какой-то. Пойдем, Карабас, я с тобой схожу.
Карабас смотрит на меня с виноватой благодарностью, я делаю вид, что не замечаю его собачьего взгляда, и собираю со всех деньги. Катя-под-мостом продает нам, считай, за двойную цену – в два раза дороже, чем в супермаркете и в кафе на шоссе. Леонид как-то пробовал договориться с дальнобойщиками, которые останавливают свои фуры у кафе, чтобы те купили для него водку за небольшой процент, и даже почти договорился с одним, но хозяйка кафе Алифа засекла их и подняла такой крик, что дальнобойщик мигом скакнул в свою кабину, завелся и порулил дальше в Астрахань. А Леонид в темпе спортивной ходьбы почесал на дачные участки.
Мы с Карабасом молча проходим между полем кукурузы и полем овса, обходим наш дачный поселок и спускаемся к реке, чтобы по тропинке вдоль берега дойти до моста, где стоит Катин дом.
– Ты здорово на контрабасе играешь, мы сегодня слышали, – говорю я, когда молчание становится невыносимым.
– Да не, я так, – бормочет стеснительный Карабас.
– Нам понравилось, – продолжаю я.
На самом деле я понятия не имею, хорошо ли он играет. Послушать его мать, так не очень хорошо, но она никогда не бывает довольна игрой своих детей. По крайней мере, Карабас не фальшивит, а то, что он иногда спотыкается, так это не страшно.
– А что вы сегодня играли? – вежливо интересуюсь я.
– Этюды Монтанари, – бурчит Карабас.
Я пытаюсь вспомнить, знаю ли я, кто такая эта Монтанарь, но Карабас вдруг спрашивает:
– А Ника тоже слушала?
– Ну да.
– Ей тоже понравилось?
– Ну да, – говорю я и, увидев, как внимательно он слушает мои ответы, добавляю: – очень.
Карабас радостно улыбается.
В доме Кати-под-мостом за немытыми окнами горит свет, воет в истерике телевизор – Катя смотрит ток-шоу. Я стучу в крайнее окошко. Спустя пару минут в доме что-то падает, слышна ругань, затем шаги, и за стеклом появляется лицо Кати. Она дергает раму и отворяет окно.
– А, это вы, – хрипло бросает она, не поздоровавшись. – Сколько надо?
– Одну, – я протягиваю деньги.
Катя берет у меня рубли и с ворчанием отходит от окна. Спустя время появляется снова и сует бутылку мне в руки.
– Брали бы сразу две, а то шастаете как мухи по навозу.
Ответ созревает в моей голове молниеносно.
– Так вы и берете с нас как за две.
Катя смотрит на меня бессмысленным взглядом, потом рявкает:
– Захочу, и за три возьму!
Со стуком захлопывает раму и задергивает клетчатую занавеску.
Обратно мы идем молча, никто из нас ничего не говорит. Я думаю, что водка на вкус отвратительна и что настроение у меня снова поганое. Карабас, может быть, думает про этюды Монтанари.
* * *
Под яблоней суета. Прикатили на велосипедах Амадей с Варварой (у Амадея – BMX, у Варвары – обыкновенный с женской рамой), а с ними пришел новенький. Небывалое событие – новый парень в нашей компании. Я сразу оживляюсь и начинаю его благосклонно разглядывать, но чем дальше, тем яснее понимаю, что и этот чел ни в эротическом, ни в романтическом плане меня не привлекает.
Зовут его Максим, он долговязый и тощий, в джинсовых шортах и грязноватой желтой майке. Из штанин и рукавов торчат сгоревшие на солнце руки и ноги – худые и красные. Руками он все время размахивает и по-женски всплескивает. У него длинная шея, большой нос, близко посаженные глаза, оттопыренные губы и выгоревшие, почти белые, волосы до плеч.
Такая прическа ему совсем не идет, меня так и подмывает сказать ему: «Заколи волосы наверх, нос будет не так выделяться».
Максим очевидно волнуется и говорит без остановки. Так мы узнаем, что он приехал сегодня вечером с родителями, родители его – те самые люди, которые купили заброшенный участок, где сейчас работают Рустам и Сархад. Поскольку на участке пока ничего не построено, Рустам и Сархад спят в палатке, родители Максима тоже поставили себе палатку, а сам Максим со своей палаткой на участке уже не поместился и поставил ее между участком и дорогой, и теперь он надеется, что ночью его спящего не переедет случайная машина.
Он задает нам вопросы – как кого зовут, кто на какой улице живет, – выслушивает, закидывая голову немного назад, потом снова начинает говорить. Петр и Леонид его перебивают – пора выпить. Стаканов у нас нет, мы пьем по очереди из бутылки, заедая сушками, которые принесла Варвара. Она всегда приносит с собой еду, словно боится, что мы оголодаем.
Когда бутылку передают Максиму, он озадаченно глядит на нее, потом делает большой глоток, проглатывает и тут же сгибается в кашле. Все смеются. Варвара протягивает ему сушку. Глаза у Максима полны слез, а губы в слюне. Он такой нелепый, что мне неловко на него глядеть. Я сажусь на бревно рядом с Сеней, вынимаю из его уха наушник и вставляю в свое. В наушнике мужской голос в полусне напевает под убаюкивающую музыку: «Что ни день, то ты все дальше уплываешь, уплываешь, как медуза на рассвете, ты же знаешь, ты все знаешь». Слова глупейшие, но музыка ничего, и я остаюсь на бревне слушать Сенины треки. Постепенно бутылка пустеет. Петр и Леонид куда-то пропадают. Илона ищет Леонида и звонит ему, но он не берет. Карабас засыпает на Сенином животе, а Сеня – на животе Ники. Амадей прыгает на велосипеде через костер, Тиша снимает и кричит каждый раз «И-го-го!».
Максим вежливо покачивается рядом с Тишей и заглядывает ему в телефон.
Я сижу на бревне и прутиком подталкиваю выпрыгнувшие из костра угольки обратно в огонь. Рядом со мной садится Варвара, молчит. Потом говорит немного заплетающимся языком:
– Знаешь, что я заметила?
Я вопросительно смотрю на нее.
– Я заметила, что самое плохое случается тогда, когда не ждешь, – продолжает Варвара. – А когда ждешь, оно не случается. Поэтому я каждое утро думаю о самом плохом, чтобы оно не случилось.
Она замолкает и смотрит в огонь остановившимся взглядом.
– И о чем ты думаешь? – спрашиваю я.
– Я думаю, – продолжает Варвара, пьяно колыхнувшись, – я думаю так: «Сегодня папа не умрет, сегодня мама не умрет, сегодня бабушка не умрет, сегодня Амадей не умрет, сегодня котя наш, Рыжик, не умрет, сегодня я не умру». Хочешь сушку?
* * *
Домой я сегодня ухожу раньше всех, если не считать исчезнувших неизвестно куда Петра и Леонида. Мне тоскливо, от водки меня подташнивает. Возле нашего дома я забираюсь в лопухи и сую два пальца в рот, но у меня не выходит, я сплевываю и бреду домой.
Утром вижу лежащую рядом Нику – мы спим вместе на большой кровати. Ника лежит лицом вверх, приоткрыв рот, и похрапывает. Вокруг глаз у нее расплылась тушь, как будто Ника измазалась золой костра. Я встаю, натягиваю купальник, спускаюсь по лестнице. В доме тихо, мама еще спит. Иду на реку, берег пустой, утром здесь редко кто купается. Выхожу на мостки, они заляпаны следами чьих-то грязных сапог или ботинок. «Здесь кого-то убили», – почему-то мелькает у меня в голове. Я отгоняю эту мысль как совершенно бессмысленную и ныряю в холодную воду.