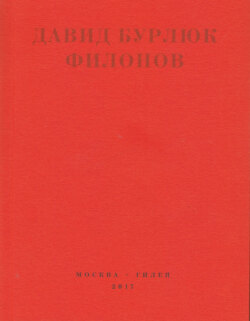Читать книгу Филонов - Давид Бурлюк - Страница 11
Филонов
Глава VIII. Лунные тени на чердаке
ОглавлениеФилонов шёл домой на Васильевский остров с головой, одурманенной выпитым коньяком, он не был пьян, но вся его личность чувствовала возбуждение; и переходя Николаевский мост, он остановился над чёрной рекой, по которой плыли белые пятна плоского льда, тихо шуршавшие внизу. Филонов думал о реке, о горизонталях вечного движения среди вертикалей рук человеческих; Филонов думал о домах, которые остаются неподвижными, и о постоянном движении самой широкой улицы, имя которой Нева[4]. Он думал о чёрном бесстрастии среди пурпура людских страстей; о том, когда город погружён в сон, большая река продолжает своё бодрствование; все эти волны внизу – странницы, проходят под клюкою ветра сквозь каменные стены полунощного{31} Вавилона…
Филонов смотрел через перила моста: река казалась ему длинным чёрным гробом, на котором ветер шевелил чёрные углы покрывала; отражения огней, павших в воду, чудились ему гирляндами белых роз, роняющих свои увядающие лепестки…
Кто-то окликнул его, но до сознания зов дошёл не сразу, ему нужно было время ориентироваться и ясно установить точку своего внезапного соприкосновения с внешним миром…
Это, несомненно, земной голос; голос принадлежит человеку, это высокий, следовательно, женский; голос знакомый… Кто ж это может быть?.. Память быстро ответила:
– Алис!
– Мысли о самоубийстве…
– Мне смерть ничего не могла сказать нового, а если я чем и интересуюсь, так только новизной!
– О чём вы думали?
– Вернее, что я видел, но сейчас здесь со мной Алис… Вы прогнали, видоизменили всё бывшее; я вижу, нам по дороге…
– По дороге – мне это нравится, давайте руку, я как побывала в вашей студии, перестала бояться и чувствовать отчуждённость.
Они проходили мимо сфинксов; лунный свет мягко ложился на коричневые изломы громады здания Художественной академии; лунный свет падал на статуи сфинксов…
Теперь, в этом зеленоватом свете, они более казались естественными в чуждой им обстановке.
– Я не вполне понимаю выражение вашего лунного лица; вы мне кажетесь одним из этих сфинксов…
– Правым или левым? – спросил Филонов и добавил, – …Алис, вы тоже сфинкс, мы оба сфинксы, сидим друг против друга на берегу холодной чёрной реки, имя которой «Жизнь»; мы оба не понимаем ни метельного сумбура, который творится вокруг нас, не понимаем друг друга, но нас понимает луна; мы оба мечтаем о близкой солнечной ласке; обоим холодно без ясного света, без тепла, без участия.
Он смотрел на Алис немного сверху вниз; она была ростом ниже его; в зеленоватых лучах луны девушка казалась очень привлекательной…
– Пойдём ко мне, – сказала Алис, – я живу от вас совсем недалеко…
Когда Филонов достиг мансарды высокого дома, где жила Алис, то была половина десятого ночи.
Аккуратная и тёплая, одна стена была наклонной, два окна пропускали на пол зелёные пятна лунного света, и это делало комнату похожей на ателье, что Филонов и сказал девушке.
– Я не художница, но вы чаще приходите ко мне и тогда по праву можете считать мастерской, ведь всякая комната, в которой сидит художник, может быть названа ателье.
Алис жила с подругой по фамилии Оношко; Оношко была малороссиянкой из Киева, и сейчас была одета в вышитую рубаху, а на шее разноцветные бусы.
На столе – самовар, в банке стояло малиновое варенье, гордость Оношко; банка была очень больших размеров, девушка с трудом привезла её из Киева, теперь варенья оставалось третья часть на дне, и чтобы достать его, к столовой ложке была привязана длинная лучинка.
После чаепития Оношко сказала:
– Лунный свет так красив, не хочется видеть лампу, господа, потушим её, будем сидеть на диване.
Филонов поместился посредине, по бокам девушки; каждая из них взяла его руку, левая досталась Алис.
Оношко смеялась:
– Я кисть, а ты Алис – палитра, мною вы можете написать картину, Алис должна дать богатые яркие краски, правда, ведь это очень остроумно.
– Мне это нравится, и я думаю, что вы, Оношко, могли бы быть для меня прекрасной моделью. Алис, как понимаете вы слово «краски»? Ведь палитра жертвует собой. На палитре краски находятся в состоянии покоя, в запасе, они ждут быть употреблёнными для цветистой яркости вымысла художника. Красочная энергия, цветистая радость лишь тогда достигают своей цели, когда они применены и пойдут на художественную потеху творца. Алис, могли бы вы действительно быть палитрой в жизни? Жертвовать собой ради прихоти, ради фантазии, ради картины, которая будет написана и прорвана палками толпы; ведь палитра должна помнить, что очень часто она жертвует собой для эстетического провала, для неудачного вымысла…
– Смотря для кого, пусть вымысел неудачен, пусть даже провал, но знать, что этот человек был искренен в моменты созидания, в часы или годы творчества…
– Какое женское слово «искренность»; искусство всегда ложь; и если будем говорить не иносказательно, а о чём говорим, то искусство любви тоже, настоящее идеальное – ложь; нет ничего скучнее, сказал бы, бездарнее искренности в чувстве любви; такое чувство будет примитивным, простым, а в наш сложный век примитивность и простота никого не увлекут, не привлекут, не очаруют. Я плохо понимаю «похвалу глупости» Эразма Роттердамского, но я написал бы похвалу лжи; не той тяжеловесной, глупо краснеющей девке, которая стащила серебряные ложки и пытается оправдаться; нет, лжи искусной, как смычок виртуоза, как улыбка Джиоконды, как ветер, чьи дуновения обманчивы, что не скажешь, будут ли они сильнее или стихнут…
– Мне надоела эта философия, – проговорила Оношко, – я люблю мечтать, знаете, о чём я жалею, что у меня нет брата, так и теперь мне кажется, Филонов – мой брат, вернее, наш брат; Алис и я, мы сёстры, наш старший брат сидит между нами и держит наши руки; мы на балконе помещичьего дома, лунный свет падает перед нами на веранду, слышите, издалека, с того луга доносится дребезжание бубенцов и шум отдалённых колёс, кто это едет, куда, зачем; нам хорошо, нам никуда не надо ехать, и у нас есть брат, красивый, добрый брат… Брат, расскажи нам что-нибудь, – с этими словами она перекинула на грудь свои две толстые косы и положила голову на плечо Филонова, а Филонов обнял плечи Алис, продолжая держать в своей руке её пальцы…
– Я готов стать вашим братом только в силу того, что я раньше сейчас говорил; быть братом – это многое значит, видеть тело девушки-подростка, когда она моет голову, и юная, несформировавшаяся грудь покрыта пятнами мыла и блёстками воды; быть братом – значит в весенний вечер на деревенском плетне подсадить юную девушку, вполне созревшую для греховного чувства, но не подразумевающую об этом; посадить к себе на колени, так что они чувствуют нежную упругость девственных членов, и поддаваясь смутному, узывному лепету ив, нежному закруглению месяца, который вдруг ранил своим остриём перламутровую тучку, взять и поцеловать в белокурую шею, так что девушка, сестра, вдруг почувствует в этом прикосновении волнение, которым полны лобзания молодых монахинь, когда они под неизъяснимо сладостное пение целуют красивые ноги, исколотые палачами, почувствует томление лжи, прорвавшейся наружу условностей, как пламя вырывается из-под крышки, почувствует и вскочит, и взволнованно, и не вспоминая, и как будто ни в чём не бывало, оправив платье, пойдёт по тропинке под шум и трепет ивиных ветвей…
– Разве так бывает? – прошептала Алис.
– А ты не помнишь «Санина»[5], он был влюблён в свою сестру, но у меня никогда не было настоящего брата, и если бы я влюбилась, то <была бы> гарантирована такой печальной случайности; мы с Алис умные, мы выбрали вас; вы нам совсем чужой, но и не похожий на тех людей, которых мы раньше видели; нет, Филонов, вы настоящий – идеальный брат, которого можно любить, – сказала Оношко скороговоркой, – причём влюбиться не опасно, это не будет досадным недоразумением природы; но остаётся важный вопрос, Филонов, брат, вам делается допрос, ваши сёстры спрашивают, и вы должны ответить с полной братской искренностью: способны ли вы любить?
– Способен ли сфинкс любить что-нибудь другое, кроме лунного света и чёрной пустыни полунощной реки? – сказала Алис, заглядывая в глаза Филонова.
Он посмотрел в них, и почудилось ему, что он действительно сфинкс, что лицо его стало вдруг каменным, позеленевшим от окисей лунного света, и недвижимо смотрит в большие водоёмы, развернувшиеся темнотой глубин своих под его мертвенным оком.
– Способен ли ты любить, брат наш? – слышался голос из этих заколдованных глубин, и Филонову виделось, что Алис спрашивала и для себя и своей подруги; но для Филонова вопрос звучал как эхо целого хора женских голосов, сотни, может быть тысячи, которые желали его, не сознаваясь в этом даже себе, сотни, тысячи для уха Филонова присоединили свой голос, свой отдалённый вздох к еле слышному шёпоту Алис…
Филонов ответил на этот вопрос не сразу, не потому, что не мог ответить на него, а вспомнил, мысленным оком пробежал всю свою прошлую жизнь; Филонов много времени отдал живописи, а любовь – одно из занятий, которые не любят экономить времени; любовь требует большой затраты; женщины любят мужчин красиво одетых, красиво причёсанных, бритых, беспечных, ничего не делающих, занятых только ими; женщины любят мужчин, которые не думают и всё своё внимание и время посвящают им.
У Филонова для всего этого не было времени, многих лет заниматься культивированием в себе чувств любви.
Перед мысленным оком Филонова пронеслись немногочисленные связи, которые выпали на его долю.
Филонов на вопрос Алис ответил не сразу, он прижал к себе обеих девушек и спросил, обращаясь не только к этим чёрной и золотистой головкам, склонившимся к его плечам, но и к лунным лучам, которые легли у их ног на крашеный пол:
– Что значит любить? Это растяжимое понятие; любовь можно сравнивать с талантом, артистом, гением, великим человеком, как их определял Байрон. Талант измеряется не силою, а продолжительностью высохших ощущений, так и в чувстве любви, мимолётный, но пожар, но взрыв чувства создаёт любовного артиста – таким был Дон Жуан, виртуоз любви – он влюблялся тысячи раз – его романы – его увлечения продолжались сутки, часы; но любовь Катона и Порции{32}, уравновешенная, спокойная; пылкие натуры с неукротимым страстным темпераментом, натуры, которые в любви могут увидеть содержание всей своей жизни; да и любовь – так неясно, неопределённо это чувство: тысячи различных нюансов, определений, скал, градаций. Простое элементарное чувство похоти, столь примитивное, что оно даже мало сознаётся носителями его; это растительное – то, чем движется земное бытие; могущественное чувство, то, что противопоставляет свои силы таинству смерти; вечное созидание как пополнение неустанного исчезновения и ущерба; страсть, внезапная горячка, вспышка любовного чувства, пожар сердца; затем следуют оттенки, которые возникают, корректируемые, направляемые разумом, чувством жизненного равновесия, чувство любви, руководимое рассуждениями жизненных удобств, выгоды, и наконец: целая радуга переливов, едва уловимых цветов и комбинаций всяческих чувствований, возникших на почве полурелигиозных, полуфантастических, полу-мистических, иногда едва поддающихся осязанию и учёту.
Утончённые переживания, которые, как гибель душевного стоического покоя, знал древний христианский мир, ибо он карал – если глаз соблазняет тебя, вырви его{33}… В этой последней категории чувствований любовных они не являются уже действительностью, реальным – они отрываются от земного – превращаются в райские видения, в мучительный кошмар, или аромат чувств, или же смрадное дыхание далеко разлагающегося, воображаемого трупа. Для этих эротических переживаний, для этого оттенка глагола «любить» не требуется, часто и реальной модели – здесь нашёл Захер-Мазох новые странные чувства любви; Франц Ведекинд в «Пробуждении весны» написал самую интересную сцену, посвятив её изображению любви такого рода{34}: процессия фигур с маскарада личин этой любви была бы подобна процессии, где шли бы призрачные видения королевы, никогда не жившие на земле, привидения из романов Вальтер Скотта, где белая женщина переплывает на коне лунную реку, походило бы на процессию, где Бодлеровские химеры отягчают путников жизни, падающих от усталости под грузом их, если у них, как у Хомы Брута, не хватит силы перед рассветом совлечь свою химеру и не измолотить её поленом; походило бы на процессию уродливых калек – калеки чувств, противоположенные здоровякам его{35}[6].
Обе девушки слушали Филонова с большим вниманием. Алис была более склонна воспринимать многочисленные сентенции, которыми наполнена речь художника, но Оношко, понимавшая жизнь предметно, прямо спрашивавшая у неё – да или нет, что делало её менее рискующей в жизненной игре и игру менее интересной, спросила Филонова:
– Вы очень подробно разобрали любовь, как у нас в естественной истории, по родам и классам, но всё же скажите, к какой именно любви вы чувствуете наибольшую склонность в себе, а если сейчас вы не можете ответить о настоящем, то скажите о вашем прошлом, что наиболее часто вами владело из описанных отделов и подотделов любви.
– Вы хотите прямого, лишённого условностей ответа?
– Да, да… вы наш брат и должны быть искренним.
– Всё живое, даже растение, испытывает томление, стремление слиться с другим живым существом:
«Несётся ветер над Землёю,
К нему ласкается Туман.
Все существа, как в дружбе тесной,
В союз любви заключены.
О, почему ж, мой друг прелестный,
С тобой мы слиться не должны?»…
{36}
Затем я знал пароксизмы, припадки любовной горячки, знал ли я страсть, которая, испепелив душу, превращает человека в развалины, заставляет забыть всё на свете, молния, делающая человека слепым в беспросветную тёмную ночь; вот и день настал, буря, молнии давно пронеслись, а человек слеп; знал ли я бурю чувства, по волнам, которого человек мечется как щепка после кораблекрушения, – то я должен ответить: моя вся природа поглощена любовной страстью к зримым и осязаемым формам живой жизни, и эта всепоглощающая страсть сделала меня слегка свободным от чисто земного, от вполне жизненного; она навалила камень на вход в семейный уют; этого не испытал, этого не знаю, а думаю, что Рафаэль, Микеланджело и Леонардо были, безусловно, правы, когда они никогда не качали колыбели рукой, державшей палитру. Последний отдел – мир воображения, если художник скажет, что он не постоянный посетитель его, то он солжёт гнусным образом.
– Всё это теории, – сказала Оношко, – уже очень поздно, мы так много говорили, а к реальному не пришли. Филонов, вы должны полюбить одну из нас, одну из сестёр ваших, у вас большое воображение, вы можете любить любую из нас, слушая ваше рассуждение, я поняла это ясно и неопровержимо. Вечер закончим реальным. Вот ручка от веера, беритесь двумя пальцами за нижний край, теперь я, Алис, теперь беритесь над, Алис, прижимайте ваши пальцы ближе, лунный свет ярок, не жульничать, ручка веера коротка, вот результаты: Алис наверху, затем Филонов и… последняя я…
Филонов – Алис для вас, а вы для неё. Моё дело выяснить всё, моя роль спросить бога случая выполнена, а в любви, как и в несчастье, случай играет первую роль; теперь дело за вами и всё зависит от вас, как поведёте игру…
Филонов обернулся к Алис, свет луны перешёл с пола на диван, теперь рисовал квадраты окон на стене, и через это комната казалась большой таинственной залой… и среди этой залы Филонов видел лицо Алис, оно всё было пронизано лунным светом.
Её он должен полюбить…
В этот вечер так много было сказано шутя…
Игра стала серьёзной; Филонов последнее время мало встречался с людьми, а с женским обществом и совсем не имел общения последние месяцы…
Филонову нечего было задумываться выбирать, он не шевельнул бы пальцем, если бы надо было бежать, хлопотать, искать, кланяться, но он не был из тех, которые уклоняются, защищаются от жизни, вдруг направляющейся к ним и… Теперь Филонов не колебался: шутка – шуткой, серьёз – всерьёз.
– Вы должны поцеловаться впервые при мне, – сказала Оношко, хлопая в ладоши, я вас соединяю, и я хочу быть свидетелем первого вашего соприкосновения; поцелуйтесь!..
Филонов положил руки на плечи Алис, она не отклонялась, она не сопротивлялась, он слегка потянул её к себе;…когда-то в юности, катаясь при луне на лодке, Филонов пальцами взял водяную лилию; он стал тянуть её, желая сорвать лилию, облитую лунным светом, упругий стебель не перерывался… Филонов тянул цветок к себе, маленькая лодка оседала в воду… Филонов потянул ещё сильнее… и где-то внизу, далеко в воде, почувствовала рука, как лопнул стебель и… неожиданно весь выскочил из воды и лежал на её поверхности, изогнувшись длинной дугой, поблёскивая в свете луны…
Он держал в руках лунную лилию, сорванную лунную лилию, принадлежавшую ему…
Этот цветок не имел запаха, он был бесстрастен, но в нём была поэзия лунного света и целомудрия венчика белых раскрывшихся лепестков.
В лунном свете была чистая невинная девушка, невеста, речная лилия, трепетавшая в пальцах его рук, чьи лепестковые уста были холодно, лунно бесстрастны.
Филонов поцеловал лунные уста…
За окном дыбился лунный туман; лысый купол Исакия горел бликом верленовского лба, над полусонью мёрзнущих бульваров, над трауром ночной Невы, над мостами, заломившими свои длани…
Филонов поцеловал лунную девушку, лунную сестру, свою невесту; над полунощным омутом безмерного болотного города, «над топью блат», окованных камнем, стальной волей человека, где копошатся черти страстей, злобы и властолюбия.