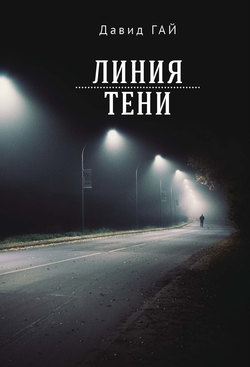Читать книгу Линия тени - Давид Гай - Страница 8
Часть первая
5
ОглавлениеЗа свою долгую жизнь я дважды оказывался на больничной койке, не считая теперешнего пребывания, по его поводу покуда не соткалось мнение, чем оно обернется, я гоню, как ветер злые тучи, мрачные предзнаменования, они, однако, полностью не развеиваются, и иногда отзвук их помимо моей воли полощет ушные раковины, что из переделки едва ли я выйду живой.
В первый раз, еще в Москве, лег для исправления носовой перегородки; операция шла под местным наркозом, я лежал с закрытыми глазами, а когда приоткрывал их, видел миниатюрные долото и молоточек, которыми орудовала профессор Загорянская, лучший специалист по этой части, долбя хрящи в моей искривленной носовой полости. Зрелище ужасное, процедура довольно болезненная, и я снова смежал веки… 12-местная палата с единственным туалетом в коридоре воспринималась как должное, иных условий больница предоставить не могла, да никто и не требовал, зато народ подобрался замечательный, темы для разговоров рождались сами собой, один малый, работяга с ЗИЛа, травил анекдоты про Брежнева, уморительно копируя генсека. В общем, было не скучно.
Спустя четверть века я узнал, что такое американский госпиталь, когда в бруклинском Маймонидесе русский хирург Вайншток вел внутри меня своего рода ирригационные работы, обходил забитые бляшками, заилившиеся сердечные артерии и ставил обводные канальцы для беспрепятственного тока крови. Внутренности мои охладили, как полярника на льдине, до нужных градусов, жизненные процессы замерли и ни на что не реагировали, сердце выключили, грудь разрезали пилой, и я улетел в космос на семь часов. Полет прошел успешно, я был, как Гагарин, в виде подопытного кролика, только он все чувствовал, а я – ничего; вернувшись из немыслимых галактических далей, с трудом уловил позывной сигнал хирурга: «Если меня слышите, сожмите ваши пальцы, которые я держу…» Слышу, пытаюсь сжать, хоть чуть-чуть, ничего не получается, кисть ватная, не слушается. «Приоткройте глаза и моргните, если вы меня слышите и понимаете…» Слегка разлепляю свинцовые веки и моргаю, возвращаюсь из космоса на грешную землю, сквозь наркозный дурман прорывается: «Голова в порядке…»
Я подробно описал пережитое в изданном в России романе о русском иммигранте-счастливчике, выиграл он многомиллионный джек-пот в лотерею и перенес по воле автора в Америке такую же операцию; к моему немалому удивлению, московский медицинский журнал перепечатал три странички, выдав за документальный очерк. Правда, один момент романного описания журналом был опущен, так как не имел прямого и даже косвенного отношения к медицине, а скорее, выдавал натуру автора: перед операцией меня навестили четыре мои приятельницы, все в разное время имели со мной близкие отношения, расставшись, мы продолжали общаться, в их появлении не было ничего неожиданного, за исключением того, что друг друга не знали и впервые познакомились в моей палате. Меня же одолело смешливое настроение, я дурачился, рассказывал веселые байки, им казалось – таким способом изгоняю вполне понятный и оправданный страх, а мне и в самом деле почему-то стало смешно, хотя, безусловно, присутствовал и страх, которому не давал воли, и зрела уверенность, что все обойдется, я вернусь из космоса и совершу мягкую посадку; короче, в момент, когда мне предстояло на каталке отправиться в операционную, я выдал, возможно, лучшую и одновременно самую сомнительную шутку в жизни: «Девочки, вы такие красивые, милые, нежные – у меня ощущение, что я уже в раю». На хохот в палату сбежались врачи и медсестры – здесь отродясь не веселились…
Все это происходило почти двадцать дарованных мне лет назад, мои байпасы худо-бедно работают, но теперь мне не до смеха: где те красивые, милые, нежные, похоже, придется обреченно ложиться под нож хирурга, который ничего не может гарантировать. Допрежь приговора нельзя выводы делать, иначе беду накликаешь – мрачные мысли способны материализоваться.
В палату вползает кисловатый рассвет. Меня никто не тормошит, медсестрины процедуры начнутся часа через полтора. Устраиваюсь на койке поудобнее, чтобы не мешал надутый, как камера футбольного мяча, живот. Жидкость в животе – хреновый признак, даже боюсь думать. Болей, правда, нет. Жидкость сегодня снова откачают, так обещали. Ну, и что дальше? Диагноза пока нет, не знают эскулапы, что в моем брюхе колобродит. Когда поймут, тогда и…
Веки прикрыты, и помимо воли возникают видения, лики, обрывки бог знает сколько лет назад виденного, происходившего, тихо плывут ко мне из бездонной глуби, колеблются, заволакиваются бисерной рябью, наконец, достигают поверхности, устанавливаются – и вмиг исчезают, будто кто-то камешек бросил в воду и пошли круги, на смену им рождаются давно забытые, казалось, навсегда канувшие отражения, оказавшиеся живыми, легко возрожденными, будто происходили вчера.
В одном из романов, изданных в Москве в последние годы (кроме всего прочего, памятен он тем, что издатели, решив не заморачиваться пересылкой гонорара в Нью-Йорк (по правде говоря, и денег-то у них не было…) расплатились со мной частью тиража, книги, совершив перелет за океан, оказались в Америке вполне ходовым товаром), так вот, я писал о том, что «силюсь и не могу различить, что же было в моей младенческой и детской памяти собственным, незаемным, а что явилось плодом фантазии или было навеяно чьими-то рассказами». Фразу эту помню наизусть, как стихи, ничего в ней особенного нет, однако открывает она потаенную дверь в мир не изжитых по сей день эмоций. Книгу я безотчетно, с какой-то неясной мне самому целью прихватил с собой в госпиталь, изредка перечитываю хорошо знакомое, словно прикасаюсь к некоему талисману, охранной грамоте в твердом переплете с силуэтом Манхэттена на обложке и Чистопрудного бульвара на заднике – быть может, выручит и даже спасет.
Что же там дальше, после сомнения в незаемности моей младенческой и детской памяти?
Я смотрю памятью в прожитую даль и задираю голову, чтобы увидеть гору – мое детство, и думаю над тем, что жизнь каждого человека, и моя собственная, напоминает спуск с горы: так сбегают веселые звонкие потоки, мчатся по склонам незамутненные, независимые, гордые, постепенно слабеет их напор, сливаются они в спокойные речки, потом становятся реками, влекутся медлительно и важно, меняется их цвет – из ясно-голубого в землисто-коричневый, и, наконец, из полноводных превращаются они в неслышные, еле дышащие ручейки с морщинистой рябью на поверхности, мельчают, иссыхают, и наступает момент, когда от былых веселых и звонких потоков остается еле заметный след на песке.
Неудержимо хочется вновь очутиться на вершине горы, испытать упоение высотой, одновременно сохранив накопленный опыт – счастье и восторг, ошибки и разочарования, однако чудес не бывает, и я влекусь медлительным потоком по скудеющей равнине, и берега мои сужаются и сужаются…
А покамест я возвращаюсь в благословенное время начала начал, которое помнится лучше всего, и чем дальше, тем помнится лучше. Я вижу (хотя видеть никак не мог по причине младенчества) траншею для укрытия жильцов на случай бомбежки, которую отец отрыл за сараями, уходя в ополчение, немецкую «раму», гонявшуюся на нашей улице за матерью и живым, прижимаемым ею к сердцу комочком, то есть мной, неожиданный приезд с фронта в наш подмосковный город 16 октября, в день всеобщей паники, дяди Шуры, офицера штаба фронта, запретившего матери уходить с беженцами, отца в госпитале в Лефортово, неловко держащего меня-грудничка правой рукой (левая, изрешеченная осколками, лежала на перевязи)…И никто не убедит меня в том, что все это, реально происходившее, я никак не мог видеть и запомнить и мне примстилось.
Но вот что действительно, неоспоримо помнится, так это валик дивана в большой комнате, на который я вскакиваю, услышав из черной тарелки репродуктора густой торжественный дикторский баритон, в кулаке у меня зажат красный карандаш, с помощью матери ищу на прикнопленной к стене карте очередной освобожденный город, очерчиваю его кружком и издаю победный вопль: «Гитрил, капут!»
В конце сентября 1944-го вернулись из эвакуации в Алма-Ату старшая сестра отца Маруся с дочерью Соней и привезли яблоки апорт – огромные, с плотной красной, с желтыми вкрапинами, кожицей и нежной мякотью. Таких яблок в Подмосковье не было. Тетя Маруся устроилась в школу близ озера преподавателем математики, Соня продолжила прерванную войной учебу в университете на филфаке.
Еще помню, как мать и Рая, жена любвеобильного дяди Шуры, сопровождавшая его на фронте, остерегая – не всегда успешно – от походно-полевых романов, и приехавшая в конце войны повидаться, курили «козьи ножки» – махорочные самокрутки, я канючил: «дай, дай!», от меня отмахивались, я приставал, Рая неожиданно сунула мне самокрутку, я вдохнул дым и зашелся кашлем. Отпаивали меня холодным чаем, мать костерила невестку на чем свет стоит.
Рая привезла мне в подарок трофейный цейссовский бинокль – такого ни у кого на улице не было, и я безмерно гордился и дорожил дядиным подарком. Также она привезла детские сапожки и отрез синей «диагонали» – сукна с идущими вкось рубчиками. Отец договорился с обшивавшим весь город стариком-портным, и тот снял с меня мерку. Обмеряя меня, он напевал, притоптывал, из носа у него торчала сопля. В городе его называли Изей-чокнутым. После примерки, когда мы возвращались домой, отец вдруг сказал, что у старика в войну погибла семья. Костюмчик вышел на славу – старик знал свое дело. Деньги он наотрез отказался взять, мотивируя тем, что никогда не шил на таких мальцов и потому не может назначить цену работы. Рано утром в выходной день, едва продрав глаза, я с помощью отца надел галифе и китель на манер офицерских, обулся во всамделишные сапожки и с ним за руку, бесконечно гордый, прошелся по двору и улице до пустыря, переживая, что мало кто меня видит.
Познание мира не всегда проходило безболезненно. Однажды, заинтересовавшись таинственными дырочками в розетке, сунул туда мизинец. Удар током был такой, что я отлетел на полметра и почему-то не заревел.
Из картинок того времени свежо, будто было вчера: отец качает меня на руках, нежно напевая – «Ая, ая, Данечка, ая, ая, маленький…» От рождения правое ухо мое имело дефект – при мытье головы вода попадала внутрь и вызывала воспаление. Пока родители не распознали причину моих заболеваний после каждого мытья, я страдал, мне капали в ухо камфарное масло, делали водочные тепловые компрессы, а отец качал и напевал, чтобы унять стреляющую боль.
Еще помню, как сводил меня с ума отцовский храп. Спал я в большой комнате, на том самом диване с валиком. Кровать отца стояла напротив, в двух метрах. В середине ночи я просыпался от отцовских рулад, следовавших по нарастающей. В верхней, предельной точке звук прерывался, рулады стихали, потом все начиналось сызнова. Я придумал способ борьбы: едва звуки достигали апогея, я начинал кашлять или издавать легкий свист. Отец всхрапывал, будто натыкался на невидимую преграду, рулады прекращались на несколько минут, я засыпал, чтобы быть разбуженным тем же самым.
Если б знал я тогда, что унаследую отцовскую привычку – верный признак неблагополучия, как объяснили доктора, с артериальным давлением.
А еще вижу памятью, казалось, давно ненужное, исчезнувшее, растворенное в пестроте прожитых лет: четверо мужчин в белых полотняных парах возвращаются из бани, несут под мышкой эмалированные тазики, шайки, как их называли тогда, и березовые веники, среди мужчин – мой отец, статный, красивый, розовощекий, лысина его сверкает на солнце, сегодня мы поедем на станцию Отдых кататься на детской железной дороге – отец обещал, меня переполняет любовь к нему, я качусь на трехколесном велосипеде ему навстречу, он хохочет, манит меня, я ни с того ни с сего разворачиваюсь и начинаю удирать, ноги в сандалиях быстро жмут на педали, отец что-то кричит, я не слышу и продолжаю удирать, он зачем-то бросается за мной, снова кричит, я с еще большим азартом мчусь от него. Бессмысленная гонка продолжается на потеху наблюдающим ее. Отец, почему-то рассвирепевший, ловит меня у колонки, откуда вся улица носит воду, ведет домой, словно чем-то провинившегося, и дома в первый (и последний) раз устраивает лупцовку. Водит по кругу, держа за левую руку, и нахлестывает ремнем. Я реву не от боли, а от жгучей обиды: за что? почему? – ведь я так люблю отца…
Поездка на станцию Отдых была отменена в знак наказания. Оказывается, отец кричал, приказывая мне вернуться, а я ослушался. Он был нервным и вспыльчивым, мой отец, как многие стойкие гипертоники, и эти его качества передались мне…
Я хранил в себе эту историю все годы, пока отец был жив, и постарался выбросить из памяти, когда его не стало, сделав исключение для романного описания.
Раз за разом возникало непреодолимое желание видеть мир сверху – не плоским и одномерным, а объемным и многогранным. С этой целью я пробирался полутемной, тускло освещенной единственной лампочкой лестнице, старался незаметно для соседей прошмыгнуть на пахнущий плесенью чердак, открывал окно с грязным, никогда не мытым, в паутине и дохлых мухах стеклом и вылезал на крышу нашего дома. Обычно осуществлял эту операцию во второй половине дня, вернувшись из школы, еще до сумерек, стараясь поймать предзакатное весеннее или осеннее солнце (летом и зимой я почему-то не испытывал такого любопытства). Жившие на втором этаже Ильины, печник Степан Степанович и третья соседка – Лиза Большая в это время были на работе, так что у меня был шанс забраться на крышу незамеченным.
Ильины, их за глаза соседи называли непонятным мне словом – куркули, те вообще меня не замечали, а если замечали, то смотрели подозрительно; я для них выглядел огольцом-шпингалетом, от которого можно ожидать неприятностей: что-нибудь разобьет или стырит. Необщительные, сумрачные, они еще более замкнулись после гибели взрослого сына, ни с кем в доме не общались. Степан Степанович, живший одиноко, без жены, привечал меня, иногда зазывал к себе и угощал чаем с баранками. Я любил бывать у Лизы Большой. Почему ее так называли, было невдомек, никакой Лизы Маленькой вообще не существовало, ростом она тоже не выделялась. Однако называли ее Большой, и никто не удосуживался узнать почему. Она работала секретарем-машинисткой в горкоме партии. Я замечал, что она, молодая женщина, не очень красивая, но и не уродина в моем детском представлении, равнодушно воспринимала мужские знаки внимания, туманно-рассеянный взгляд ее скользил по лицам и ни на ком не останавливался.
Я забирался на второй этаж, проскальзывал вечно пахнущим керосином коридором и входил в просторную светлую комнату почти без мебели и оттого казавшуюся еще более просторной и светлой. Из окон открывалась в синеве манящая дальняя перспектива. Дружившая с Лизой Большой моя мать рассказывала, что у нее горе. На стене висел большой портрет юноши в военной форме, как я уразумел – Лизиного жениха. Я догадывался, что он погиб. В этом, очевидно, и заключалось ее горе.
Взрослая жизнь скрывалась за семью печатями, многое до меня не доходило, как, например, случайно подслушанное в разговоре матери и отца: Лизу Большую пытался изнасиловать какой-то солдат. Из подслушанного вытекало следующее: Лиза Большая гуляла одна вечером в парке за озером, на нее набросился солдат и поволок в кусты, она бешено сопротивлялась, укусила солдата за руку, расцарапала ему лицо, он отпустил ее и удрал. Она не заявила в милицию, хотя найти насильника не составляло труда – воинская строительная часть квартировала на окраине города. Не хотела связываться, объяснила мать. Больше всего, по ее словам, Лизу Большую обескуражило то, что напал на нее солдат. Очевидно, все военные сливались для нее в светлый образ погибшего жениха, она не допускала наличия негодяев…
Лиза Большая кормила меня плиточками жженого сахара – предметом моего вожделения. Тогда все в окру́ге баловались им. Обыкновенный колотый сахар размачивали в теплой воде или в молоке до образования жижи, заливали жижей горячую сковороду или противень, содержимое схватывалось, сгорая, и образовывались каменно-твердые, желтоватого отлива плитки. Жженый сахар оказывался вдвойне выгодным. За неимением шоколадных конфет он по справедливости считался лакомством (у меня и теперь на языке его невыразимо приятный вкус). Кроме того, распиленные мелкие кусочки не кидали в чай, а долго сосали, как леденцы, и расходовался тот же килограмм сахара, ставший жженым, значительно медленнее.
Мать тоже готовила его, но редко.
…Растворив чердачное окно, я осторожно вылезал наружу, устраивался на подоконнике, свешивал ноги на крышу и отдавался восторгу лицезрения окрестностей. Предзакатное солнце наполняло окоём неярким светом, бабье лето (а стояла именно такая пора) рождало тишину и умиротворение. Голубеющие дымчатые дали навевали светлую тоску, внутри что-то млело. Одиночество не томило, напротив, выглядело желанным и естественным моим состоянием, его не требовалось ни от кого таить. Почему-то к горлу подступали слезы. Я подносил к глазам предусмотрительно захваченный бинокль, настраивал на резкость – открывались приземистые, скукоженные, домишки, скаты крыш в черепице, толе, рубероиде и дранке, печные трубы, сады, огороды, поля, поедающие травку коровы и козы, лес, излука реки. Я жадно поглощал это зрелище, пока не уставали прилипшие к окулярам глаза.
Что повелевало мной, руководило и направляло? Я не отдавал себе отчета – внутри срабатывала пружина, выталкивавшая одно-единственное желание вырваться из окружающего мира, постылого и скучного. Уже в ту самую раннюю пору взросления я задумывался над тем, что уготовит жизнь, и не видел себя никем – ни работягой или инженером на местном засекреченном приборостроительном заводе (его в просторечии называли «панель», замечательно звучало в устах женщин, отвечавших на вопрос, где работают: «На панели…»), ни военным, ни строителем, ни геологом, ни кем-то еще. В уме я сочинял всякие истории, потом заносил на бумагу и никому не показывал, пряча в потайном месте в дровяном сарае. В этом ли мое предназначение? Даже робко думать об этом я боялся.
И вот наступала заманчивая минута, когда я нажатием потаенной кнопки включал спрятанный в рюкзаке за спиной моторчик и взмывал над домом, из вертикального положения переходил в горизонтальное, распластав руки-крылья, точно Икар на картинках в книжках; я наслаждался полетом, скоростью, возможностью управлять телом, зависать и маневрировать, вздымающим волоса ветром и легким посвистом в ушах; я спустился ниже и летел, едва не задевая печные трубы, подо мной проплывали деревянные и кирпичные строения, обрамленные заборами из штакетника, улицы и переулки, деревья и кусты, играющая в мяч ребятня, снующие меж огородных грядок женщины с подоткнутыми подолами, парни и мужики, оседлавшие мотоциклы и велосипеды, проезжали, пыля, грузовики и редкие легковушки; на большой высоте прорезал облака реактивный истребитель, оставляя за собой ударявший в перепонки раскатистый гром, как при страшной грозе, и инверсионный след-автограф в виде струи легкого белого дыма; люди задирали головы, махали мне, что-то кричали, а я горделиво проносился над головами, удаляясь все дальше от пыльного чердачного окна, куда вскоре предстояло вернуться…
В ту пору я слыхом не слыхивал ни о каком мальчике, жившем на крыше возле печной трубы. История эта вообще еще не была написана. Прочитав ее спустя лет десять, а то и больше, и уже совсем взрослым увидев мультфильм, я поразился открытию – я летал гораздо раньше Карлсона, приспособив для этого рожденный фантазиями реактивный ранец. Сколько мне тогда было – совсем ничего, и лишь почти семь десятилетий спустя придумали таки реактивные ранцы, начали летать, преодолевать Ла-Манш, изредка гибнуть. Воображение опережает прогресс…
Фантасмагорический, иллюзорный, обманчивый, причудливый, феерический мир поселился во мне с тех самых бдений и живет до сего времени. Иллюзия, глюки, одурь, бред, фантом, чертовщина, призрак, оцепенение, галлюцинация… Назовите, как хотите, но я действительно летал над городом, и никто не переубедит меня в обратном. Сон во сне, как сказал один писатель. А великий ученый развил мысль: разница между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь упрямая и стойкая иллюзия.
Прожитые годы не избавили от нее, я продолжаю отдавать дань воображению, невесть откуда берущимся вольным фантазиям, не подменяю ими мир реальный, отнюдь, но примериваю на себя то и другое в самых разных сочетаниях, вынимаю необходимое, словно фокусник из рукава, в зависимости от потребностей души. Так мне, сочинителю, легче существовать, отстаивать свое одиночество, не страшась при этом впасть в мизантропию.