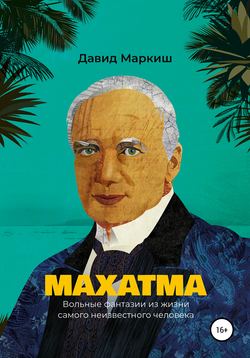Читать книгу Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека - Давид Маркиш - Страница 4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
І. ОДЕССА
ОглавлениеДля Веры Фигнер, по прозвищу «Вера-револьвер», Одесса была не чужим городом; она приезжала сюда с радостью, а уезжала с грустью. Во всей империи никакой другой город – ни державный Санкт-Петербург, ни толстомясая Москва или босяцкий Ростов – не мог сравниться с Одессой по совершенной подготовленности к террористической революционной работе. Тому были причины, и веские, и все они своими тёплыми ладонями грели душу красивой Веры.
Дело тут было не в море и не в приятной солнечной погоде. Национальная пестрота создавала среду лёгкую и подвижную, идеальную для политического подрыва. Нигде во всей империи не жили в такой привычной тесноте дворов и домов все подряд: украинцы и русские, евреи и греки, армяне и турки. И все они сохраняли приверженность семейному укладу и родовым привычкам, зачастую довольно-таки странным и вызывающим непонимание соседей. Привыкнув к особенностям своего коммунального города и не обнаруживая в жизни предмета захватывающей любви, они перенесли свои чувства на Одессу и преданно её любили… Вера-револьвер оспаривала своё многозначительное прозвище у другой бандитки – унылой Веры Засулич, отличаясь от неё не только отменной красотой, но и острым умом преступницы, с большим удовлетворением отмечавшей национальные особенности одесского бытия.
Евреи, составлявшие чуть ли ни треть населения города, притягивали её пристальный интерес, как магнит притягивает металлические опилки. Вера не делала разницы между «эллином и иудеем», антисемитизм был ей неинтересен; она искала в людях лишь годность и готовность к осуществлению её революционных планов, прежде всего нового освежающего цареубийства – этого грозного акта справедливости и апогея индивидуального террора. И именно евреи, с их бесконечными и вполне безуспешными поисками справедливости, являлись благотворным материалом для опасной работы красивой Веры. За двадцать лет, прошедших после отмены рабства и выхода людей из крепостного хлева на свет божий, многое изменилось в империи: расцвели, как картошки в огороде, нелегальные революционные сообщества, и худосочные потомки библейских пророков к ним прибились и были приняты с воодушевлением. Это и неудивительно – а куда же им ещё было податься? Страсть к установлению мировой справедливости владела этими радикальными евреями, русский монархический строй не удовлетворял их запросам, и в борьбе за всеохватную свободу они готовы были сложить голову. Национальное происхождение и родовые корни налагали отпечаток на мировоззрение евреев, и, таким образом, целый народец можно было, при разумном подходе, вовлечь в революционную работу. Так рассуждала умная Вера, и она была недалека от истины.
Это, и ещё будущее устройство России, покамест размытое, но непременно воспоследующее за убийством нового царя, пришедшего на смену взорванному, будоражило воображение Веры Фигнер, разглядывавшей кривую улочку близ Итальянского бульвара через гостиничное окно. На полу номера, за спиной постоялицы, горбился наполовину распакованный кофр: одежда была разложена на высокой кровати, хрустальные грани флакончиков туалетных принадлежностей поблескивали на тумбочке у изголовья. Нетрудно было предположить в красивой жиличке опытную путешественницу, привыкшую с лёгкостью и своего рода азартом менять гостиницы и постоялые дворы и привольно, как говорится, с порога, там обустраиваться. Ещё легче было бы утвердиться в этом предположении, зная доподлинно имя заезжей дамы – но это было неосуществимо: в гостинице «Лев и Орёл» Вера Фигнер, из конспиративных соображений, зарегистрировалась под чужим именем и по подложным документам. Целая стопка таких документов, все на разные имена, хранилась в заколотом для надёжности английской булавкой боковом карманчике Вериного ридикюля, изготовленного из гранатового бархата и украшенного по лицевой стороне весёлой французской вышивкой: пасту́шки с пастушка́ми на зелёной лужайке, под деревом.
Рассмотрев улочку и убедившись в том, что филёров нигде не видать, Вера вернулась к своему кофру. До инспекционной встречи с активистами местного революционного подполья оставалось ещё около двух часов.
Этих проверенных активистов набилась на конспиративной квартире целая дюжина – молодые люди, по преимуществу студенты местного Университета, хотя и не все: пробуждающийся рабочий класс был представлен кудрявым мастеровым в косоворотке, а буржуазия совсем ещё юной дочкой богатого провизора и владельца нескольких одесских аптек Хаима Рубинера, по имени Ася. Вообще-то девушку при рождении записали Хасей, но в разноплемённой революционной среде «Ася» звучало проще и понятней. Ну, Ася так Ася: человек сам хозяин своего имени, тем более в подполье…
В ожидании знаменитой охотницы на царей молодёжь вела довольно-таки опасные разговоры о будущем России и о почётном месте в этом светлом здании террористической организации «Народная воля», к которой активисты себя причисляли. Дискуссия носила вполне уравновешенный характер, как будто подпольщики не бомбы собирались метать в своих притеснителей, а пасхальные куличи. Вера Николаевна Фигнер, которую здесь ждали, была горячей народоволкой, но прежде, ещё до убийства Александра Второго, её родным гнездом была обращённая к крестьянству «Земля и воля». Кудрявый мастеровой считал себя в большей степени землевольцем, чем народовольцем: он появился на свет в семье крепостных, ему было видней, что нужно народу, чем Асе Рубинер, похожей на античную камею. Свою позицию мастеровой считал устойчивой и готов был за неё постоять, хотя «хождение в народ» пропагандистов «Земли и воли» справедливо считал занятием пустым и небезопасным: деревенский народ партийных краснобаев не поймёт и по запарке даже может надавать им по шеям.
Начитанные молодые люди обоих полов, в ожидании Веры, рассуждали о несомненном преимуществе радикальных действий народовольцев по сравнению с социалистическим блеяньем адептов «Земли и воли». Одесские активисты были настроены решительно; они желали, не откладывая, учинить покушение на какого-нибудь царского сатрапа и тем самым развернуть мир к лучшему и приблизить наступление эпохи справедливости. Эта счастливая эпоха откроется сразу вслед за тем, как рассеется дым от взорвавшейся бомбы, брошенной твёрдой рукой метателя… Молодёжь свято верит в немедленную смену декораций, поэтому она так замечательно подходит для революционного террора. Старики не верят ничему, начиная со смены декораций. А высокие профессионалы, такие как Вера Николаевна Фигнер, верят лишь в то, что сами организуют и выполняют, и, откровенно говоря, не заглядывают дальше висельной перекладины.
Семнадцатилетняя Ася Рубинер, похожая на камею, не принимала участия в споре. От разогретой спором кампании она держалась в сторонке, как молодая ель на опушке волчьего леса. Внимательный наблюдатель определил бы без особого труда, что рассуждения революционеров о важности и пользе индивидуального террора пролетают мимо её хрупких, фарфоровой лепки ушей, как ветер мимо фонарного столба. Всё её девственное внимание было обращено на крупного, почти громоздкого, с широким разворотом плеч студента-естественника Володю Хавкина. Она и на эти тайные сходки повадилась ходить, чтобы быть поближе к предмету своего поклонения. Мало того: она и папу, вполне прогрессивного аптекаря Хаима Рубинера, готова была заставить сюда прийти и записаться в народовольцы – хотя бы для того, чтобы сделать приятное Володе… Можно не сомневаться: это была любовь! Самая первая! Зелёно-золотая!
Любовь поражает человека и в мирные дни, и в войну, и во всякое время года. Поражению подвержен стар и млад, хотя на молодых да нервных, скользящих по первопутку, выпадает основная масса любовных явлений. Поражённый любовью мается, не находит себе места и, охваченный тёмным восторгом, готов лезть на стену, хотя на ней нет ни ступеней, ни зацепок. Уместно сравнить приступ любви с приступом безумия, но это выматывающее безумие прекрасно, и публика относится к нему с сочувствием и пониманием: любовь зла, полюбишь и козла! И непременное несовпадение характеров между составляющими любовную пару усугубляет сахарную суматоху чувств; захватывающий морок любви даже приводит иногда к сведению счётов с жизнью. Такое в ходу от начала времён и до наших дней, включая сюда живописную эпоху Возрождения и чугунные коридоры большевизма. Тут уж ничего не поделаешь: сердцу не прикажешь…
Нельзя сказать, что свободомыслящий студент Володя Хавкин, урождённый Маркус-Вольф, пятью годами старше влюблённой Аси, был к ней равнодушен; ничего подобного. Он, конечно же, замечал её восторженное внимание, оно было ему приятно и волновало его воображение: в двадцать два года отроду чувственное влечение вспыхивает в молодом мужчине за каждым поворотом, на каждом шагу, как языки пламени над растопкой. Огонь, чистый огонь лежит в основе тесных отношений пары, и Володя не без удовольствия наблюдал за приближением этого опаляющего огня. Он следил и дожидался, когда пламя лизнёт его сильное большое тело, и он вспыхнет, как терновый куст на горе Синай, о котором слышал ребёнком от ребе, в хедере, и запомнил.
Тропку крадущегося огня словно бы песком запорошило, когда отворилась дверь и на пороге лёгким танцующим шагом появилась Вера Фигнер. Мир вздрогнул, прекрасное мгновенье остановилось в глазах Володи Хавкина. Такое тоже иногда случается в нашей жизни.
Спору нет, Вера была хороша собой. Яркая брюнетка с резкими, но и нежными чертами смуглого лица, она словно бы сошла в явочную квартиру прямо со страниц Библии. Никто бы не удивился – ну, может, за исключением кудрявого мастерового, – если бы тотчас, непонятно как, в её руках, занесённых на царя, оказалось блюдо с отрезанной головой Иоанна Предтечи или хоть того же Ирода Великого, – неважно, кого.
Для Веры быстренько освободили единственное здесь кресло, и она в него опустилась, сдвинув колени и поместив на них свой ридикюль с вышивкой. Володя не сводил глаз с визитёрши, он не мог избавиться от мысли, спрятан револьвер в сумочке Веры или нет. Ему хотелось, чтобы револьвер обязательно там оказался, и, если вдруг нагрянет полиция, Вера немедленно откроет стрельбу, а он, Володя, прикрывая героическую гостью, будет действовать железным ломиком, припасённым на всякий пожарный случай и уложенным в штанину брюк. Асе Рубинер в этом этюде не отводилось никакой роли, и она, хмуря чистый лоб, грустно глядела перед собою своими оливковыми глазами, готовыми уже повлажнеть. Ревность, как видно, изначально заложена в человеке неизвестно зачем – возможно, что и по оплошности; что-нибудь другое оказалось бы тут более к месту.
Говорят, женщины «кожей чувствуют» обращённые на них взгляды мужчин – острые и зоркие… Чушь всё это, ничего они не чувствуют – ни кожей, никак. Другой разговор, что женщина в состоянии поймать и проследить мужской взгляд, дерзко упёртый в её грудь, бёдра или замшевый треугольник; это – да.
Вера видела вблизи, во втором ряду, крупное открытое лицо молодого человека, обращённое к ней и, казалось, излучавшее направленный луч света в дурно освещённой комнате: занавеси были опущены, створки ставен приотворены лишь на ширину ладони и зафиксированы держателями.
Приятно пялившийся на неё боевик, крупный молодой человек с плетёной борцовской шеей, мощно втиснутый всеми своими мускулами в студенческую форменку, вовсе не мешал Вере говорить; напротив, он своим лучом не только её высвечивал, но и подогревал, и смертоубийственные наставления красивой гостьи текли без сучка и без задоринки, плавно ложась на душу слушателей.
– Итак, как вам известно, – начала Вера, – наша мишень – генерал-майор Стрельников, – сказала Вера. – Киевский военный прокурор. Это его установка: «Лучше захватить девять невинных, чем упустить одного виновного». Людоед! Он заслуживает смерти, он будет убит. Нами. Здесь.
Внимательные слушатели перевели дыхание, а потом мёртвая тишина вновь повисла над их головами.
– Подчёркиваю: – продолжала Вера Фигнер, – это я внесла предложение в Исполком поставить Стрельникова на очередь, и моё предложение было утверждено единогласно Исполнительным комитетом «Народной воли». Теперь я несу ответственность за приведение приговора в исполнение.
Слушатели вновь вздохнули: близкое будущее окрасилось в багровые тона и приобрело внятные очертания.
– Вы, товарищи, делаете замечательную работу, – продолжала Вера. – Внешнее наблюдение, организованное вами в лучших традициях сыска, позволило установить передвижения Стрельникова по городу и разработать тактику его устранения. Браво, товарищи!
Похвала несколько растопила напряжённую атмосферу явочной квартиры. Боевики зашевелились, задвигались на своих стульях и табуретках, составленных впритык. Стены явки словно бы раздвинулись, открыв перед участниками собрания дивный оперативный простор, пульсирующий опасностью и подвигами. За пределами этого простора, похожего на поле священного боя, простиралось будущее – светлое и непорочное. Парни и барышни, увлечённые революционными словами Веры Фигнер, готовы были прямо из этой секретной комнаты, ничуть немедля, ринуться в битву за правое дело. Даже похожая на камею Ася Рубинер, захваченная общим очистительным порывом, была готова, вопреки собственным намерениям, присоединиться к смелым бунтарям.
Поднявшись со своего места, Володя Хавкин протолкался к Фигнер. Она пришлась ему чуть выше плеча и глядела на него снизу вверх – то ли с симпатией, то ли с любопытством.
– Вера Николаевна, – сказал Володя, – разрешите мне исполнить приговор Исполкома. Я следил за генералом, знаю его повадки. У меня рука не дрогнет!
С симпатией, с симпатией глядела Вера на неуклюжего студента! Какой, видать, силач! У такого в ответственный момент ничего не дрогнет, вот это точно.
– Центр назначил обученных исполнителей, – сказала Вера, – они уже в Одессе. Но я определю вас метальщиком в группу поддержки.
– Я всё сделаю, как вы скажете, – сказал Володя Хавкин.
И Вера Фигнер не сомневалась: сделает.
Убить человека было бы просто, если б не возникающие на ровном месте непредвиденные сложности; иногда это связано с этической стороной дела, чаще с практическими неувязками.
Два проверенных боевика, командированные Исполкомом в Одессу для убийства Стрельникова, назвались для пользы дела вымышленными именами – дворянином Косогорским и мещанином Степановым – и фигурировали под ними до часа собственной казни. От удачного покушения до повешения исполнителей прошло всего лишь четыре дня; на рассвете 22 марта 1882 года, во дворе одесской тюрьмы, они взошли на висельный эшафот. Такая поспешность имела под собой основание: министр внутренних дел Игнатьев телеграфировал из Петербурга в Одессу: «По доведению об убийстве генерал-майора Стрельникова до Высочайшего сведения, Государь Император повелел, чтобы убийцы были немедленно судимы военным судом и в 24 часа повешены без всяких оговорок». Точка. Этот теракт пинком подтолкнул всё одесское отделение «Народной воли», включая силача Владимира Хавкина и Асю Рубинер, похожую на камею, к самой кромке бездны.
Считаные дни, предшествовавшие покушению на генерала и последовавшей казни боевиков, были наполнены событиями. Слежка за Стрельниковым, в которую Володя был вовлечён и которая сегодня называется «наружка», шла своим успешных ходом. Для отвода глаз и высокой конспирации Володя, играя роль портового грузчика-забулдыги и одетый по этой причине в простонародные портки и посконную рубаху, шатался по Николаевскому бульвару, поблизости от Лондонской гостиницы, где в роскошном номере-люкс стоял его поднадзорный. Стрельников столовался в отличном гостиничном ресторане, регулярно там обедал, а после еды непременно выходил на бульвар, посидеть на лавочке и подышать воздухом. И эта неосмотрительная привычка, о которой «грузчик» не преминул сообщить Вере Николаевне Фигнер, стоила генералу жизни. Вера-револьвер, надо отдать ей должное, не ограничилась важным донесением Хавкина – она сверила его с наблюдениями других своих агентов-наблюдателей, числом четыре, и осталась удовлетворена: Стрельников действительно в своё удовольствие ежедневно переваривал обед на лавочке.
Там, на лавочке, после обеда, Вера Николаевна и решила его убить.
Исполнителем был назначен Косогорский; проницательная Вера разглядела в нём человека, безусловно склонного к самопожертвованию ради высокой революционной идеи. Показательный индивидуальный террор «Народной воли» являлся единственным – Косогорский был в этом уверен – действенным средством, способным разбудить клюющие носом народные массы, и исполнитель вполне отдавал себе отчёт в том, что в отплату за живительный теракт его ждёт петля. И это в том случае, если его не подстрелит бдительная охрана, когда он будет приближаться к объекту, или его не разнесёт на части взрыв бомбы, брошенной им в генерала. Но даже и в этом исключительном случае побег с места покушения, от этой скамейки, представлялся маловероятным, а скорее, невероятным вовсе. Боевик, таким образом, выступал здесь не только в роли справедливого убийцы, но и преданного самоубийцы, и был полон решимости довести свою роль до конца. Одна смерть, к тому же своя собственная, в обмен на жизнь целой страны! «Игра стоит свеч!» любил повторять Косогорский при всяком удобном случае. Ну, конечно… Судьба зловредного генерала Стрельникова при таком раскладе, разумеется, не принималась в расчёт.
Допускала подобное развитие событий и Вера-револьвер, и возможная гибель боевика не выбивалась из рамок ответственного мероприятия: здесь важен был результат. Вместе с тем Вера разработала и чёткий план отхода Косогорского, если ему удастся уцелеть. За кустами и деревьями Николаевского бульвара, в полуквартале, на задворках недостроенного дома по Приморской улице, дежурила беговая пролётка, запряжённая резвой лошадью. На козлах торчал, как кривой пенёк на просеке, прибывший из Москвы боевик Степанов – хилый и туберкулёзный, но вооружённый и способный к бою. Степанов прошёл на практике школу террора, на него можно было положиться – в той, конечно, степени, в какой это вообще допустимо между людьми подполья. Косогорский, по плану, должен был добежать до задворок, вскочить в пролётку – и тут уже всё зависело бы от лошади и Степанова… Стоит ли останавливаться на том, что оба боевика загодя изучили поле своих действий в день покушения и готовы были стрелять, метать бомбы и убегать.
Из-за этой пролётки всё дело чуть было ни сорвалось. По Вериному запросу из Центра из Москвы выслали триста рублей для организации покушения. Обеспечение отхода Косогорского сюда, понятно, входило: купить экипаж и лошадку было необходимо, на своих ногах далеко не убежишь. Выслать-то деньги выслали, но в Одессу они почему-то не дошли: то ли где-то залежались, то ли их украли по дороге… Не подготовить отход исполнителя – всё равно что накинуть ему петлю на шею. И медлить было нельзя: Стрельников собирался возвращаться в Киев, боевики нервничали, ситуация складывалась нездоровая. А денег всё не было, и коляски с лошадью не было. Вера, рискуя засветиться, подняла все свои старые одесские связи и добыла аж шестьсот рублей. Присмотренная заранее пролётка была куплена, хворый Степанов, напялив кучерскую шляпу, занял своё место на ко́злах. Теперь дело стало лишь за Стрельниковым на его лавочке, на бульваре. Сегодня он уже отобедал, значит – завтра.
Вечером Вера собрала последнюю перед актом сходку. Приглашение получили только избранные: приезжие исполнители Косогорский и Степанов, два боевика группы поддержки – Хавкин и Бирюков, и четверо следопытов, все эти дни не спускавших со Стрельникова глаз. Схема покушения была ещё раз разобрана по косточкам и собрана, все действующие лица, за исключением разве что лошади, знали свою роль до последнего звука. Медлить с исполнением приговора действительно было никак нельзя: катастрофическая случайность могла провалить весь план и привести к аресту одесской группы «Народной воли». Дело к тому и шло: в армейских казармах Стрельников вёл допросы арестованных с начала года двенадцати молодых людей, преимущественно студентов, попавшихся на своей приверженности социалистическим взглядам. Кто знает, что они могут выболтать на следствии, на кого показать! В придачу к этому, жандармы привезли в Одессу предателя-народовольца Меркулова, знавшего в лицо многих партийных активистов. И вот этот Меркулов разгуливал теперь по бульварам, стараясь опознать в прохожих людях своих бывших боевых товарищей, в ряду которых Вера Фигнер занимала не последнее место.
Картина завтрашнего покушения была закончена и подписана, орудия убийства распределены: револьверы – у Косогорского и Степанова, бомбы, завёрнутые, как пласты сала, в белую холстину, у опытного Косогорского, Бирюкова и Хавкина. Сдержала-таки Вера слово террористки: получил Володя Хавкин свою бомбу!
– Сразу после покушения нужно ожидать волну арестов, – подвела черту под деловой встречей Вера-револьвер. – Будут хватать всех без разбора, кто под руку попадёт. К этому нужно быть готовыми.
Хворого Степанова, не раскрыв его настоящего имени, Вера назначила руководить операцией на месте; московский боевик принял ответственное назначение как должное.
Ещё до полуночи Вера Николаевна Фигнер, не без оснований опасаясь завтрашних арестов и никого не предупредив, собрала свой кофр, съехала из гостиницы «Лев и Орёл» и поспешила оставить Одессу. И это было разумное решение боевого командира.
А уже наутро новость об отъезде Фигнер разлетелась по подпольной Одессе, по той её части, какая так или иначе была причастна к «Народной воле» и намеченному покушению. Новость эта никого особенно не взволновала – ну, приехала-уехала, – а боевиков, выведенных на теракт, и вовсе затронула лишь по касательной: они были вовлечены в убийство, напряжены и заняты собой. Пожалуй, из них один только Володя Хавкин был неприятно удивлён: получалось так, что Вера-револьвер, из каких бы то ни было спасительных соображений, бросила поле боя и своих солдат. В глазах Володи это выглядело не лучшим образом и пахло отнюдь не порохом… К такой оценке подмешивалась и горькая досада: сразу после убийства, проявивший героизм Володя, если уцелеет, надеялся самолично дать отчёт Вере и, может быть, заслужить хоть краешек её расположения. И вот теперь ничего из этого не получится.
Причастная к событиям Ася Рубинер – за одно лишь её участие во встрече с Фигнер на тайной явке, эта похожая на камею девушка села бы в острог – сердечно радовалась внезапному отъезду красивой бандитки. Володю при виде террористки словно дурная болезнь поразила, и вот теперь источник опасной инфекции исчез сам собой. Скатертью дорога, товарищ Фигнер! А судьба генерала Стрельникова занимала Асю лишь по мере сохранности Володи Хавкина; она, впрочем, и не догадывалась о его роли в покушении, не говоря уже о завёрнутой в полотняную тряпку бомбе, вручённой ему Верой и спрятанной под карнавальной посконной рубахой портового грузчика.
Из облицованного мрамором подъезда гостиницы «Лондонская» генерал Стрельников вышел после обеда не один – перед ним из-за высокой парадной двери, отворённой швейцаром, показалась молодая женщина, лет двадцати пяти, в маленькой синей шляпке с вуалью, с нарядным, в оборках, зонтиком в руке, излишним в эту прозрачную студёную мартовскую погоду. Хавкин знал, кто эта дама: её, рука об руку, несколько раз засекали с генералом; они прогуливались. Были зафиксированы и вечерние посещения Стрельниковым её квартиры на Торговой. Появление молодой дамы в Лондонской гостинице было отмечено впервые.
Пара неторопливо сошла по широким ступеням и, гуляючи, направилась через дорогу к облюбованной Стрельниковым лавочке на Николаевском бульваре. Спинкой лавочка была обращена к наливающимся весенней силой кустам барбариса, за которыми, чуть отступя, протянулись серебристой шеренгой пирамидальные тополя́.
Устроившись на лавочке и без интереса поглядывая на редких прохожих, Стрельников с дамой завели приятный послеобеденный разговор, как натуральные бульварные люди, коих немало сидит на одесских лавочках. Проследив перемещение Стрельникова с его спутницей, Хавкин подошёл поближе и занял позицию метрах в тридцати от генерала. Напарник Бирюков, поглядывая по сторонам, шагал по другой стороне улицы в направлении Лондонской гостиницы. Боковым зрением, не поворачивая головы, Володя Хавкин увидел, как Косогорский, с небольшой сумкой через плечо, двигаясь почти бегом позади тополиного строя, приближается к Стрельникову со спины. Время вдруг убыстрило свой ход, поскакало галопом и, обойдя Косогорского, оставило его позади.
А Косогорский, выйдя из-за деревьев и не приближаясь вплотную к кустам, поднял руку с револьвером и выстрелил, целясь в затылок генерала. Стрельников вздрогнул, но остался сидеть как сидел, а его дама вскрикнула коротко и дико. Володе Хавкину, с его точки, показалось, что Косогорский либо промахнулся, либо его оружие дало осечку. В тот же окаменевший миг он уловил, как московский исполнитель рывком выхватил холщовый свёрток из сумки и, не сходя с места, швырнул бомбу. Володя услышал грохот и увидел чёрный султан дыма и как Косогорский отпрыгнул и побежал к Приморской, где его ждал Степанов, уже выехавший с задворок. Метателя преследовали доброхоты, он обернулся на бегу и крикнул отчаянно: «Я за народ, я за вас!» Это не помогло.
Облако дыма отнесло от лавочки ветерком, и Володя увидел на земле два тела: Стрельникова со свёрнутой на сторону головой и даму с оторванными по колено ногами. Дело было сделано, праздный народ сбивался толпой вокруг почерневшей лавочки. Володя подошёл близко и глядел. Девушка была жива, конвульсии пробегали по телу искалеченной. Хрящи раздробленных колен розовели, мясо выше колен было непристойно задрано с костей до середины бёдер… Мы сделали свою работу, и главное – результат. Вот он валяется, результат со свёрнутой шеей. Мы исправили мир, мир стал лучше на одного человека. А девушка? Ну, девушка не в счёт, девушка в синей шляпке – мусор истории.
Всё было позади, и исправление мира индивидуальным террором – тоже. Индивидуальным и непременно показательным. Вот мы и показали… Отойдя в сторонку, за спину прибывающей толпы, Володя Хавкин спрятал ставшую ненужной бомбу в мусорную урну и пошёл прочь от Лондонской гостиницы. Чувство вины перед влюблённой Асей вдруг на него налетело неведомо откуда; ему захотелось тотчас же рассказать ей о событиях сегодняшнего дня – и избавиться от них навсегда.
Он видел, как Степанов выехал на своей пролётке на улицу и, открыв стрельбу по разгорячённым преследователям Косогорского, погнал ему навстречу. Через минуту или две они оба были остановлены, сбиты на землю уличными любителями погонь и расправ и скручены подоспевшими жандармами.
Вера Фигнер оказалась права: волна арестов накатила сразу после покушения, в тот же день. Брали многих, хватали подряд, как рыбёшку бреднем. Студенты, эти читатели поганой литературы, очутились в первом ряду подозреваемых, и не без причины: Университет был рассадником вольномыслия, оборачивавшегося созданием тайных бунтарских сообществ и кровопролитием. Молодые люди с порчей, принимая пустопорожние мечты за руководство к действию, уходили в подполье и грозили оттуда державной власти. Идя на преступления, бунтари во весь рот распевали непотребные песни. Это было безнравственно, это было заразительно. Это требовало повсеместного преследования и сурового искоренения… Никем не виданная свобода заменяла подпольщикам, у которых молоко ещё не обсохло на губах, вековой порядок, обеспечивающий равновесие земли. И самое неприятное заключалось в том, что, как доносят осведомители, некоторые университетские профессора охотно разделяют заблуждения своих подопечных. Воспитатели молодёжи! Поганой метлой гнать надо таких воспитателей из империи долой!
После убийства Стрельникова и первых арестов Университет гудел, как колокол. Собираясь кучками, студенты вполголоса обсуждали слухи и новости, одна другой горячей. Сочиняли черновик открытого письма в защиту арестованных, предлагали адресатов: министр внутренних дел, шеф жандармов. Царя не называли – никто не верил, что обращение к самодержцу хоть чем-нибудь поможет сидельцам. Подписывать письмо вызывались все подряд, и многие из них и вправду подписали бы.
Местом встреч и дискуссий был в Университете большой зал зоологического музея, главный экспонат которого – скелет кита – занимал почти всё помещение. То было ажурное сооружение, составленное из гигантских рёбер, позвоночника и огромной башки, нависшей высоко над полом. Случайно зашедшему сюда человеку не верилось, что это чудовище, обложенное синим мясом, обитает по соседству с нами в морях и океанах. Белый скелет исполина был приподнят вдоль хребта стальными столбиками и на них держался; посетители музея беспрепятственно, не наклоняя головы, расхаживали по межреберью, как по коридору. Кит, таким образом, являлся признанной достопримечательностью Университета. «Где встречаемся? – договариваясь, спрашивали студенты. – У Кита!»
Володя Хавкин был здесь своим человеком: во всём Университете не было студента, увлечённого зоологией более, чем он. Это его увлечение было замечено ординарным профессором зоологии Ильёй Мечниковым, и юный Хавкин сделался его приближённым учеником. Близость к великому учёному, снискавшему мировую славу, не способствовала укреплению Володиного положения в Alma Mater: независимого в своих политических суждениях Мечникова в охранном отделении, внимательно приглядывавшим за Университетом, считали опасным смутьяном, а преданные несдержанному профессору ученики проходили в надзорных органах по разряду «неблагонадёжные». Заботы охранки нетрудно было понять…
Назавтра после убийства генерала, Володя Хавкин встретился с Асей здесь, у Кита.
– Бирюкова взяли, – хмуро сообщил Володя, когда они уселись на скамье, в углу зала.
Чучела окружали их, как звери в лесу: волки, шакалы, барсуки и медведица с медвежонком.
– Тебя тоже могут арестовать? – для поддержки и ласки Ася взяла тяжёлую руку Володи в свои почти игрушечные ладошки. – Но за что?
Не отбирая руки, Володя Хавкин пожал плечами. «За что»! От Асиных ладоней шло целебное тепло, оно вливалось в продрогшее Володино тело и грело его душу. Несправедливый мир, чужой и опасный, вдруг без следа исчез в подступившей темноте дикого леса… Какая маленькая Ася, а какая своя.
– За всё, – сказал Володя. – За Мечникова. За коллективное письмо – меня за него выгоняли, помнишь?.. Ну и сегодняшнее. Выше головы.
– Сегодняшнее? – переспросила Ася. – Ты…
– Не я, – сказал Володя. – А мог быть и я. Не в том дело… Ничего не изменилось, ни на каплю – дело в этом! Изувечили девушку, чуть постарше тебя, на всю жизнь – если выживет. Это кому-нибудь в мире поможет?
Ася молчала, уставившись в пол под ногами.
– Ей оторвало ноги, – продолжал Володя, – вот посюда. – Свободной рукой он, как топором, легонько стукнул себя по коленям. – Я видел: мышцы засучены к паху, как рукав.
– Тебе надо бежать, – сказала Ася. – Укрыться где-нибудь… Хочешь, я с тобой?
– Дым отнесло ветром, – словно не слыша, продолжал Володя, – и снова стало всё видно, даже ещё лучше, чем раньше. Я смотрел во все глаза: ничего не изменилось. И не изменится. Даже если убить двадцать человек, двести – к лучшему не завернёт! Это тупик.
– Может, надо что-то другое делать? – спросила Ася. – По-другому? Ты ведь знаешь…
Володя промолчал.
Его арестовали через три дня по делу о покушении на Стрельникова и выпустили через две недели за недостатком улик. Гласное наблюдение, установленное за ним, подтверждало его неблагонадёжность и грозило, при неблагоприятном стечении обстоятельств, ссылкой в Сибирь.
Из Университета, по представлению Охранного отделения, Володя снова был отчислен, но возможность сдавать экзамены экстерном осталась за ним; он ею и воспользовался, просиживая долгие часы за учебниками и списками лекций. Его трудоспособность и объём знаний вызывали уважительное удивление экзаменаторов, среди которых уже не было Мечникова: доведённый до нервного срыва политическими преследованиями и «закручиванием гаек», он ушёл в отставку. Его охотно звали во многие европейские университеты; он имел намерение присоединиться к Луи Пастеру в его институте в Париже. Судьба Хавкина, на которого он, определённо, возлагал надежды, не оставляла его безразличным. Гласное наблюдение делало его ученика невыездным – он не мог в присутствиях оформить необходимые документы и подобру-поздорову покинуть пределы любезного отечества. Однако, бок о бок с официальными, существовали и иные способы пересечения границы, и вольнолюбивые одесситы имели о них довольно-таки предметное представление.
Публичное убийство Стрельникова, вызвавшее гнев царя и резонанс по всей России, не привело к уничтожению одесской поросли «Народной воли», хотя изрядно её и пощипало: около половины активистов оказались за решёткой, и две дюжины сочувствующих были взяты под надзор. Казнили смертью двоих: Косогорского и Степанова. Вера Николаевна Фигнер выскользнула из цепких пальцев охранки.
А оставшиеся на свободе одесские народовольцы затаились, но даже и не думали о самоликвидации или затяжном простое. Явочные квартиры поменяли адреса, связь с московским Центром организации продолжала худо-бедно функционировать. Сочувствующие, прежде всего из числа студентов, прибывали. Виды на будущее, омрачённые было репрессиями, понемногу очищались от полицейской скверны и наливались вишнёвым соком надежды. Одесские борцы за народ готовы были к новым подвигам во имя всеобщей справедливости.
Володя после убийства Стрельникова лишь однажды явился на собрание подпольного кружка – чтобы, без объяснения причин, заявить о своём выходе из организации. Его не осуждали, объясняя такое поспешное решение нервным расстройством или вдруг проявившимся слабоволием. Всяко случается с людьми, даже такими по-бычьи двужильными, как Хавкин! А рассказывать своим вчерашним боевым товарищам о переломе, в нём хрустнувшем при виде искалеченной молодой спутницы убитого генерала, ему представлялось затеей никчёмной – эта спорная тема касалась его отношений не с боевиками, а с Богом, в которого он не верил, но присутствие которого не брался опровергать.
Переход из подполья на солнечную сторону отдалил Володю от уцелевших народовольцев, зато сблизил с Асей. Похожая на камею девушка перестала появляться на собраниях молодых террористов; следуя за Володей, она с облегчением забыла туда дорогу. Ася по-прежнему желала добра всему миру, желала совершенного успеха борцам за справедливость – но следить за этой борьбой хотела со стороны, выглядывая из-за сильной спины Володи Хавкина. Того же, собственно говоря, она желала всей душой, скучая на собраниях подпольщиков. Вера Фигнер, с её командирской повадкой, представлялась ей исчадием ада; Ася Рубинер была прямейшей противоположностью бесповоротной бандитки.
Тем временем угроза ареста поднадзорного Хавкина не только не рассеивалась, но и сгущалась. Володю дважды задерживали «по ошибке», трижды вызывали на допрос. Охранка не собиралась выпускать его из своего поля зрения: угодив туда однажды, человек оставался там навсегда. «Бывших неблагонадёжных не бывает» – эта аксиома действенна во все времена, во всяком случае, пока режим не рухнет в свой час и не развалится на части; после этого поднадзорные, как правило, становятся надзирающими.
Хавкина травили, и эта откровенная травля изматывала его нервы. Скрыться от неё и спрятаться где-нибудь в глухомани, как предлагала Ася, было невыполнимо: нашли бы и посадили за то, что оставил место постоянного проживания, не предупредив жандармское управление. Можно было, получив разрешение, перебраться в затхлую провинцию, в Бердянск, к тишайшим папе и маме, но там опальному студенту подработать репетиторством было куда сложней, чем в толерантной Одессе, а садиться на родительскую шею Володя не планировал. Оставался открытым, а вернее, полуоткрытым один ход – за рубеж, в край свободы, уже завоёванной и утвердившейся без помощи одесских народовольцев. Эту тему, из здравых опасений, Володя ни с кем не обсуждал, даже, до поры до времени, с Асей – не потому, что не доверял её скрытности, а по той причине, что, в случае побега за рубеж с морскими контрабандистами, девушка, помахав ему на прощанье мокрым от слёз платком, осталась бы куковать на берегу в полном одиночестве.
Такую жизненную перспективу Володя перед Асей не рисовал, хотя видел её отчётливо: тёмный ночной берег, матрос в фелюке подымает парус, Володя сидит в лодке на своей котомке. Поражённая разлукой в самое сердце, Ася заливается слезами… Была и другая возможность: добраться до Бессарабии, это не так далеко, и там перейти румынскую границу. Шансы на успех равны – пятьдесят на пятьдесят, – но сухопутный вариант опасней: на степной дороге можно, как кур в ощип, угодить в лапы полиции. Из этих двух вариантов Володя предпочитал первый: парусная фелюка надёжней бессарабской телеги, и уже к утру станет ясно, удалась ли морская попытка, и, если да, – концы в воду. Свобода! И, может быть, равенство и братство! Жандармская родина с её удушающим надзором останется далеко за кормой – может быть, ненадолго, не навсегда. И маленькая Ася на берегу не навсегда же там задержится – можно будет, обретя устойчивую почву под ногами, выписать её к себе в Париж и устроить жизнь по-человечески… Размышляя о бегстве на Запад, он в своих довольно-таки размытых планах оставлял место Асе; Володя был уверен в её безоблачных чувствах к себе, и это немного утешало его угрюмую поднадзорную жизнь. Их отношения складывались легко и доверчиво до определённого предела, до той границы, которую он, в отличие от румынской, не намеревался пересечь. Он привык к Асе, испытывал к ней заботливую жалость и, в ожидании будущего, берёг её для себя. Она мечтала, он знал, выйти за него замуж, но мечта эта была столь же эфемерна, как полёт на Луну: папа-провизор выпил бы яду собственного приготовления, лишь бы не допустить замужества дочки с сидевшим уже два раза за решёткой подпольным бунтарём и шаромыжником. Увлечение Аси лежало чёрным пятном на почтенной семье, и вполне светский Рубинер при каждом удобном случае молил Невидимого о том, чтобы проклятый мазурик как можно скорее провалился в тартарары и навсегда исчез из вида. Регулярно, почти каждый день, особенно ближе к вечеру, провизор живо себе представлял, что вытворяет уголовник с его девочкой, похожей на камею, и от этих воображаемых картин можно было, по свежим следам, наложить на себя руки… Он беспокоился понапрасну: Володя охранял Асину девственность, как Цербер на цепи. Эта роль была ему не в радость, но он считал, что правильно поступает: Париж Парижем, но попадёт ли туда Ася и поженятся ли они на свободе – это ещё был большой вопрос. И, если нет, папа подыщет дочке подходящего по всем статьям жениха, которому Хася Рубинер должна достаться цельной и непочатой.
В конце концов, Володя окончательно утвердился в решении бежать за рубеж. Сложности, связанные с этим решением, его не смущали: не он первый, не он последний. По слухам, витавшим вокруг Университета, ещё несколько студентов, заподозренных в связях с революционным подпольем, собирались бежать из России куда глаза глядят, скорей всего поначалу в Румынию. Володя допускал, что слухи эти – истинная правда, но вычислять потенциальных коллег и устанавливать с ними связи не спешил; он будет действовать один, на свой страх и риск, как волк в степи. Будет рассчитывать на самого себя – так надёжней и меньше риска, что кто-нибудь из товарищей развяжет язык и завалит всё дело. Пока что рано было начинать разведку в порту, толочься там в сомнительных пивных и кухмистерских и заводить знакомства с опасными людьми. Прежде всего, нужно было покончить с учёбой – сдать экстерном выпускные экзамены и получить университетский диплом, довольно высоко котировавшийся в европейских странах. На Западе ученик Мечникова не кирпичи собирался таскать и не на рынке торговать, а вернуться в лабораторию, уйти с головой в свою науку – зоологию простейших видов, этих неприметных невооружённым глазом зверков, разносивших смертоносные эпидемии и пандемии по всему белу свету. После разрыва с боевым подпольем Володя Хавкин утвердился во мнении, что бороться с «чёрной смертью» куда важней для людей, чем бегать с бомбой за генерал-майором Стрельниковым или даже за самим царём-императором. Ради победы над чумой и холерой стоило рисковать собственной жизнью, а ради убийства генерала и его случайной спутницы – нет, не стоило. Этими своими крамольными соображениями бывший боевик делился с Асей, и она с восторгом их воспринимала – как, впрочем, всё без исключения, что слышала от Володи Хавкина. Да, борьба с чумой! Да, с холерой! Благодарное человечество никогда не забудет! Но тут, главное, самому не прихватить заразу…
Чем ближе дипломные экзамены и день ночного рывка, тем зримей представлял себе Володя Хавкин тайный переход государственной границы, со всеми её заставами, постами и исполненными караульного рвения солдатами. Все эти радости поджидали сухопутного перебежчика, а морская дорога, к немалому облегчению Володи, грозила, в худшем случае, лишь потоплением лодки. Но шаткая морская стихия всё же не была такой скучной и муторной, как чёрствые холмы валашской степи.
Границы, как отточенным ножом, надреза́ли живую шкурку земли и своими гнусными заборами и рвами делили мир на куски. Володя Хавкин в таком делении не видел, как говорится, «ничего хорошего, окромя плохого». Размежеванье вело к междоусобице, озлоблению и войнам. Границы мешали людям понимать друг друга и препятствовали развитию науки. Царская власть держала границу на замке, а граждан – под замком; ветер западной свободы подтачивал основы абсолютной монархии и мешал управлять империей. Нечего обывателям ехать за границу и набираться там чужой заразы – хватает и своей родимой. Дома надо сидеть, судари и сударушки, так куда полезней для нравственного здоровья! «Держать и не пущать!» – это охранители государства не вчера придумали и не позавчера… Противостоять из подполья, с оружием в руках, отечественному произволу Володя Хавкин передумал, и теперь всю силу и волю своего характера направил в сторону западной границы. Там, за начерченной штыком чертой, расположена свобода, как соседняя квартира в большом доме. Дом большой, квартир много. Там не только свобода, у соседей – там другой мир, и люди в том мире живут по другим законам. Другая жизнь, другое измерение. Как будто не пограничный забор уродует общую землю, а непреодолимая вселенная пролегла между странами. Нет, преодолимая! Хавкин преодолеет её или пойдёт на дно моря, как мешок, набитый камнями мышц.
Человек ко всему привыкает, даже к старости, со всеми её неудобствами и ограничениями. Только к терпеливому ожиданию привыкнуть не в нашей воле, долготерпение нам не присуще; мы всё на свете хотим получить до срока – здесь и сейчас, и готовы пасть порвать за эту химеру… Но и ожидание, когда-то начавшееся, когда-нибудь и заканчивается, ему приходит конец – иногда со смертью ждущего, а, бывает, что и раньше.
И пришла, в свой черёд, ночь бегства Володи Хавкина.
Незадолго до этого в одном из самых разгульных и грязных портовых кабаков Хавкиным был обнаружен турок, промышлявший исключительно контрабандой. Этот турок и отдалённо не напоминал просоленного муссонами и пассатами морского волка, он был похож на рядового ловца удачи с большой дороги, с кистенём в рукаве. Сходство, однако, не определяло профессиональной пригодности турка, и его объяснения показались Володе вполне убедительными. Заподозрить контрабандиста в принадлежности к охранному отделению Хавкину и в голову не пришло; это было главное. Не без спора столковавшись о цене и назначив день и место отплытия, они разошлись, довольные друг другом.
Как большинство начинаний, и это упёрлось лбом в деньги. Платить Володе предстояло за всё: за фелюку, за турка, за пищевой припас в дорогу, с доплатой за риск и возможную встречу с пограничной охраной, которой надо будет обязательно дать бакшиш; тёртый турок брался уладить и это препятствие. Бесплатно, значит, прилагался только попутный ветер в косой парус лодки… Ясно, что у Володи, перебивавшегося репетиторством, не наскреблось бы гроша за душой. И вот ведь, действительно, никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь: Асин папапровизор готов был аптеку продать, лишь бы раз и навсегда избавиться от Хавкина. Да ему и не пришлось ничего продавать: узнав от дочки, что её ждёт ужасная разлука на берегу, и для устройства Володиного счастливого будущего нужны наличные, папа, не колеблясь, собрал деньги и с лёгким сердцем передал Асе-Хасе. Володя вклад провизора принял не как отступные, а как долг, подлежащий непременному возврату. Главная часть плана была решена.
Последний день перед ночным побегом принадлежал Асе; так она хотела, так и вышло.
Турок, по договору, обязался с темнотой подогнать свою фелюку к заброшенному, полуразвалившемуся лодочному причалу, верстах в пятнадцати от города, на Большом Фонтане, сразу за мысом. Для упрощения задачи турок, подойдя с моря, должен был помигать керосиновым фонарём, подавая сигнал клиенту на берегу. И, в ответ на это, Хавкин без лишних слов, молчком спрыгнул бы с причала в лодку. Эти предосторожности, предложенные турком, были не излишни: по вечернему берегу шатались для отдыха всякие случайные люди, они отыскивали укромные местечки, где можно было приятно провести время, и, не ровен час, привлечь внимание этих непрошенных свидетелей было бы совершенно ни к чему.
Утром того дня Ася пришла в каморку Володи на Базарной возле Сиротского дома. Володя снимал там жильё у старика-бобыля, торговца битыми курами. Куриный старик уходил по торговым делам ни свет ни заря, и жилец в своей полуподвальной комнатёнке пользовался полной свободой проживания – хозяин возвращался домой близко к вечеру, грел и ел зразы, выпивал стакан чесночной водки и заваливался спать.
– Сегодня последний день, – сказала Ася, войдя. – Наш последний день, чтоб быть вместе. Ты и я.
Володя, сидя за колченогим столом, понуро промолчал. Половина его существа находилась уже далеко отсюда, от этой полутёмной, провонявшей несвежей едой и лежалым тряпьём коморки, – в свободной Европе, а вторая половина ещё обреталась здесь, доживала последние часы в одесском полуподвале на Базарной, и дивная девушка, с которой ему едва ли удастся склеить свою судьбу, пришла к нему сюда, чтобы стать частью его жизни, пусть и остающейся в прошлом. Он никому здесь не нужен, кроме этой девушки, да ещё жандармов, охотящихся на него, как гончие на зайца.
Он весь, целиком растерял бы напрочь липкую связь с этой обрыдлой конурой, городом и всей неуклюжей громоздкой империей, если бы не эта девушка, Ася, в белом платье, стоящая, как жена Лота, посреди комнаты, с плетёной корзинкой, полной винных ягод, в руке. На свою жизнь на берегу империи он глядел уже как бы из уходящей в море турецкой фелюки, вознесённой на высокий гребень волны. И вот вдруг выяснилось, что его удерживает здесь Ася своими кукольными ладошками.
– Наш день, и больше ничей… – повторила Ася, и тогда Володя поднялся и шагнул к ней.
И солнца не стало видно в коморке, и ночь, пахнувшая смоквой, наступила посреди дня. А день стал для них безграничной частицей вечности, которую каждый сущий уважительно воспринимает на свой лад.
Вечернее солнце над Одессой не красней дневного, а грустней: вот-вот оно уйдёт на запад, и померкнет свет и рассеется, а припозднившиеся ходоки, озираясь с опаской, поспешат проскочить безлюдные места на пустырях и в парках и выйти на улицы, освещённые газовыми фонарями. Редко кто из добрых людей любит ночь и на ты с темнотой; ночь внушает страх, это, верно, сохранилось с давних времён, когда в темноте дикие звери и лютые враги могли подкрасться и растерзать. С той былинной поры дикие звери перевелись, а лихие люди остались.
Сумерки застали Володю с Асей на пути к Большому Фонтану. Спешить им было некуда, до появления турка оставалось ещё немало времени. Доехав до ближней к мысу станции, дальше они пошли пешком. Проложенной дороги тут не было, и тропы не было; они шагали по чутким степным травам, никто их не видел и не провожал взглядом, и это было лучшим подарком для них.
– Теперь мы навсегда вместе, что бы ни случилось, – сказала Ася, и захотела услышать подтверждение. – Правда? – Какие только дикие вопросы ни посылает сердце девушки, лишившейся невинности.
– Ну да, – сказал Володя. – Конечно… – Но парусная фелюка была главней, чем правда.
Турок ещё не подогнал свою лодку к заброшенному причалу, и они сели у воды, вглядываясь в тёмное море. Ожидание тоже бывает разное, особенно, если речь идёт о про́водах: Ася готова была сидеть здесь, бок о бок с Володей, хоть до скончания века, она была бы счастлива, если б турок затонул по дороге к причалу, а отчаливающий Володя ждал светового сигнала с большим нетерпением: пора было кончать. Но и оставлять здесь маленькую Асю было горько и жалко, и душу Володи Хавкина, устремлённую к свободе, больно рассекал рубец; так устроена наша душа.
Тишина лежала на земле, как праздничная скатерть. Тишины доставало и для счастья, и для беды, и слова́ были бы излишни в этом необъятном спокойствии мира… То ли из глубины оцепеневшего времени, то ли с моря, рядом, турок, заслоняя ладонью язычок пламени, подавал сигнал своим фонарём. Володя поймал одинокую вспышку света и легко поднялся на ноги.
– Погоди! – сказала Ася, протягивая ему снятую с шеи золотую цепочку с шестиконечной звёздочкой. – Носи её вместо обручального кольца, всегда. Пожалуйста! Ну, иди…
Володя подхватил котомку с земли и шагнул в темноту, к причалу, к лодке. Миг спустя белый парус, чуть различимый под звёздами, качнулся и пополз, пополз… И его не стало видно.
Проводив его, Ася повернулась и зашагала прочь от берега. Под ноги она не глядела, а и глядела б, увидела бы немного: взгляд её искажали слезы, которые она не утирала, а давала им вольно течь по щекам.
Далеко идти не пришлось – на взлобке, на фоне тёмного неба, мутно подсвеченная фонарём с козел, угадывалась одноконная пролётка. От неё, по склону, спускался навстречу Асе, спеша, человек малого роста.
– Мама беспокоится, – сказал этот человек, поравнявшись с Асей. – Вот я и решил тебя встретить. Поехали домой, дочка!
Поднявшись в пролётку, Ася села рядом с отцом и уткнулась мокрым лицом ему в плечо. Кучер отпустил вожжи. Поехали домой, к маме.
Такое иногда случается в добропорядочных еврейских семьях.