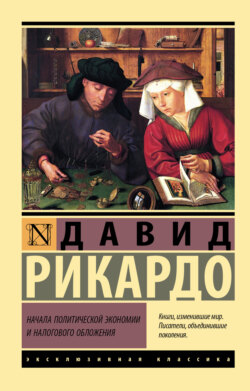Читать книгу Начала политической экономии и налогового обложения - Давид Рикардо - Страница 11
Начала политической экономии
Глава II. О поземельной ренте
ОглавлениеОстается, однако, еще рассмотреть, не причиняет ли обращение в собственность земель и следующее за ним возникновение ренты каких-либо изменений в относительной ценности товаров, независимо от количества труда, необходимого на их производство. Чтобы хорошо понять эту часть нашего предмета, нужно изучить природу ренты и законов, которые управляют ее повышением и понижением.
Рента есть та часть земледельческого продукта, которая уплачивается землевладельцу за пользование первоначальными и неистощимыми свойствами почвы. Но ренту смешивают часто с процентом и с прибылью на капитал, а в обыкновенной речи под рентою разумеют весь годичный платеж фермера землевладельцу.
Представим себе две смежные фермы, равные по пространству и обладающие одинаково плодородною от природы почвой, из которых одна, снабженная всеми земледельческими постройками, хорошо осушена и унавожена и как следует огорожена изгородями, заборами и стенами, другая же ничего подобного не имеет. Естественно, что одна из них будет арендоваться дороже, нежели другая, но в обоих случаях рентой стали бы называть вознаграждение, уплачиваемое за них землевладельцу. Очевидно, однако, что только часть ежегодной арендной платы за улучшенную ферму будет дана за первоначальные и неистощимые свойства почвы; другая же будет заплачена за пользование капиталом, который был употреблен на улучшение качества земли и на сооружение построек, необходимых для сохранения продукта. Адам Смит иногда придает слову «рента» строгое значение, которым я хочу ограничить его, но чаще он употребляет его в том смысле, который придают ему в обыкновенной речи. Так, он говорит, что постоянно возрастающий спрос на строевой лес в более южных странах Европы, повысив цены, был причиной того, что стали платить ренту за леса в Норвегии, которые до тех пор не приносили ее. Не ясно ли, однако же, что те, которые согласились платить так называемую здесь ренту, не имели другой цели, как приобрести имеющий ценность товар, находившийся на участке, для того чтобы через продажу его выручить затраченные деньги с большею выгодою. И в самом деле, если бы и после срубки и своза деревьев продолжали платить собственнику вознаграждение за право возделывать участок для разведения ли новых деревьев или других продуктов ввиду нового спроса, то, конечно, это вознаграждение можно было бы назвать рентой, так как оно уплачивалось бы за производительные силы земли; но в случае, приведенном у Адама Смита, это вознаграждение уплачивалось за право своза и продажи леса, а никак не за право разводить новые деревья. Он говорит также о ренте, получаемой с каменноугольных копей и каменоломен, к которым применяется то же самое наблюдение, а именно что вознаграждение, уплачиваемое за них, представляет ценность угля и камня, добытого из них, и не имеет никакого отношения к первоначальным и неистощимым свойствам почвы. Это различие очень важно для исследования о ренте и прибыли, потому что, как увидим впоследствии, причины, которые имеют влияние на повышение ренты, совершенно отличны от тех, которые определяют увеличение прибыли, и редко действуют в одном и том же направлении. Во всех передовых странах вознаграждение, уплачиваемое ежегодно поземельному владельцу и принадлежащее в одно и то же время как к категории ренты, так и к категории прибыли, остается иногда неизменным под влиянием противодействующих причин, а иногда увеличивается или уменьшается, смотря по тому, преобладают ли те или другие причины. Поэтому я прошу читателя обратить внимание на то, что, когда я буду говорить на следующих страницах о ренте, этим словом я буду обозначать только то вознаграждение, которое уплачивает фермер владельцу за пользование первоначальными и неразрушимыми свойствами почвы.
Когда люди в первый раз населяют страну, в которой находится много богатой и плодородной земли, небольшого количества которой достаточно для прокормления существующего народонаселения, или где обработка требует не большего капитала, чем тот, которым владеет население, то ренты не существует, ибо никто не стал бы платить за право пользоваться землею, когда есть столько земли, никому не принадлежащей и, следовательно, такой, которую может обрабатывать каждый, кто хочет.
По общему закону спроса и предложения ренты за такую землю никто не платит, точно так же как не платят ее за право пользования воздухом, водою и всеми теми благами, которых количество не ограниченно. Посредством некоторого количества материалов и с помощью давления воздуха и упругости пара машины совершают известную работу и значительно облегчают человеческий труд; но ведь никто не платит за пользование этими неразрушимыми естественными деятелями, потому что количество их неистощимо и всякий может ими пользоваться. Точно так же пивовар, винокур, красильщик постоянно употребляют воздух и воду на производство своих продуктов; но так как источник этих деятелей неистощим, то и они не имеют цены. Если бы земля обладала повсюду одинаковыми свойствами, если бы пространство ее было безгранично, а качество однородно, нельзя было бы ничего требовать за пользование ею, за исключением разве таких местностей, где она по своему положению пользуется некоторыми преимуществами. Ренту начинают платить единственно потому, что количество земли ограниченно, а качество разнообразно и что с увеличением населения становится неизбежна обработка участков худшего сорта или расположенных менее удобно.
Когда при возрастании населения принимаются за обработку земель второстепенного плодородия, немедленно возникает рента для земель первостепенного плодородия, и размер ее зависит от различия в качестве земли этих двух категорий.
Когда поступает в обработку земля третьего сорта, то немедленно является рента на землях второстепенного качества и определяется, как и в предыдущем случае, различием в производительных свойствах той и другой почвы. Рента земель первого сорта в то же время возвышается, так как она должна быть постоянно выше ренты с земель второго сорта вследствие различия в количестве продуктов, которое производят эти участки при данной затрате капитала и труда. При всяком увеличении населения, побуждающем приниматься за земли низшего плодородия для увеличения количества пищи, рента за все более плодородные земли возрастает.
Предположим, что участки № 1, 2, 3 при одинаковой затрате капитала и труда дают чистый продукт в 100, 90 и 80 квартеров хлеба. В стране новой, где существует, пропорционально населению, множество плодородных участков и где, следовательно, достаточно обработать участок № 1 для прокормления народонаселения, весь чистый доход поступит в распоряжение земледельца и составит прибыль на затраченный им капитал. Как только народонаселение возрастет до такой степени, что сделается необходимым приступить к обработке № 2, приносящего, за вычетом содержания рабочих, 90 квартеров хлеба, то для № 1 возникнет рента: это произойдет на основании той альтернативы, что или должно существовать два уровня прибыли на земледельческий капитал (что невозможно), или же из продукта № 1 должны быть вычтены 10 кварт или их эквивалент для какого-нибудь другого употребления. Землевладелец ли или другое лицо занимается обработкой № 1, эти 10 квартеров одинаково составят ренту, так как лицо, ведущее обработку № 2, получило бы со своего капитала одну и ту же выручку, как в том случае, когда оно берется за возделывание № 1, с уплатою 10 кварт хлеба в виде ренты, так и в том, когда оно продолжало бы обработку № 2, не платя ренты. Подобным же образом может быть показано, что когда поступает в обработку № 3, то рента № 2 должна равняться 10 квартерам, или ценности 10 квартеров, тогда как рента № 1 возрастет до 20 квартеров, ибо лицо, возделывающее № 3, получало бы одинаковую прибыль, все равно, приходится ли ему платить 20 кварт ренты с № 1, 10 кварт ренты с № 2 или же возделывать № 3, не платя ренты.
Случается часто, и даже бывает обыкновенно, что прежде, нежели поступают в обработку № 2, 3, 4, 5 или почва низшего качества, капитал может быть употребляем с большею производительностью на тех участках земли, вторые уже состоят в обработке. Может оказаться, что при удвоении первоначального капитала, затраченного на № 1, продукт можно если не удвоить, не увеличить до 100 квартеров, то все же довести до 85 кварт. и что это количество превосходит то, которое можно было бы получить через употребление того же капитала на почве № 3.
В этом случае капитал был бы затрачен преимущественно на старом участке и также доставлял бы ренту, так как рента всегда представляет разность между количествами продукта, полученными от употребления двух равных количеств капитала и труда. Если при помощи капитала в 1000 ф. фермер получает с земли 100 кварт пшеницы и если, затратив второй капитал в 1000 ф., он получает 85 кварт добавочной выручки, то землевладелец имел бы возможность по истечении срока аренды обязать его платить 15 кварт или соответственную им ценность в виде дополнительной ренты, так как не может существовать двух различных уровней прибыли. Если фермер соглашается на уменьшение выручки со своего второго капитала в 1000 ф. ст. на 15 кварт, то потому только, что не может найти более выгодной затраты для своего капитала. Таков был бы общий уровень прибыли, и если бы прежний фермер не принял этого условия, то явился бы вскоре другой, готовый уплатить землевладельцу весь излишек над уровнем прибыли, которую он мог бы извлечь из земли.
В этом случае, как и в предыдущем, последний употребленный в дело капитал не дает ренты. Фермер платит 15 кварт ренты за более производительную силу первых 1000 ф. ст., но за употребление вторых 1000 ф. он не платит ренты. Если бы он затратил на ту же землю еще 1000 ф. и получил бы 75 кв. больше, то стал бы платить на второй капитал в 1000 ф. ренту, равную разности между продуктом этих двух капиталов, т. е. 10 квартеров, и в то же время рента первых 1000 ф. возросла бы от 15 до 25 квартеров, между тем как последние 1000 ф. совсем не платили бы ренты.
Если бы, след., земель хорошего качества было гораздо больше, чем требуется возрастающим населением, или если бы можно было в течение неопределенного времени употреблять капитал без уменьшения выручки на старых землях, то рента вовсе не могла бы возрастать, потому что она постоянно возникает вследствие употребления большего количества труда с относительно меньшею выручкою.
Наиболее плодородные и всех лучше расположенные земли обрабатываются прежде других, и меновая ценность их продуктов, подобно ценности других товаров, определяется по количеству труда, необходимого в различных формах, как на их производство, так и на провоз к месту сбыта. Когда поступает в обработку земля низшего качества, меновая ценность сырого продукта возвышается, потому что требуется более труда на производство его.
Наименьшее количество труда, достаточное на производство товара, будь то произведение мануфактуры, земли или рудника, при обстоятельствах наиболее благоприятных, которыми пользуются те, в чьем распоряжении находятся особенно легкие способы производства, никогда не определяет меновой ценности. Она определяется, напротив, наибольшим количеством труда, какое вынуждены употреблять те, в чьем распоряжении не имеется подобных легких способов; те, кто для производства товара должен бороться с самыми неблагоприятными обстоятельствами; под наиболее неблагоприятными обстоятельствами мы подразумеваем самые неблагоприятные из тех, под влиянием которых добывается необходимое количество продукта.
Так, в благотворительных учреждениях, где заставляют бедных работать при помощи пожертвований, общая цена товаров, составляющих продукт такого труда, будет определяться не теми особыми преимуществами, какими пользуются эти рабочие, но обыкновенными и естественными затруднениями, которые должно преодолеть всякому другому промышленнику. Фабрикант, не пользующийся такими выгодами, был бы вытеснен с рынка, если бы эти рабочие, подавленные в особенно благоприятное положение, могли удовлетворить всем потребностям общества, так как если бы он продолжал свой промысел, то это произошло бы лишь при таких условиях, что он мог бы извлекать из него обычный или общий уровень прибыли на капитал; но для этого ему абсолютно необходимо продавать свои товары по цене, пропорциональной количеству труда, потраченному на их производство[7].
В самом деле, лучшие участки продолжали бы давать прежний продукт на прежний труд, но ценность этого продукта возрастала бы вследствие того, что с менее плодородных участков на новый труд и капитал получалось бы меньше продукта. Итак, несмотря на то, что преимущества плодородного участка перед другим менее плодородным не были бы никогда утрачены, но были бы только перенесены с лица, возделывающего почву, или с потребителя на землевладельца, тем не менее, как только явилась бы потребность в обработке земель низшего сорта более значительным трудом и как только добавочное снабжение сырья стало бы доставляться исключительно почвою этого сорта, то относительная ценность этого сырья начала бы непрерывно возвышаться над своим прежним уровнем и выражаться в большем количестве шляп, башмаков, платья и т. п., для производства которых не требовалось добавочного количества труда.
7
Не забывает ли г. Сэй в следующей цитате, что цены, в конце концов, определяются издержками производства:
«Продукты земледельческой промышленности, – говорит он, – имеют то особенное свойство, что они не дорожают, становясь более редкими, потому что население всегда уменьшается одновременно с уменьшением пищи, и, след., спрос уменьшается одновременно с предложением. Сверх того, не было замечено, чтобы хлеб был дороже в таких местностях, где много необработанной земли, нежели в странах, вполне обработанных. Англия и Франция возделывались гораздо хуже в средние века, чем в настоящее время; они производили гораздо меньше сырых продуктов, и, однако же, насколько о том можно судить по сравнению с ценностью некоторых других вещей, хлеб не продавался по более дорогой цене. Если производство было менее значительно, то меньше было и население: незначительный спрос соответствовал столь же незначительному предложению».
(L. III, ch. 8)
Г. Сэй, убежденный, что цена труда определяет цену съестных припасов, и справедливо полагая, что благотворительные учреждения стремятся увеличить население более того, насколько оно возрастало бы, если бы шло предоставлено само себе, и, след., стремятся понизить задельную плату, говорит:
«Я предполагаю, что дешевизна товаров, получаемых из Англии, происходит отчасти от множества благотворительных учреждений в этой стране».
(L. III, ch. 6)
Это мнение последовательно в устах человека, который утверждает, что задельная плата определяет цену. – Прим. авт.