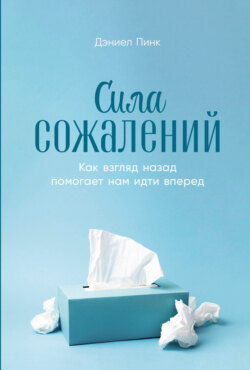Читать книгу Сила сожалений: Как взгляд назад помогает нам идти вперед - Дэниель Пинк, Daniel H. Pink - Страница 4
Часть I
Переосмыслить сожаления
2
Как благодаря сожалениям мы обретаем человечность
ОглавлениеТак что же это за штука – сожаления?
Парадокс состоит в том, что мы очень легко распознаем их, а вот дать им определение на удивление сложно. Сделать это пытались ученые, богословы, поэты и врачи. Сожаление – это «неприятное чувство, связанное с неким действием или бездействием человека, которое привело его к нежеланной для него ситуации», – говорят психотерапевты{11}. «Сожаление есть плод сравнения фактического результата с тем, которого можно было бы ожидать, если бы принимающее решение лицо сделало другой выбор», – говорят те, кто занимается теорией управления{12}. Это «ощущение дискомфорта, связанное с мыслями о прошлом, сопровождаемое идентификацией объекта и декларацией намерения в будущем поступать иначе», – говорят философы{13}.
Определения туманны, зато причина для этого очевидна: сожаление – это не столько предмет, сколько процесс.
Путешествия во времени и конструирование сюжетов
Этот процесс обусловлен двумя нашими дарованиями – двумя уникальными способностями нашего разума. Воображение позволяет нам путешествовать в прошлое и в будущее – и выстраивать сюжеты о том, чего в реальности никогда не существовало. Люди достигли огромных высот как в путешествиях во времени, так и в сочинении историй. Две эти способности сплетаются между собой, формируя двойную когнитивную спираль, которая и порождает сожаления.
Обратимся к одному из тысяч сожалений, зафиксированных Всемирным исследованием сожалений:
Мне жаль, что я не осуществила свою мечту получить образование в выбранной мной области, а поступила туда, куда хотел отец, – и потом бросила учебу. Моя нынешняя жизнь была бы совсем другой. Я была бы сейчас больше довольна своей жизнью, ощущала бы ее полноценность и намного сильнее чувствовала, что многого добилась.
В очень коротком высказывании эта 52-летняя женщина из Вирджинии умещает поразительный пример гибкости нашего мышления: будучи неудовлетворена своим настоящим, она мысленно возвращается в прошлое, на несколько десятилетий назад, когда была юной и думала о своем дальнейшем пути в образовании и профессиональном развитии. Оказавшись там, она вычеркивает те события, которые случились в реальности (подчинение отцовской воле), и подставляет на их место альтернативный выбор (поступление на курс, который нравится ей). Затем она вновь садится в свою машину времени и перемещается в настоящее. Но, поскольку она переформатировала прошлое, настоящее оказывается совершенно иным, нежели то, из которого она уезжала. В этом преобразованном мире она довольна своей жизнью, ощущает ее полноценность и успешность.
Это сочетание путешествий во времени и выстраивания сюжетов – уникальная человеческая суперспособность. Трудно вообразить, чтобы какой-то еще биологический вид был способен на столь сложную деятельность, – как невозможно представить себе медузу, сочиняющую сонет, или енота, ремонтирующего торшер.
Меж тем мы с легкостью используем эту суперсилу. Ведь она так глубоко укоренена в нашей природе, что единственные, кто лишен этой способности, – это дети, чей мозг еще не полностью развит, и те взрослые, у которых он поврежден болезнью или травмой.
Приведу пример. В одном из исследований в области психологии развития Роберт Гуттентаг и Дженнифер Феррелл описывают, как они читали группе детей рассказ примерно такого содержания:
Два мальчика, Боб и Дэвид, жили недалеко друг от друга и ежедневно ездили в школу на велосипедах по тропинке, шедшей вокруг пруда. Объехать пруд можно было справа или слева: оба пути были одинаковы по расстоянию и удобству дорожки. Боб ежедневно огибал пруд справа, а Дэвид – слева.
Однажды утром Боб, как обычно, ехал по правому берегу пруда. Но с дерева на дорожку внезапно упала ветка, наехав на которую Боб упал с велосипеда, поранился и опоздал в школу. На левом берегу все было в порядке.
Тем же утром Дэвид, который всегда ездил по левому берегу, решил вместо этого поехать по правому. Он тоже наехал на ветку, упал, поранился и опоздал в школу.
Исследователи спросили детей: «Кто, по-вашему, сильнее жалел, что в этот день поехал по правому берегу? Боб, ездящий там ежедневно, или Дэвид, который обычно едет по левому берегу, но в этот день решил повернуть направо? Или они испытывают схожие чувства?»
Семилетние дети, по утверждению Гуттентага и Феррелл, «демонстрировали в отношении сожалений уровень понимания, очень близкий к показателям взрослых». 76 % из них понимали, что Дэвид, скорее всего, будет чувствовать себя хуже, чем Боб. А вот пятилетние дети демонстрировали в этом отношении отсутствие понимания. Примерно три четверти из них предположили, что чувства мальчиков будут одинаковы{14}. Созревающему мозгу необходимо несколько лет для приобретения силы и гибкости, позволяющих выполнять мысленное упражнение, необходимое, чтобы ощутить сожаление: балансировать между прошлым и настоящим и между реальным и воображаемым{15}. Вот почему большинство детей младше шести лет не могут испытывать сожаление{16}. Но к восьми годам они приобретают способность даже предугадывать его{17}. А к подростковому возрасту мыслительные способности, необходимые для переживания сожалений, достигают уже своего полного развития{18}. Сожаление – маркер здорового, достаточно зрелого мозга.
Это настолько важно для нашего развития и правильного функционирования, что у взрослых отсутствие сожалений может свидетельствовать о наличии серьезных проблем. Это показано в значимом исследовании 2004 года, в ходе которого команда ученых, исследующих когнитивные процессы, организовала простую азартную игру, в которой участникам предлагалось раскрутить на выбор одно из двух колес, изображенных на мониторе и действующих по принципу рулетки. В зависимости от того, где останавливалась стрелка выбранного колеса, они выигрывали или проигрывали деньги. Когда участники крутили колесо и проигрывали, они испытывали дискомфорт. В этом нет ничего удивительного. Но если, раскрутив колесо и проиграв, они узнавали, что если бы они выбрали второе колесо, то выиграли бы, им становилось по-настоящему плохо. Они ощущали сожаление.
Тем не менее в одной группе при этом не наблюдалось никакого ухудшения самочувствия. Эти участники имели поражение орбитофронтальной коры головного мозга. «Казалось, они не чувствуют никаких сожалений, – пишут нейроученые Натали Камилл и ее коллеги в журнале Science. – Для таких пациентов это понятие недоступно»{19}. Другими словами, неспособность сожалеть о своих поступках, которую в определенном смысле можно назвать апофеозом философии «не-жаления», – это не преимущество, а симптом повреждения мозга.
Нейробиологи показали, что эта картина аналогична и для других заболеваний мозга. В нескольких исследованиях испытуемым предлагалось пройти следующий простой тест:
Мария почувствовала себя нехорошо после посещения ресторана, куда она часто ходит. Ана почувствовала себя нехорошо, поев в ресторане, где она прежде никогда не бывала. Кто из них сильнее пожалеет, что пошел в этот ресторан?
Большинство здоровых людей сразу понимают, что правильный ответ – Ана. Однако для пациентов, страдающих болезнью Хантингтона, наследственным нейродегенеративным заболеванием, это не очевидно. Они просто угадывают, давая правильный ответ не чаще, чем это получилось бы исходя из теории вероятности{20}. Примерно ту же картину можно обнаружить в случае пациентов, у которых диагностирована болезнь Паркинсона. Им также не удается найти ответ, который вы наверняка дали мгновенно и интуитивно{21}. Но особенно разрушительный эффект наблюдается у пациентов, больных шизофренией. Это заболевание разрушает описанные мной сложные мыслительные процессы, создавая дефицит связности, который отражается на способности к осознанию и переживанию сожалений{22}. Этот дефицит настолько выражен при целом ряде психиатрических и неврологических заболеваний, что в настоящее время врачи используют его как диагностический признак, позволяющий выявить более серьезные проблемы{23}. Короче говоря, люди, не испытывающие сожалений, – это не образцы психического здоровья. Зачастую эти люди тяжело больны.
Наша двойная способность путешествовать во времени и пересочинять события питает процесс сожалений. Однако его нельзя считать завершенным до тех пор, пока мы не сделаем еще два шага, отличающих сожаление от других отрицательных эмоций.
Во-первых, мы должны сравнить. Вернемся к 52-летней женщине из нашего опроса, которая хотела бы при выборе образования последовать собственным, а не отцовским интересам. Представим, что она страдает просто потому, что у нее много проблем в данный конкретный момент. Само по себе это еще не сожаление. Это печаль, тоска или отчаяние. Данное чувство становится сожалением лишь тогда, когда женщина проделывает определенную работу, садясь в машину времени, перечеркивая прошлое и противопоставляя свою мрачную реальность тому, что могло бы быть. В основе сожалений лежит именно сравнение.
Во-вторых, мы должны оценить вину. Сожаление говорит вам о вашей собственной, а не о чьей-то чужой вине. Одно серьезное исследование показало, что примерно 95 % испытываемых людьми сожалений связано с ситуациями, которые они могли контролировать, а не с внешними обстоятельствами{24}. Подумаем еще раз о нашей исполненной сожалений жительнице Вирджинии. Она сравнивает свою нынешнюю неприятную ситуацию с воображаемой альтернативой и остается недовольной. Этот шаг необходим, но его недостаточно. Полностью отдаст ее во власть сожалений осознание того, что причина неосуществленности альтернативного варианта развития событий – ее собственные решения и действия. Корень ее страданий – в ней самой. Именно это отличает сожаление – и совсем не в лучшую сторону – от других отрицательных эмоций, например разочарования. К примеру, я могу почувствовать разочарование, если баскетбольная команда моего города, «Вашингтон Уизардз», не выиграет чемпионат НБА. Но, поскольку я не тренер этой команды и не готовлю ее к соревнованиям, я не несу за это ответственности и потому не могу пожалеть об этом. Я просто расстроен и жду следующего сезона. Или обратимся к примеру Джанет Лэндман, бывшего профессора Мичиганского университета, много писавшей о сожалениях. В какой-то момент у ребенка выпадает третий зуб. Перед сном он кладет его под подушку, а утром, проснувшись, обнаруживает, что Зубная фея забыла поменять его на подарок. Ребенок разочарован. Но сожалеют о промахе родители{25}.
Итак, у нас есть две способности, отличающие людей от других животных, и два шага, отделяющие сожаление от других негативных эмоций. Именно из-за них это чувство так болезненно – и свойственно исключительно человеку. Несмотря на сложность приведенных рассуждений о сожалении, сам процесс его формирования происходит вполне неосознанно и без каких-либо усилий. Он часть нашей природы. По меткому выражению двух голландских ученых, Марселя Зеленберга и Рика Питерса, «весь механизм когнитивных процессов программирует человека на сожаления»{26}.
«Важная составляющая человеческого опыта»
Прямое следствие этой запрограммированности – то, что сожаления поразительно частотны, вопреки всем попыткам от них избавиться. В рамках Американского исследования сожалений мы задали людям из нашей выборки в 4489 человек вопрос об их поведении, в котором намеренно не стали использовать слово «сожаление»: «Насколько часто вы оглядываетесь в прошлое и мечтаете что-то в нем изменить?» Ответы, представленные на графике, очень красноречивы.
Лишь 1 % наших респондентов ответил, что никогда не ведет себя подобным образом, и менее 17 % делают это редко. В то же время 43 % респондентов признают, что поступают таким образом часто или постоянно. И в общей сложности 82 % говорят о том, что этот процесс занимает по меньшей мере часть их жизни, что позволяет утверждать, что американцы испытывают сожаления намного чаще, чем пользуются зубной нитью{27}.
Этот тезис подкрепляется всеми изысканиями ученых за последние 40 лет. В 1984 году социолог Сьюзан Шиманофф собрала записи повседневных разговоров выборки студентов и супружеских пар. Проанализировав эти записи и их расшифровки, она выделила в них слова, выражавшие или описывавшие эмоции. Затем она составила список положительных и отрицательных эмоций, которые упоминались наиболее часто. В первую двадцатку вошли такие чувства, как счастье, волнение, гнев, удивление и ревность. Но самой частой отрицательной эмоцией – и второй по частоте во всем списке – оказалось сожаление. Единственным чувством, упоминавшимся чаще, чем сожаление, оказалась любовь{28}.
В 2008 году социальные психологи Коллин Сэффри, Эми Саммервилл и Нил Рёзе исследовали распространенность негативных эмоций в человеческой жизни. Они предложили участникам эксперимента список из девяти подобных эмоций: гнев, тревога, скука, разочарование, страх, вина, ревность, сожаление и печаль. И затем спросили участников о том, какую роль эти чувства играют в их жизни. По словам респондентов, самой частой испытываемой ими эмоцией было сожаление. И той эмоцией, которую они оценили выше всего, вновь оказалось сожаление{29}.
В дальнейшем аналогичные результаты показали исследования по всему миру. Так, в 2016 году, когда в рамках изучения процессов принятия решений и поведения были опрошены более 100 шведов, выяснилось, что в конечном итоге респонденты сожалеют о 30 % решений, принятых ими на прошлой неделе{30}. Объектом еще одного исследования стали опыт и его оценка нескольких сотен американцев. Этот опрос, о котором я подробнее расскажу в главе 5, показал, что сожаления вездесущи и затрагивают все сферы жизни, позволив проводившим его ученым утверждать, что «сожаления представляют собой важную составляющую человеческого опыта»{31}