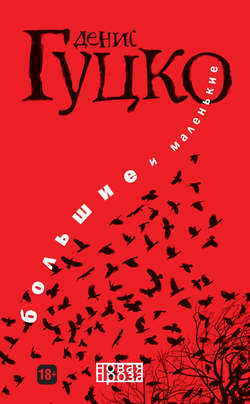Читать книгу Большие и маленькие - Денис Гуцко - Страница 4
Здравствуй, куколка
ОглавлениеС выпускного в садике появилось две фотографии: на одной фотограф превратил её в фею с крыльями, другая общая. Фею мама сунула в сервант под стекло, общую убрала к документам. Сказала:
– Всё. Гуляй пока.
Настя обрадовалась: поначалу мама грозилась и после выпускного её в садик водить.
Больше всего в садике Настя не любила манку, а после манки – изо. На пении можно было отмолчаться, потому что пели хором – открывай себе рот, делай вид, что поёшь. Другие дети, правда, жаловались на неё Анне Семёновне: «А Настя снова не поёт». Но Анна Семёновна хорошая – только посмотрит строго, головой покачает и даже не ругается. На изо так просто не отвертишься: Елена Борисовна на каждом занятии добивалась, чтобы всё было нарисовано правильно. У Насти не получалось. Домики или, например, цветы ещё ладно (Елена Борисовна так и говорила: «Ну, ладно. Будем считать это цветком»), а когда стали рисовать зайцев и лисиц, Настя совсем замучилась. Елена Борисовна расчертит поверх картинки квадраты, даст Насте такой же расчерченный лист, но пустой, и заставляет из каждого квадрата линии в свои квадраты перерисовывать. У Насти ни разу не получилось так, чтобы Елена Борисовна сказала: «Ну, ладно». «Ты видишь вообще, куда ты карандашом ведёшь?» Порвёт и новый лист с квадратами выложит: начинай заново.
О том, что Насте скоро в школу, напомнил скандал между мамой и Ритой. Рита выпрашивала денег, мама в ответ:
– Какие деньги?! Мелкой в школу!
– В долг ведь прошу, – взвилась Ритка. – Отдам.
– Знаю, как ты отдашь. На вас не напасёшься!
– Как будут, так и отдам.
– Так и я про то! Как будут! А мелкой – вот, в сентябре.
Они поругались, и Рита ушла в маленькую комнату. Когда проходила мимо, поморщилась на Настю, как она умеет. Мама ворчала:
– Только и тянут, тянут из матери. А ты, давай, мать, паши… Эта теперь ещё будет… блин… школьница! Мне разорваться?! А?!
Уже и Рита ушла из дома, хлопнула дверью. И Алла стала маму одёргивать, чтобы та успокоилась. Но мама сердилась всё сильней и сильней. В конце концов наорала на Настю за то, что та ходит дома в уличной одежде.
Настя догадалась, что будущая школа – дело нешуточное. Похуже садика.
Просыпалась в пустой квартире, пропахшей завтраком – на завтрак мама жарила себе и сёстрам яичницу или гренки – и думала про школу. Вспоминала то, что слышала от других, видела по телевизору. Выходило тоскливо: орава детей, и все занятия – как изо, не отвертишься.
Сёстры вспоминали о школе редко. Мама никогда не вспоминала. Папа, пока мама не прогнала его жить на дачу – наоборот, часто вспоминал. Когда приходил не очень пьяный. Таким его Настя особенно любила. Получив от мамы нагоняй (бывало, что и подзатыльников), папа устраивался на балконе или в тамбуре, чтобы никому не мешать, не попадаться под руку. Настя приходила к нему, он усаживал её на колено и что-нибудь рассказывал. Когда про них забывали надолго, успевал добраться до детства. Рассказывал, как бегали на речку – плавать в накачанных шинах. Как пуляли по школьным окнам из рогаток. Как нашли на школьном чердаке кучу старых скрипок. Его рассказы были о каких-нибудь проделках, слушать их было весело. Но теперь Настя запуталась: папины рассказы она бы слушала хоть каждый день – но в школу, где кругом будут чьи-то проделки и могут стрельнуть в окно из рогатки, совсем не хотелось.
Сборы начались в августе.
Субботним душным вечером, обмахиваясь и обтираясь платком, мама вытащила с антресоли баулы старой одежды, которую раньше носили Рита и Алла, и, высыпав тряпки в прихожей, позвала Настю.
– Стой смирно.
Принялась прикладывать к Насте то одну, то другую одёжку.
– Вот ведь в отца уродилась, костлявая, – приговаривала мама. – Ни рожи, ни кожи… кому ты нужна такая будешь, доходяга… Ну?! И в чём тебя в школу вести, спрашивается? Всё мешком висит. Скажут, не кормит.
Отобрали всё-таки несколько вещей, Настя стала их примерять.
Алла с Ритой, устроившись в проёме двери, наблюдали. С непривычки Настя смутилась, покраснела. Сёстры никогда так долго на неё не смотрели.
Разношенные туфли сваливались с Настиной ноги.
– Вот ведь натура цыплячья, – вздохнула мама. – Что смотришь? Смотрит… Придётся туфли покупать! Трачу на тебя, трачу…
Зато туфли, которые они купили в большом магазине, были чудесные. Блестящие, на плоском каблуке. С серебристыми пряжками. В автобусе по дороге домой Настя приоткрыла коробку и любовалась туфлями. Пряжки сверкали. Настя подумала, что школа может оказаться не таким уж страшным местом. Будет ходить там красивая, читать учебники.
– Смотри, чтобы аккуратно носила, – сказала мама. – Ещё осеннюю покупать, потом зима… Папашу-то своего видела? А? Видела, говорю, папашу? Вчера в сквере валялся. Не дошёл.
Настя огорчилась: проглядела папу. Соскучилась. Правда, когда папа слишком пьяный, его не растормошить.
– Смотри, не будешь учиться, станешь, как твой отец, никчёмная.
В школе Насте то и дело начинало казаться, что она угодила в сильный ветер. В ушах стоял шум. Хотелось спрятаться, но спрятаться было негде. Да и нельзя. Приходилось терпеть до самого последнего урока. Одно радовало: мальчишки, которые пихали и донимали других девочек, Настю не трогали. Ещё в садике она научилась быть незаметной, молчать и выбирать укромные места.
На уроках, когда говорила Виктория Леонидовна, Настя какое-то время её понимала. Но рано или поздно учительские слова рассыпались, расплывались и тоже превращались в шум, но размеренный, даже какой-то убаюкивающий. На уроках Настя принималась фантазировать. О том, как гуляет в парке, например. В большом парке, куда её однажды водил папа. Одна. И деревья качаются на ветру. В деревьях прячутся птицы. Не хотят летать в плохую погоду. Сидят и смотрят на Настю. А она на них. Разглядывает, какие у них перья, клювы, какие лапки. Красивые птицы.
Бывало, из шума вываливались отдельные слова: ударные-безударные, сумма и слагаемые. Однажды Настя услышала слово «член» и вздрогнула. Но к её удивлению вслед за учительницей слово стали повторять и дети. Настя втягивала голову и краснела. Из разговоров старших сестёр она знала, что означает это слово.
Виктория Леонидовна спрашивала её о чём-то, заставляла выходить к доске. Иногда Насте удавалось собраться и понять, что спрашивает учительница. Иногда ей даже казалось, что она знает, как нужно ответить на вопрос. Но отвечать не хотелось.
Всё вокруг было чужое и неприятное.
К тому же блестящие туфли порвались на пятках. Сапожник зашил, но Настя зашитые туфли разлюбила.
Перед новогодними каникулами всему классу подарили открытки. Виктория Леонидовна попросила Настю прочитать. Настя не смогла. Хотя буквы все были знакомые. Открытка была красивая. По краям пушистые снежинки. Настя вспомнила, что скоро зима. Зимой папа катал её на санках. Пока не переехал на дачу.
– Настя, прочти нам, пожалуйста.
Почему-то в тот раз Виктория Леонидовна особенно долго не оставляла Настю в покое.
Через два дня мама ходила в школу. Вернулась оттуда мрачная, но молчаливая. Какая-то пришибленная.
– Вся в папашу, – сказала она, поглядев на Настю внимательно и как будто брезгливо. – Дебилка.
– И чё теперь? – поинтересовалась из кухни Алла.
– А чё теперь? – мама пожала плечами. – Куда-нибудь пристроят.
И снова посмотрела на Настю. Настя поёжилась. Дворовые парни примерно так же смотрели на папиного знакомого, бомжа Костика.
После Нового года, на который Настя получила в подарок стопку цветных трусов и носков, мама сходила с ней на комиссию в большой торжественный дом с колоннами и каменными листьями под крышей. Мама была в выходной блузке, крепко надушена. Коридоры внутри были устланы длиннющими красными коврами, которые проглатывали звуки шагов – Настя удивлялась тому, насколько беззвучно они с мамой идут по этим коврам.
Посидели немного в тесной комнате с очень высоким, почти до потолка, окном. Насупленная, похожая на Риту, девушка быстро-быстро настукивала по клавиатуре.
Открылась дверь, сказали: «Входите». Мама вцепилась в Настину руку, и они вошли.
Настю усадили на стул посреди большой комнаты. Рядом села мама. Мама нервничала. За столом сидели ещё несколько насупленных женщин и двое таких же мужчин. Читали какие-то бумаги, передавали друг другу, о чём-то переговаривались.
В углу стоял горшок с фикусом, как в школьном буфете. Между фикусом и окном – золотистый оленёнок на обрубке белой колонны. С лопоухими ушами и растопыренными ноздрями. И длинными растопыренными ногами.
Одна из женщин вышла из-за стола, прихватив с собой стул. Подошла к Насте. И вдруг улыбнулась красиво, как в кино. Поставила рядом с Настей стул, села.
– Настюша, – сказала женщина ласково. – Ты в свою школу больше не пойдёшь. Там тебе трудно, правда? Давай мы тебя отправим в другую школу. У тебя там даже будет комната, вместе с другими девочками. А главное, там будут дети такие, как ты.
Настя подняла глаза на улыбающуюся женщину. Смотрела заворожено, повторяла про себя: «Такие, как я». Чуть не разревелась. Мама бросилась перед всеми за что-то извиняться, потом погладила Настю по плечу. Они посидели ещё немного и ушли.
Новая школа оказалась за городом, называлась «интернат». Настя переехала туда жить.
Вдоль забора было много сугробов, которые делал дворник огромной, необычайно широкой лопатой. По двору бегал чёрно-белый пёс по имени Жук и так молотил хвостом, когда подходил к детям, что чуть не складывался пополам. Когда дворник уходил со двора, Жук пробегал вдоль сугробов и возле каждого задирал лапу, так что скоро все они были помечены его жёлтыми закорючками.
Комната, в которую поселили Настю, была оклеена обоями с Чебурашками и Винни Пухами. Крокодила Гены, Шапокляк и Пятачка на обоях почему-то не было. Насте выделили собственную тумбочку для зубной щётки и тетрадей.
В комнате жили ещё Аня, Катя и Валя. У Ани папа сидел в тюрьме, у Вали родители куда-то пропали, осталась только бабушка. Катя про своих родителей не рассказывала и со всеми ругалась. Или плакала. С Катей Настя решила не разговаривать, на её вопросы отвечала только «да» или «нет» – а если та спрашивала такое, на что нельзя ответить ни «да» ни «нет», молча пожимала плечами. Катя называла Настю балдой, зато не лезла ругаться.
На уроках легче не стало. Наоборот. Учительниц теперь было две: одна учила читать и писать, другая считать и рисовать. Приставали они к Насте на каждом уроке – и не оставляли в покое, пока она не ответит на их вопрос. Если отвечала неправильно, в конце урока её спрашивали снова. Настя стала прислушиваться к тому, что отвечают те, кого дважды за урок не вызывают. Так она научилась запоминать правильные ответы.
Многих детей на выходные забирали домой. Настю мама тоже сначала забирала. Дома ей приходилось спать на старой скрипучей раскладушке, в комнате с Аллой – там, где до этого стояла кровать Риты. Кровать была старая и сломанная, теперь её выбросили, а Рита заняла Настино место возле мамы на диване. Когда Настя ворочалась, раскладушка громко скрипела. Алла от этого просыпалась, охала и велела Насте не вертеться.
Когда ударили морозы, мама перестала приезжать по субботам в интернат. Однажды Настю позвали в учительскую к телефону. Звонила мама, сказала:
– Слушай, не могу приехать. Транспорт не ходит почти. Катастрофа. Я, блин, болеть начинаю. Куда тебя? Заразишься ещё, не дай бог.
И до весны Настя из интерната не уезжала.
Воспитатели, те, что оставались с ними после занятий, были все разные. Но все – не злые. Татьяна Дмитриевна любила поговорить. Расспрашивала, как у них дела с уроками, кто чем дома занимается. С Настей она тоже заговаривала, и Насте это было очень приятно. На вопросы Татьяны Дмитриевны Настя всегда отвечала. Но, когда пыталась сама завязать разговор, почему-то робела и сбивалась. Татьяна Дмитриевна говорила тогда:
– Ничего, потом расскажешь.
Их водили гулять в сосны. Показывали мультфильмы. И по утрам не нужно было вставать так рано, как в садик или в школу. Настя научилась просыпаться сама, раньше побудки. Ей нравилось умываться спокойно, когда вокруг не толкутся другие дети и никто не подгоняет.
Из окна умывальной комнаты открывался вид на дорогу, которая вела к городу. Настя стояла и смотрела на деревья, на проезжающие машины, на вспаханную землю, посыпанную снегом. На то, как от милицейской будки тянется ниточкой пар. Как за заправкой курит и пьёт кофе заправщик. Чернели вороны, стриженные кусты были похожи на высохшие кисточки, когда их раздают перед уроком изо. Было отчего-то горько возле этого окна, но и уходить не хотелось.
Весной, на каникулы, мама наконец забрала её домой.
Домашняя жизнь изменилась. Алла и Рита больше не подтрунивали над Настей. Они будто не замечали её. Совсем как мальчишки в первой школе. И мама больше не ругала. Даже когда в очередной раз стали примерять сестринские вещи из баулов. Только повторяла негромко:
– Повернись. Отойди. Вытяни руки.
Настя и дома переживала непонятное, как возле окна в умывальнике. Вроде бы радоваться, что мама перестала на неё сердиться – а ей, наоборот, делалось от этого грустно.
Настину раскладушку ставили теперь на кухне.
«Такие, как она», которых обещала женщина из комиссии, в интернате Насте не попались.
Самое неприятное началось с одиннадцати лет, когда её перевели в пятый класс и переселили на третий этаж.
До сих пор ей удавалось жить по-своему. Ни с кем не сталкиваться и находить свои закутки. Несколько раз её, правда, колотили девочки из других групп. Настя уже поняла, что мама говорила правду: ни рожи, ни кожи, никому не нужна. Она ни к кому и не лезла. Но многих злила почему-то просто так, сама по себе.
Татьяна Дмитриевна, к которой она успела привязаться, ушла в тот год из интерната на пенсию. Обещала приходить в гости. Настя поплакала несколько раз в туалете – и стала её ждать.
В старшей группе всего оказалось слишком много. Много учителей, много воспитателей. Детей так много, что невозможно всех запомнить. Настя по привычке старалась держаться в сторонке – но это больше не срабатывало.
– Э! Шибанутая! – кричали ей. – Чё там делаешь?
На уроках она снова стала погружаться в шум. Отвечала невпопад. Дети над ней смеялись. Говорили, что скоро её отправят в «дурку». Но это Настю не пугало.
Плохое начиналось после уроков, на этаже.
Из девочек, с которыми она жила раньше, осталась только Аня. У Вали умерла бабушка, её перевели в другой интернат. Катю забрали родители.
С Аней они так и не сошлись, но поначалу на третьем этаже та всё переглядывалась с Настей, жалась к ней. Нарисовала карандашами себя и Настю: стоят под деревом, держатся за руки. Рассказывала, как мама ездила к папе на свидание в тюрьму, сняла его там на видео и показывала ей. Но потом Аня сдружилась со старшими девочками, а с Настей дружить перестала.
Анины новые подружки часто к ним наведывались. У Ани с Настей было свободное место в комнате, жили они вдвоём, две другие кровати пустовали. Аниных подружек Настя раздражала. Они говорили: «Здравствуй, дерево», – и норовили щёлкнуть по лбу.
– Ты, Настя, с пацанами-то трахаешься? Наши к тебе не ныряют?
Сами они говорили об этом каждый вечер. От их разговоров Настя сбегала в вестибюль, смотреть с воспитателями сериалы.
Сериалы она полюбила. Там жили другие люди. В другой жизни. В которой любые неприятности рано или поздно заканчивались. Сериалы как будто обещали Насте, что и у неё всё тоже когда-нибудь неожиданно переменится и будет хорошо.
Домой Настю забирали всё реже. Татьяна Дмитриевна в гости так и не выбралась.
Но однажды в интернат приехали студентки. Нарядные и все улыбаются.
Для встречи с ними в красном уголке собрали девочек средней группы. Директриса велела не шуметь, слушать внимательно – и ушла. Студентки расселись всей гурьбой вокруг учительского стола, и две самые красивые стали по очереди говорить о том, что рано или поздно в жизни каждой девочки появляется любовь. Что любовь нужно ждать. Что очень легко ошибиться, принять за настоящую любовь минутное увлечение – и от этого бывает очень больно и тяжело. Старшие девочки начали хихикать и перешёптываться. Тогда студентки предложили с каждой девочкой поговорить наедине. А чтобы никто не подслушивал, пойти в какой-нибудь пустующий класс. Или во двор.
Настю поманила одна из тех двоих, самых красивых. Настя зарделась так, что горячо стало дышать. И не сдвинулась с места. Тогда студентка подошла сама.
– Я Юля, – сказала она нежно, присев на корточки.
– Настя, – сказала Настя.
От Юли пахло духами – но не так, как от мамы или Аллы с Ритой, по-другому. Этот запах не отзывался во рту привкусом карамели, даже немного горчил.
– Красивое имя, – сказала Юля, взяв в свою руку кончики Настиных пальцев. – Будешь со мной дружить? Это тебе.
И протянула Насте помаду.
Настя взяла помаду, кивнула: буду.
Девочек оказалось больше, чем студенток. Те, кому не хватило пары, и кто оставался ждать следующей очереди, начали было шуметь. Но в красный уголок вошла директриса, и снова стало тихо.
– Давай-ка с тобой во двор выйдем, – предложила Юля. – Там у вас такие сосны замечательные.
Они гуляли под соснами, Юля держала Настю за руку и говорила про любовь. Говорила, что любовь в жизни – самое главное. Настя обрадовалась: она и сама уже успела догадаться об этом.
– Понимаешь, – сказала Юля. – Каждый человек – сам хозяин своей жизни. Сам должен решать, как ему жить. Не надо смотреть на других. И вообще, заниматься этим с парнями – вовсе даже не круто. Понимаешь? Любовь – это другое.
– Понимаю, – сказала Настя и подумала про папу.
Гуляли долго: прошли до конца сосновой аллеи, обогнули стадион.
Наутро в умывальнике Настя намазала губы помадой. Стояла, разглядывала себя в зеркале. От правого рукава водолазки пахло духами Юли.
Мама забрала её домой на майские праздники.
Настя все дни просидела дома, на балконе или на кухне, когда там никого не было. Решила во двор не ходить. Всё равно с ней там больше никто не дружил.
Многое нужно было обдумать.
От общего похода на могилку к бабушке Настя отпросилась. Бабушку она не помнила. А полоть траву на могиле не любила: трава больно резала ладони.
Оставшись одна, вспоминала слова Юли: каждый сам хозяин своей жизни, сам решает, как ему жить. Насте давно уже не нравилось то, как другие устраивали её жизнь.
И ещё вспоминала, как папа, когда отправлялся жить на дачу, позвал Настю в тамбур, сел на корточки – совсем как Юля – обнял крепко и расплакался. А Настя тогда побоялась плакать: мама наверняка заметила бы, устроила бы взбучку.
К концу домашней побывки на душе у Насти было легко.
Она лежала на раскладушке, разложенной на балконе, и катала в пальцах цилиндрик Юлиной помады. Подошла мама:
– Может, сегодня тебя отвезти? Чем завтра ни свет ни заря.
– Я в интернат не вернусь, – ответила Настя, поднимаясь.
Мама переглянулась с Ритой и махнула раздражённо рукой:
– Так! Хватит мне тут! Сейчас поедим и поедем. У меня завтра куча дел.
Пока мама собирала на стол, Настя аккуратно накрасила губы перед зеркалом в прихожей. Взгляд упал на фотографию в серванте – ту, где она фея. Настя забрала фотографию и ушла.
Фотография по дороге где-то потерялась, выскользнула из-под ремня. Но Настя не расстроилась.
Шагнув на грунтовку дачного посёлка, поняла: она не ошиблась, сбежав к папе. Запомнила навсегда, как подлетали к заборам собаки с заливистым лаем, мелькали кузнечики, ветви качались… Так здорово – аж дух захватывает. Обычные воробьи, обычное солнце. Зелень, пыль. Как во дворе интерната. Или за домом возле гаражей. Но всё иначе.
На многих участках кипела дачная работа: копали, подметали, красили. Кто-то бросал на неё мимолетный взгляд, не отрываясь от дела, кто-то всматривался, приложив руку козырьком. Настя чувствовала себя в центре внимания, но это не смущало её, как раньше. Останавливалась, спокойно высматривала дорогу: успела подзабыть, давно не была.
Когда подходила к покосившемуся сиреневому домику, радио выкрикнуло откуда-то: «Всё будет хорошо!». Так и было. Папа оказался совсем трезвый. Лежал в гамаке, натянутом между сливовыми деревьями. Покачивался. Верёвочные петли тёрлись о стволы, тихонько поскрипывали.
Заметив Настю, папа соскочил с гамака, бросился навстречу.
Схватил на руки, расцеловал в обе щёки.
– Настя, Настюха. Ух, какая взрослая. И губы даже накрашены! А вымахала! Ух, взрослая какая! Настюха!
Долго суетился, стискивал Насте плечи, гладил по макушке. То сажал на лавку, то снова поднимал на ноги.
– Дай же я на тебя посмотрю! Выросла как!
Узнав, что она пришла к нему жить насовсем, папа сначала притих. Потом пожал плечами, заговорил тише:
– А чего б и не жить? На своей-то даче. Тут сливы, малина. Воздух, опять же. Зимой печку топить будем. Чего бы не жить? Не пропадём!
Радио пело песенки. Пахло травой.
В домике было тесно и мусорно. За несколько лет дачной жизни папа успел натаскать сюда много всего. У Насти глаза разбегались, когда она рассматривала наваленные вдоль стен вещи: вёдра, тазики, деревянные рейки, старые кроссовки, помятый самовар, счёты с круглыми костяшками, одеяла, пальто, табуретки, складной пластмассовый столик, зонт, вёсла, насос, горка бурого металлолома перед дверью. На табурете, накрытом газетой, – стопка чистых мисок и тарелок, стаканы, кружки, нож. До сих пор любой беспорядок означал для Насти начало неприятностей: за беспорядок кто-нибудь непременно получал – не она, так кто-нибудь рядом. Но дачный беспорядок успокаивал. Накидано, как вздумалось. Потому что – у себя. Никто не заявится, не станет отчитывать. Живи, как хочешь, по-своему.
Правда, было немного голодно. Денег у папы не водилось. Он куда-то уходил и возвращался с едой. Но случалось, приносил только бутылку. Иногда они готовили голубей, которых папа ловил рыболовной сетью. Голубей было жалко, когда папа скручивал им шеи. Их головы валялись за домом и подглядывали мёртвыми глазами из-под серых век. Но голуби были вкусные.
Через несколько дней папа впервые налил ей водки.
– Чтобы не скучала.
Объяснил, как глотать, закуску приготовил – половинку огурца.
Настя взяла стакан, подняла, как папа. Он долго говорил, перед тем как выпить, про то, как скучал без неё, как вспоминал их прогулки, их катания на санках. Под конец махнул рукой:
– Да что там! Кровинка моя!
От жгучей водки Настя сначала задохнулась, а потом сделалось воздушно и весело. Как будто полетела. Смеялась громко. Папа хлопал себя по колену и смеялся вместе с ней.
– Ну, ты и хохотушка!
Через несколько дней на даче объявилась новая папина жена Шура. Вошла в калитку с двумя тяжёлыми пакетами в руках. Оглядела Настю строго.
– Что за трында малолетняя?
Папа замахал руками:
– Да дочка же моя! Ты что?! Дочка! Настя.
– А-а-а, – недоверчиво протянула Шура.
– Я же рассказывал. Настя. Дочка.
– Мало ли что рассказывал? – брякнула Шура и выставила перед собой пакеты. – Нате вот, накрывайте… Я, значит, Настя, мачеха твоя. – И добавила строго: – И кормилица.
Начался пир. Шура принесла много вкусного. Жаренную курицу, картошку. Лимонад. От водки Насте на этот раз не стало воздушно. Наоборот. Голова загудела как от подзатыльника.
Было ясно, что с появлением Шуры жизнь станет сытнее, но всё-таки хуже, чем была.
Настю Шура не трогала, а папой понукала похлеще мамы.
– Дармоед проклятый! Как оно всё даётся?! А?! Задумывался?! Хоть бы раз в дом копейку принёс. Бестолочь! Работать не можешь, иди воруй! Лежит целыми днями! А я – давай, отдувайся.
Когда еда заканчивалась, Шура уходила на трассу, на работу.
– На жратву вам зарабатывать и на бухло, – говорила она Насте.
Уходила на несколько дней, и Настина жизнь снова становилась спокойной.
Водку папа покупал теперь только для Насти. Себе брал дешёвый самогон, который гнали соседи через три квартала, возле поливной бочки. Водку в ларьке перед въездом в дачный посёлок Насте не продавали, так что папа ходил сам. А Настя ходила за самогоном. Правда, и тут были сложности. Хозяйка самогонного дома, Марья Тимофеевна, запрещала Насте ходить через калитку. Приходилось обходить дом сзади, лезть через ров и стучаться в окно. А когда Марья Тимофеевна не слышала, перелазить обратно через ров и кидать камешками в шиферный навес над летней кухней.
Историй у папы было немного, скоро Настя выучила их наизусть. Не беда. Насте эти истории нужны были не ради интереса, как в сериалах. Сидела, слушала папу – а вокруг разворачивалась другая жизнь, в которой в самом центре была она. Или папа.
Рассказывал он про Настино детство. Как она начала ходить, потом говорить. Как сёстры, когда ей было года три-четыре, наотрез отказывались с ней оставаться – из-за того, что была шустрая и болтливая слишком. Как со всего маху слетела однажды с качелей, да на асфальт. Но не разбилась, приземлилась аккурат на ноги. Про своё детство папа, конечно, тоже рассказывал. Но меньше. Про армию, бывало – сколько он там мучений пережил. Мёрз, не спал, били его другие солдаты жестоко. Рассказывал и про маму – про молодую. Как они познакомились и поженились.
Поспела малина. Настя приохотилась закусывать сладкими ягодами.
Шуры не было больше недели. Вернулась с синяком под глазом, с зашитым воротом футболки. Мрачная. Папа про синяк спрашивать не стал и как-то сразу сник. Шура сунула ему в руки пакет с едой, велела накрывать.
Настя с папой нарезали, разложили на газете колбасу, хлеб, помидоры, пакет жареной картошки. Водку разлили по стаканам.
Первую выпили молча. Поели немного, Шура скомандовала негромко:
– Наливай, дармоед.
Папа, как обычно, налил Насте половину стакана. Шура вскинула брови – так, что подбитый глаз выглянул страшно. Как у мёртвого голубя.
– Чё это? – кивнула Шура на Настин стакан.
– Где? – не понял папа.
– Чего экономишь-то? Наливай, раз наливаешь.
Папа замотал головой, убрал бутылку на пол.
– Мала я она. Нельзя по целому.
– Мала я! – всплеснула руками Шура. – Лей давай!
Папа снова замотал головой, стал отшучиваться.
– Чего ты, Шура, в неё ж и не влезет!
Улыбался – но Настя видела: совсем ему не весело.
– Ладно тебе, Шур, – папа потянулся потеребить Шуру по плечу, но не дотянулся, убрал руку. – Куда ей полный? Я ж так только, чтоб ей не скучно. По чуть-чуть… Ну… Куда ей полный? Рано ей.
– Рано! – передразнила папу Шура. – Рано! Вишь ты, рано ей, мала я она! С тобой на пару дармоедствовать не рано, значит, нормально!
Настя сидела молча. Смотрела во двор сквозь распахнутую дверь. Жевала бутерброд. Старалась отвлечься от Шуры. Уж больно день был славный: солнце, ветерок налетает. Доносится запах перезрелой малины, до которой Настя не сумела добраться.
Выпив ещё, Шура немного притихла.
– Чего там рано, – ворчала она. – В самый раз! Всё, что надо, у девки выросло. Подмылась, намазалась – и на трассу, денежку зарабатывать. Губы, вон, уже красит! Сколько можно вас, дармоедов, кормить.
Папа ещё больше засуетился, сказал:
– Иди-ка, Настюха, погуляй пока. А то правда, расселась тут со взрослыми. Скучно тебе… иди поиграй…
Настя выпила свою водку, вышла во двор.
Здорово было необычайно. Как в тот день, когда она пришла к папе. Всё вокруг было облито солнцем: небо, листья, трава. Малиной во дворе пахло совсем уж густо.
Настя легла на одеяло, расстеленное возле малинника, и закрыла глаза. Кто-то заговорил с ней о чём-то хорошем. Настя никак не могла разобрать, о чём. И кто. Юля? Или папа?
Но дрёма рассеялась, и Настя услышала, как Шура выговаривает папе:
– Не мужик ты, понял? Не мужик! Ни денег добыть, ни бабу ублажить.
Сегодня она обижала папу особенно сильно. Настя вздыхала и скорее зажмуривалась, чтобы уснуть и не слышать.
Ночью Шура била папу. Била крепко, с размаху. Папа закрывал голову руками.
Настя нырнула с головой под одеяло, но уснуть сразу не смогла и принялась вспоминать садик.
В садике был сторож Павел Матвеевич. У Павла Матвеевича были большие чёрные сапоги. Когда он ходил, сапоги говорили: шшш-бум, шшш-бум. Ещё у него был свой чулан за кухней. Когда чулан открывался, из него вываливалась метла или лейка.
Она всё-таки уснула, а проснулась уже глубокой ночью – от того, что ей захотелось в туалет.
Отошла к забору, пописала.
На небе было много звёзд, голубых и жёлтых.
Водка выветрилась. Вот рту было сухо.
«Зря папа выбрал себе новую жену такую же, как мама», – подумала Настя и пошла в дом за водой.
Папа посапывал, отвернувшись к стене.
Поискала возле табурета, нашла недопитую бутылку лимонада. Лимонад был тёплый и липкий. Взяла с табурета нож и вышла во двор.
Шура спала возле самого малинника, закинув руки за голову. Футболка задралась, белела полоска живота.
Настя встала поудобней и опустила нож в середину этой полоски.
Шура согнулась, привстала на локтях, громко охнула.
– Тише, тише, – зашептала Настя. – Всё уже, всё.
На суде папа с мамой сидели вместе. Папа побрился, одет был в чистую сорочку. Наверное, мама ему принесла. Или пустила домой – помыться и одеться.
Их спрашивали, они отвечали.
Мама рассказала, как Настя ушла на дачу.
– Убогие они оба, – сказала мама. – И Настька, и отец её. Но любила она отца сильно. Жалела. От этого всё.
Папа рассказал, как они на даче жили. Пока не появилась Шура.
Потом женщина с погонами начала читать по бумажке. Папа крикнул ей:
– Я дочке только хорошую водку покупал! Подороже!
В зале стало шумно. Папа опустил голову и заплакал.
Потом Настю отпустили, но велели прийти на следующее утро, на приговор.
Когда все выходили, папа куда-то пропал. Настя поискала, но не нашла. Мама перед выходом обернулась, спросила:
– Домой поедешь?
Настя покачала головой.
– Как хочешь.
– Ты папу не обижай больше, – сказала Настя. – Никогда.
Мама посмотрела на неё как-то странно и ушла.
Настя добралась до дачи и легла во дворе на раскладушке. Воробьи летали туда-сюда, солнце припекало, светило сквозь веки. Хорошо, давно так не было. Как до появления Шуры.
Папа появился поздно. Вокруг было уже темно, а небо ещё светлое. Зашёл и растянулся. Настя подняла его, довела до постели. Он лёг и молча уснул.
– Всё будет хорошо теперь, – уверенно сказала Настя, присев на краешек его постели. – Не бойся. Шуры больше нет, и мама тебя не будет обижать. Я ей сказала сегодня.
Утром Настя встала, умылась, губы накрасила. Папа спал, она не стала будить. Только поцеловала на прощание. Подумала и прихватила на всякий случай нож – тот самый, сунула в задний карман джинсов. Адрес, куда ехать на приговор, она записала вчера на листке.
Было ещё очень рано, по трассе изредка проезжали машины.
На остановке сидел мужчина – не грязный, не пьяный, но очень неприятный. Увидел Настю, стал её рассматривать, посмотрел на дорогу, ведущую от дачного посёлка.
– Здравствуй, – сказал мужчина.
Настя услышала его голос и поняла, что неспроста он показался ей неприятным. Поскорее нащупала и сжала рукоятку.
– Здравствуй, куколка, – продолжил он как будто ласково. – Что ты такая молчунья, а?
Встал со скамейки, сделал шаг в её сторону – и Настя ударила его ножом. Попала в живот, почти туда же, куда и Шуре попала. Но мужчина не умер. Схватился за живот, завалился обратно на скамейку.
– Вот же мразь! Ножом!
Сам от боли морщится, но как будто и смеётся сквозь боль, удивляется:
– Ты смотри! Охренеть! Ножом!
Настя постояла немного, послушала и пошла по трассе – на ту остановку, которая на повороте. Далеко, но ничего не поделаешь, не стоять же здесь.
Отойдя немного, вынула бумажку с адресом суда, оторвала кусок побольше и отёрла лезвие. Вот и хорошо, улыбнулась Настя сама себе – догадалась нож прихватить.