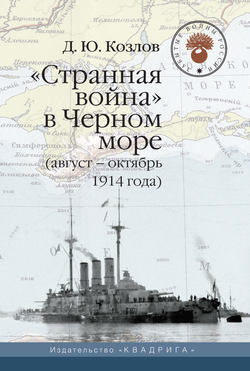Читать книгу «Странная война» в Черном море (август – октябрь 1914 года) - Денис Козлов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 3
Несостоявшаяся «черноморская экспедиция» австро-венгерского флота в августе 1914 г
ОглавлениеВоенно-морские силы империи Габсбургов в качестве потенциального противника на Черном море фигурировали в русских планах войны на «южном театре» начиная с 1908 г. Напомним, что именно тогда российский Морской генеральный штаб приступил к разработке «плана операций» Черноморского флота против морских сил коалиции враждебных государств. Результатом работы Генмора стал План войны на Черном море России с западной коалицией на 1909–13 гг., предусматривавший возможность образования направленного против России военного союза в составе Германии, Австро-Венгрии, Румынии и Турции. Уж е в 1909 г. на итоговых осенних маневрах морских сил Черного моря, где отрабатывались действия по недопущению выхода из Босфора неприятельской эскадры, в числе сил «противника» учитывалась дивизия австрийских броненосцев типа «эрцгерцог»[96].
Австро-венгерский линейный корабль «Эрцгерцог Фридрих»
Монархи Центральных держав – германский кайзер Вильгельм II, болгарский царь Фердинанд, император Австрии и король Венгрии Франц-Иосиф и турецкий султан Мехмед V
Опасения Морского генерального штаба не были беспочвенными: еще в 1887 г. на переговорах о заключении австро-турецкого антироссийского военного союза обсуждался вопрос о пропуске австрийского флота в Черное море, тогда же группа австрийских морских офицеров прибыла в Турцию для изучения нового театра военных действий[97]. Да и в последние предвоенные годы официальная Вена рассматривала Турцию как своего возможного союзника в войне с Россией и всеми мерами стремилась склонить на свою сторону другие причерноморские государства[98].
Кстати, именно необходимость нейтрализовать угрозу со стороны австро-венгерского флота стала одной из важных предпосылок появления планов сосредоточения корабельной группировки русского флота в Средиземном море. Этой мерой предполагалось в случае войны с Турцией воздействовать на противника с нового стратегического направления, создать благоприятные условия для действий Черноморского флота в направлении Босфора и, что важно в контексте данной темы, воспрепятствовать появлению в Черном море флотов враждебных государств – Австро-Венгрии и Италии. Эта мысль, заключавшаяся, по существу, в возврате к практике последней четверти XIX столетия, имела в последние предвоенные годы широкое хождение в российских военно-морских и дипломатических кругах.
По-видимому, впервые в сколь-нибудь систематизированном и аргументированном виде «средиземноморский проект» был изложен в записке вице-директора канцелярии Министерства иностранных дел Н. А. Базили, датированной июлем 1913 г. Автор документа констатировал, что «утрата нами господства на Черном море требует безотлагательных мер для восстановления столь необходимого нам во всех отношениях решительного преобладания наших морских сил». Для достижения этой цели Николай Александрович предлагал провести в жизнь целый ряд весьма радикальных мер, среди которых отметим скорейшую, не позднее весны 1914 г., закладку на черноморских верфях новой серии дредноутов (три – четыре единицы) и «образование, по примеру прошлого, русской эскадры в Средиземном море». Характерно, что необходимость столь решительного пересмотра дислокации сил военного флота предопределялось, по мнению автора записки, всей логикой российской международной политики того времени: «Если вспомнить, что упразднение нашей средиземноморской эскадры вызвано было перенесением на Дальний Восток центра тяжести нашей политики, то возвращение ныне к историческим нашим задачам на Ближнем Востоке должно иметь своим последствием появление вновь нашего флота в Средиземном море»[99]. Ядро нового соединения, по мнению Н. А. Базили, должны были образовать четыре линейных корабля, строившиеся для Балтийского моря, а также достраивающийся в Англии по заказу Бразилии линкор «Рио-де-Жанейро»[100] и еще один «предполагаемый к продаже южно-американский дредноут»[101].
Еще дальше пошли специалисты руководимой капитаном II ранга А. В. Немитцем 2-й оперативной части Морского генерального штаба, которой в том же месяце был подготовлен доклад «О политических и стратегических задачах России в вопросе проливов и Черного моря». В документе обосновывалась целесообразность сосредоточения в Эгейском море в 1915–1918 гг. «всего русского флота, то есть Черноморского и Балтийского». Отметим, что в перечень мероприятий «стратегической подготовки захвата проливов» операторы Генмора включили пункт о «подготовке, на случай войны, наступательной операции сосредоточенного в Средиземном море русского флота против австрийского и других, которые окажутся на его стороне (выделено мной. – Д. К.)»[102].
Что же касается обороны Финского залива и вообще балтийского побережья, то таковую, по мнению специалистов Генмора, следовало возложить на «армию и Ревель-Поркалаудскую крепость со всем резервным флотом». Непременным условием успешного решения столь масштабной задачи составители доклада полагали «оборудование в Эгейском море театра и базы своему флоту в пределах, допустимых международными соглашениями вообще и союзом с Грецией в частности. Здесь придется соорудить для нашего флота плавучую базу, которая и будет стоять в греческих портах»[103].
В декабре 1913 г. вопрос о переводе на юг бригады балтийских дредноутов сразу по вступлении их в строй обсуждался в высших сферах Морского министерства. Более того, И. К. Григорович ставил перед внешнеполитическим ведомством вопрос о дипломатическом обеспечении прохода этих кораблей через Дарданеллы и Босфор[104]. Иван Константинович ссылался на то, что «представители Министерства иностранных дел в сношениях с Морским генеральным штабом высказывались, что при исключительных обстоятельствах и в случае крайней необходимости вопрос о частичном нарушении конвенции о проливах – пропуске нашей бригады дредноутов в Черное море – мог бы быть поставлен на международно-политическое обсуждение не без надежды на успешное его для России решение»[105].
Лагерь противников чрезмерного увлечения средиземноморскими делами возглавил, естественно, командующий морскими силами Балтийского моря адмирал Н. О. фон Эссен. 2 (15) февраля 1914 г. Николай Оттович представил морскому министру рапорт, в котором обрисовал удручающее состояние вверенного ему флота и настаивал на безотлагательной покупке аргентинских и чилийских линкоров, но не для перевода их в Средиземное море, а для формирования полноценной «боевой эскадры» на главном – Балтийском – морском театре. 1 (14) апреля Н. О. фон Эссен вновь обратился к министру, резюмировав свои рассуждения выводом, согласно которому только «осуществление заграничных заказов одновременно с постройкой на отечественных стапелях новых судов» может стать единственным выходом из «настоящего положения нашей морской силы в Балтийском театре»[106].
Н. О. фон Эссен – командующий морскими силами, затем флотом Балтийского моря
Кстати, за отправку предположенных к покупке «южно-американских» кораблей на Балтику еще в 1912 г. выступало и командование морских сил Черного моря. Черноморцы, однако, полагали полезным в этом случае передислоцировать в Черное море балтийскую бригаду линкоров-додредноутов («Андрей Первозванный», «Император Павел I», «Слава» и «Цесаревич»). Флаг-капитан оперативной части штаба командующего морскими силами Черного моря старший лейтенант И. А. Кононов предлагал сосредоточить эти корабли в Босфоре под предлогом участия в международной эскадре в связи с Балканской войной и при необходимости явочным порядком ввести в Черное море[107].
Категорически против «средиземноморского проекта» высказался и морской агент в Турции. «Создавать Средиземноморскую эскадру ценою оголения Балтийского моря я полагаю совершенно недопустимым и ВЕЛИЧАЙШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ (выделено в документе. – Д. К.)», – писал А. Н. Щеглов в декабре 1913 г. Будучи автором замысла предвоенного «плана операций» морских сил Балтийского моря, Александр Николаевич смотрел на дело не столько с политической, сколько с оперативной точки зрения и поэтому предостерегал от перевода лучших линейных сил из Балтики: «Этим будет исключен самый главный элемент обороны, и, следовательно, вся система будет основана на минном заграждении и укреплениях, то есть недостаточных и ненадежных данных, и столица вместе с Балтийскими водами будет опять в опасном и беззащитном положении»[108].
Провал попыток покупки аргентинских и чилийских дредноутов и «преждевременное»[109] начало мировой войны, заставшее линейные корабли типа «Севастополь» и линейные крейсера типа «Измаил» в процессе постройки, так и не позволили вывести вопрос о формировании средиземноморской эскадры из области теоретических рассуждений. Однако возникшая в этой связи полемика в полной мере отражает многообразие взглядов на цели, задачи и формы применения сил флота в будущей войне, имевших хождение в российском военно-морском истеблишменте. По нашему мнению, такое положение стало следствием отсутствия внятных указаний со стороны высшего государственного руководства с постановкой военно-морскому флоту конкретных и выполнимых стратегических задач. Здесь же, как нам кажется, следует искать и причину возникших в 1912 г. сбоев в оперативном планировании действий Черноморского флота.
Отметим, однако, что опасения российского военно-политического руководства по поводу вторжения австрийских морских сил в Черное море имели под собой некоторые основания. В ноябре 1913 г. внешнеполитическое ведомство получило «из агентурного источника» информацию о том, что «германское правительство берет на себя обязательство подготовить, на случай осложнений с Россией, беспрепятственный пропуск турецким правительством австрийской или соединенной австро-итальянской эскадры через Проливы». При этом «ближайшей задачей австрийского флота должно быть отвлечение… русской черноморской эскадры от участия в борьбе за Проливы»[110].
События первых дней Великой войны, казалось, подтверждали уместность этих предположений. 22 июля (4 августа) 1914 г. в Тешене начальник австрийского полевого генштаба фельдмаршал граф Ф. Конрад фон Гетцендорф принял флотского представителя в ставке контр-адмирала Респа. Последний, исходя из объявленного Италией нейтралитета и практически предрешенного выступления Англии, констатировал крах предвоенных планов применения «союзных» австро-итальянских военно-морских сил. Напомним, что морское соглашение между державами Тройственного союза, вступившее в силу в ноябре 1913 г., предусматривало сосредоточение с началом войны союзных флотов в центральной части Средиземного моря (Неаполь, Мессина, Аугуста), с тем чтобы отсюда контролировать все морские коммуникации на театре[111].
Дредноуты австро-венгерского флота в Поле
Австро-венгерский малый крейсер «Адмирал Спаун»
Сделав справедливый вывод о весьма опасном положении австрийских морских сил перед лицом господствующих в Средиземном море англо-французов, Респ бесполезному блокированию в Адриатике сильнейшим неприятелем предпочел прорыв в Черное море. Действительно, по черноморским меркам флот империи Габсбургов выглядел весьма внушительным и явно превосходил силы, которыми располагал командующий русским Черноморским флотом адмирал А. А. Эбергард. К первым числам августа 1914 г. были боеготовы 1-я дивизия линкоров вице-адмирала Ньегована в составе дредноутов «Тегетхоф», «Вирибус Унитис» и «Принц Ойген» (20 тыс. тонн, 20 узлов, по двенадцать 305-миллиметровых и 150-миллиметровых орудий) и 2-я дивизия контр-адмирала Вилленика из трех додредноутов типа «Радецки», сопоставимых с кораблями типа «Евстафий» – лучшими линкорами нашего Черноморского флота. И это не считая броненосного крейсера «Санкт Георг» с 240-миллиметровой артиллерией, 29-узлового скаута «Адмирал Спаун» и нескольких вполне современных эскадренных миноносцев типа «Татра»[112].
Идея перевода австрийских кораблей в Черное море была не нова и уже выдвигалась немцами, которые предполагали столь нетривиальным путем вырвать у русских господство на этом морском театре, создать угрозу российскому побережью, а затем, обезопасив прибрежные районы Болгарии и Румынии, облегчить тем самым их выступление на стороне центральных держав. Видимо, поэтому прожект нашел самого горячего сторонника в лице министра иностранных дел Австро-Венгрии графа Л. фон Берхтольда, который поспешил телеграфировать в Константинополь о необходимости пропуска австрийских кораблей в Черное море, а в Берлин направил предложение об участии в экспедиции германской Средиземноморской дивизии контр-адмирала Вильгельма Сушона в составе линейного (по германской классификации – «большого») крейсера «Гебен» и легкого («малого») крейсера «Бреслау».
Австрийский эсминец «Чепель» типа «Татра»
Весьма вероятно, что именно с черноморскими делами связана задержка с формальным вступлением Австро-Венгрии в общеевропейский конфликт – война России, напомним, была объявлена только 24 июля (6 августа). Очевидно, граф Ф. Конрад фон Гетцендорф полагал, что развертывание австрийского флота в Черное море займет не менее трех суток, и на такой срок должно быть задержано объявление войны России.
Заинтересованность в приходе австрийских кораблей обнаружила и турецкая правящая верхушка. Энвер и Джемаль настаивали на переводе в Константинополь одного или двух австро-венгерских линейных кораблей и обратились за содействием к австрийскому военному атташе фельдмаршал-лейтенанту[113] И. Помянковски. Последний и сам полагал, что «императорские дредноуты в Черном море могли бы сыграть гораздо более полезную роль, чем в Адриатике», и направил австрийскому верховному командованию соответствующую телеграмму[114]. Однако ответа он не дождался.
Австрийский военный агент в Турции лейтенант-фельдмаршал И. Помянковски
Точку в дискуссии по поводу «черноморской экспедиции» поставил начальник военно-морской инспекции военного министерства (по существу – командующий австро-венгерским флотом) адмирал барон Антон Хаус[115], который назвал проектируемое предприятие «фривольной игрой ва-банк» («frivoles Vabanqyespiel»)[116]. В наиболее развернутом виде аргументация австрийского адмирала изложена в его сообщении в ставку, текст которого был опубликован корветтен-капитаном бывшего императорского и королевского флота Теодором Брауном на страницах немецкого журнала «Марине-Рундшау» в 1929 г.
Прежде всего адмирал А. Хауc, справедливо указавший на наличие оборудованной базы как на «condicio sine qua non»[117] успешных действий флота, констатировал невозможность организации полноценного тылового и технического обеспечения вверенных ему сил ни в одном из турецких, болгарских или румынских портов. Что же касается Константинополя, то его скудных возможностей и ресурсов едва хватало для обеспечения собственно турецкого флота и пришедших сюда в скором времени германских крейсеров. Достаточно сказать, что во всей Османской империи не было ни одного дока для линейных кораблей, и впоследствии немцам приходилось устранять боевые повреждения подводной части «Гебена» с помощью кессонов[118]. Базирование на Босфор не удовлетворяло адмирала и по оперативным соображениям – более чем 300-мильное удаление от российского побережья грозило серьезно затруднить активные действия австрийских кораблей, дальность плавания которых существенно уступала таковой у «Гебена» и «Бреслау».
Командующий австро-венгерским флотом адмирал А. Хаус
Кроме того, А. Хаус высказал вполне уместные сомнения в том, что англичане и французы, не имевшие на Средиземном море других противников, будут безучастно взирать на переход австрийского флота в Турцию. Наконец, с началом общеевропейского конфликта австро-венгерские корабли рисковали быть заблокированными в Дарданеллах и, как полагал адмирал, смогли бы возвратиться в Адриатическое море только после заключения мира. А это оставляло адриатическое побережье империи протяженностью более 300 миль без прикрытия перед лицом превосходящих сил англо-французов, а возможно, и итальянцев. Кстати, для последних, как полагал австрийский адмирал, «беззащитность» берегов Далмации, Хорватии и Истрии могла стать лишним стимулом для перехода в стан Антанты. Поэтому, как резюмировал свои рассуждения А. Хаус, «перемещение оперативного района императорского и королевского флота из Адриатического моря в Черное… в сложившейся в настоящее время обстановке является для нас просто неразрешимой задачей»[119].
Однако эти очевидные резоны не нашли понимания у инициаторов «черноморского» проекта. Узнав о вето, наложенном адмиралом, министр иностранных дел сетовал в письме начальнику геншаба: «Я неприятно поражен известием, что Хаус ставит такие препоны Вашему гениальному плану. Его выполнение имело бы громаднейшее значение для окончательного положения Румынии и Болгарии, которые обе опасаются появления у их берегов русского флота…»[120].
Отметим, что поиски австрийским командованием точки приложения усилий своего военно-морского флота не ускользнули от внимания российского Генмора. «Доверительно. Наше морское ведомство считает возможную попытку Австрии при сообщничестве Турции, поведение которой весьма двусмысленно, направить свой флот в Черное море, где он имел бы несомненное преобладание над нашим флотом, усилившись присоединением германских и, быть может, турецких судов», – сообщил министр иностранных дел С. Д. Сазонов послам в Лондоне и Париже 23 июля (5 августа).
Однако, вопреки опасениям российских моряков и дипломатов, адмирал А. Хаус не только не повел свои дредноуты в Константинополь, но и не выполнил настойчивой просьбы В. Сушона «как можно скорее выручить «Гебен» и «Бреслау», ссылаясь на незавершенность объявленной только 22 июля (4 августа) мобилизации австрийского флота. В день получения телеграммы В. Сушона – 23 июля (5 августа) – германские крейсера экстренно грузились углем в Мессине перед прорывом в восточную часть Средиземного моря, который итальянская пресса окрестила «походом смерти». «Попытка помочь «Гебену» могла привести к потере нами двух сильнейших дивизий линейных кораблей, ядра нашего флота, и тем только повредить нашему общему делу», – писал австрийский командующий начальнику германского адмирал-штаба адмиралу Г. фон Полю 26 июля (8 августа), изложив мотивы «неописуемо горького» решения отказать В. Сушону в помощи[121].
Германский линейный крейсер «Гебен»
Германский малый крейсер «Бреслау»
Впрочем, главная причина отказа австрийского командования от помощи кораблям В. Сушона, причина, о которой по понятным причинам умолчал А. Хаус в своем письме в Берлин, лежала, безусловно, в плоскости политической. Правящие круги двуединой монархии всеми мерами пытались ограничиться региональной войной против Сербии, пусть даже и поддержанной Россией, и противились втягиванию в общеевропейский военный конфликт против Запада, с которым, как справедливо замечает современный исследователь, «Монархии и делить было нечего»[122]. Австро-Венгрия еще не находилась в состоянии войны с Великобританией (это случится только 29 июля (11 августа)) и, по выражению Г. Лорея, «таила надежды на нейтралитет Англии по отношению к Австрии». Определенные авансы в этом смысле давали и сами англичане. Сочувственный к Вене тон, принятый влиятельными британскими газетами после сараевского убийства, поощрил надежды Австрии на то, что в случае «локализации» австро-сербского конфликта Лондон останется в стороне[123]. А 17 (30) июля великобританский министр иностранных дел сэр Э. Грей дал понять германскому посланнику князю К.-М. Лихновски, что Англия не возьмется за оружие, если война ограничится столкновением между Россией и Австро-Венгрией[124]. Действительно, между Веной и Лондоном не существовало неразрешимых противоречий ни в экономической, ни в политической сферах. Да и сами англичане, целеустремленные на решительную военную конфронтацию с Германией, вовсе не считали неизбежным распространение ее и на Дунайскую монархию. В этом, в частности, 22 июля (4 августа) шеф «форин-офис» заверил австро-венгерского посла графа А. Менсдорфа: по наблюдению австрийского дипломата, Э. Грей «откровенно желал избежать конфликта». В этих условиях помощь адмирала А. Хауса германским кораблям похоронила бы все надежды венской дипломатии на мир с туманным Альбионом. Поэтому, как свидетельствует Т. Браун, верховное командование «дало флотским командирам определенные указания избегать конфликта с Англией в соответствии с ясно выраженным желанием министерства иностранных дел»[125].
Правда, австрийская главная квартира допускала возможность помощи крейсерам В. Сушона в том случае, если они прорвутся в Адриатическое море. Поэтому 25 июля (7 августа), узнав о выходе «Средиземноморской дивизии» из Мессины и о новой просьбе германского адмирал-штаба выдвинуть австрийский флот «хотя бы до Бриндизи», А. Хаус вывел из Полы свои лучшие силы – шесть линкоров, два крейсера и два десятка эсминцев. Однако уже вечером того же дня, не пройдя и половины пути до Отрантского пролива, адмирал получил сообщение о движении германских крейсеров на восток и повернул восвояси[126].
Именно «Гебену» и «Бреслау», а не австрийским морским силам, предстояло стать главными противниками российского Черноморского флота в Первой мировой войне. Однако и в последующие недели – вплоть до вооруженного выступления Турции 16 (29) октября 1914 г. и блокирования ее средиземноморского побережья англо-французским флотом – возможность появления австрийских кораблей в Черном море не сбрасывалась со счетов адмиралом А. А. Эбергардом и его штабом. 17 (30) августа, лишившись иллюзий относительно способности союзников преградить противнику путь в Дарданеллы, командующий Черноморским флотом обратился с письмом к министру иностранных дел. Андрей Августович констатировал, что «поведение Турции в вопросе с немецкими крейсерами не оставляет сомнения в том, что для наших врагов проливы всегда открыты», и просил С. Д. Сазонова «самым определенным образом поставить в известность Францию и Англию, что появление в проливах австрийских судов лишит наш флот возможности оспаривать господство на море»[127]. Шефу российского внешнеполитического ведомства оставалось лишь «вновь настоять перед союзными правительствами на необходимости ни в коем случае не допустить присоединения к турецкому флоту австро-венгерских военных судов»[128].
Сэр Э. Грей – министр иностранных дел Великобритании в 1905–1916 гг.
Император Карл и командующий флотом адмирал М. Ньегован на линкоре «Вирибус Унитис», 1917 г.
* * *
Тревоги многоопытного адмирала А. А. Эбергарда оказались напрасными. Нейтралитет, а затем – в апреле 1915 г. – выступление Италии на стороне Антанты и устойчивое господство союзников на Средиземноморском театре военных действий сделали невозможной экспедицию австро-венгерского флота на помощь Турции и заставили австрийское командование ограничить операционную зону своих морских сил Адриатическим морем.
Что же касается австрийских дредноутов, появления которых в Черном море добивались Энвер и Джемаль и опасался А. А. Эбергард, то они почти всю войну простояли в Поле, оберегаемые для эфемерного генерального сражения с морскими силами союзников. Только на исходе Великой войны – в июне 1918 г. – главные силы флота Габсбургов единственный раз приняли участие в набеге на Отрантский барраж под флагом адмирала М. Хорти (в начале 1918 г. он сменил адмирала М. Ньегована, который в свою очередь возглавил флот после смерти А. Хауса в августе 1917 г.). Но уже на этапе оперативного развертывания линкор «Сцент Истван» был потоплен случайно встретившимися у острова Премуда итальянскими торпедными катерами, и австрийская эскадра возвратилась в базу. 1 ноября в гавани Полы подрывной заряд, доставленный итальянским катером-торпедой, оправил на дно «Вирибус Юнитис», а оставшиеся «Тегетхоф» и «Принц Ойген» попали в руки победителей. Первый передали Италии (в строй линкор не вводился и в 1924–1925 гг. был пущен на слом в Специи), а второй достался французам, которые использовали корабль как плавучую мишень и в июле 1922 г. потопили на маневрах близ Тулона[129].
96
РГАВМФ. Ф. р-2246. Оп. 1. Д. 117. Л. 6.
97
Кондратенко Р. В. Морская политика России 80-х годов XIX века. С. 264, 265.
98
Писарев Ю. А. Балканы в военных планах Германии и Австро-Венгрии накануне первой мировой войны (1912–1914 гг.) // Новая и новейшая история. 1987. № 4. С. 37–48.
99
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 326. Л. 1–2об.
100
Проблема покупки «Рио-де-Жанейро» изучалась в российском морском ведомстве весной и летом 1911 г., однако сделка не состоялась в силу целого ряда причин: низкая степень готовности корабля, отсутствие достоверной информации о тактико-технических элементах линкора, невнятная позиция бразильского правительства. Любопытно, что МГШ, обосновывая необходимость покупки корабля, имел в виду необходимость усиления Балтийского флота, «турецкий» же фактор использовался скорее как средство нажима на правительство и законодателей, весьма трепетно относившихся к перспективе потери превосходства на Черноморском театре. (См. подробнее: Козуренок К. Л. Санкт-Петербург – «Rio de Janeiro» // Гангут. Вып. 38 (2006). С. 80–101.)
101
Речь может идти о линейных кораблях «Амиранте Латорре» и «Амиранте Кокрейн», сооружаемых в Англии по заказу правительства Чили, и линкорах «Морено» и «Ривадавия», строящихся с США для Аргентины. Вопрос о покупке «южно-американских» дредноутов для компенсации усиления турецкого флота был поднят в докладе МГШ Морскому министру от 19 декабря 1913 г. (1 января 1914 г.). В январе 1914 г. И. К. Григорович в письмах премьер-министру В. Н. Коковцову и министру иностранных дел С. Д. Сазонову предложил приобрести чилийские и аргентинские дредноуты. В середине февраля 1914 г. было получено принципиальное согласие Министерства финансов и Николая II на покупку последних двух кораблей, однако сделка не состоялась из-за отказа правительства Аргентины. (См. подробнее: Шацилло К. Ф. Русский империализм и развитие флота накануне первой мировой войны (1906–1914). С. 154–157.) В июне 1914 г. морским агентом в Англии капитаном I ранга Н. А. Волковым прорабатывался вопрос о покупке обоих или по крайней мере одного из упомянутых выше чилийских кораблей, однако и в этом случае сделка не состоялась из-за нежелания властей Чили продавать линкор кому-либо, кроме англичан. (АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 324. Л. 32, 33.)
102
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 309. Л. 42.
103
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 309. Л. 40.
104
«Состояние Балтийского флота вызывает серьезные опасения…» // Гангут. Вып. 17 (1998). С. 51.
105
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 461. Л. 33.
106
«Состояние Балтийского флота вызывает серьезные опасения…». С. 52–57.
107
Кононов И. А. Современный боевой флот. В кн.: Пути к голгофе русского флота (исторический очерк). Нью-Йорк: Зарубежная морская библиотека, 1961. С. 126.
108
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 322. Л. 4, 5.
109
Российское военно-морское руководство прогнозировало начало европейской войны в 1915 или 1916 гг. (АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 303. Л. 17–26об. – Пояснительная записка начальника МГШ контр-адмирала светлейшего князя Ливена от 30 января 1912 г. по поводу закона о флоте и судостроительной программы.)
110
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 461. Л. 38.
111
Флот в первой мировой войне. Т. 2. Белли В. А. Действия флотов на Северном, Средиземноморском и океанских театрах. М.: Воениздат, 1964. С. 199.
112
Приведен состав боеготового ядра австрийского флота, отмобилизованного и способного решать задачи по предназначению к началу августа 1914 г. (по данным Warship International. 1971. No. 3. P. 299). Общий же численный состав флота Австро-Венгрии включал, не считая совершенно устаревших кораблей, 12 линкоров (из них три дредноута), девять крейсеров (в том числе три броненосных), 19 эсминцев, 60 миноносцев и 14 подводных лодок. (Томази А. Морская война на Адриатическом море / Пер. с франц. СПб.: Цитадель, 1997. С. 74.)
113
Воинское звание в австрийской армии, соответствующее генерал-лейтенанту.
114
Pomiankowski J. Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches. Zürich – Leipzig – Wien: Amalthea-Verlag, 1928. S.74, 75.
115
Хаус Антон (1851–1917) – гросс-адмирал (1916). На флоте с 1869 года. Преподавал в военно-морской академии, в должности командира корвета участвовал в боевых действиях в Китае (1900). Делегат от Австро-Венгрии на 2-й Гаагской мирной конференции (1907). Начальник военно-морской инспекции военного министерства (1913–1917).
116
Wagner A. Der Erste Weltkrieg. Ein Blick zurük. Wien: Verlag HEROLD, 1993. S. 81.
117
Необходимое условие (лат.).
118
Koop G., Schmolke K.-P. Die Großen Kreuzer Von der Tann bis Hindenburg. Bonn: Bernard – Graefe Verlag, 1998. S. 62; Лорей Г. Операции германо-турецких морских сил в 1914–1918 гг. / Пер. с нем. М.: Госвоениздат, 1938. С. 462–475.
119
Цит. по: Braun T. Warum hat Admiral Haus der deutschen Mittelmeerdivision seine Hilfe versagt? // Marine-Rundschau. 1928. Heft 7. S. 295.
120
Цит. по: Алексеев М. Военная разведка России. Первая мировая война. Книга III, часть первая. С. 19.
121
Цит. по: Braun T. Op. cit. S. 294.
122
Исламов Т. М. Австро-Венгрия в первой мировой войне. Крах империи // Новая и новейшая история. 2001. № 5. С. 18.
123
См. подробнее: Фей С. Сараевское убийство и австрийский ультиматум. В кн.: Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2005. С. 392, 393.
124
Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии. С. 25.
125
Braun T. Op. cit. S. 292.
126
Ibid. S. 292, 293.
127
РГАВМФ. Ф. 609. Оп. 1. Д. 380. Л. 1.
128
Там же. Л. 2.
129
Цит. по: Braun T. Warum hat Admiral Haus der deutschen Mittelmeerdivision seine Hilfe versagt? // Marine-Rundschau. 1928. Heft 7. S. 295.