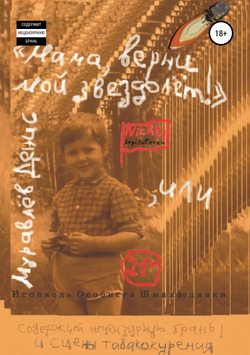Читать книгу «Мама, верни мой звездолёт!», или Исповедь Особиста Шмакодявки - Денис Николаевич Муравлёв - Страница 3
Голубой вагон, или Кое-что о позавчерашнем отдыхе
ОглавлениеГолубой вагон бежит-качается,
скорый поезд набирает ход…
Песенка Крокодила Гены
Электричкой из Москвы
я поеду, я поеду в никуда…
Ва-Банкъ
Возьми меня с собой
в тот дивный дальний край…
Вячеслав Бутусов
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
оранжевые песни оранжево поют!
Анастасия Стоцкая
Листья жёлтые над городом кружатся,
С тихим шорохом нам по́д ноги ложатся.
И от осени не спрятаться, не скрыться.
Листья жёлтые, скажите, что́ вам снится.
Маргарита Вилцане и Ояр Гринбергс
Вагон мерно покачивался. Ноги не доставали до пола. Впервые сидя в поезде метро рядом с Ним, он не понимал, где находится. Она – на коричневых сиду́шках прямо напротив Них, смущаясь окружающих пассажиров, поначалу в отчаяньи отвернулась, а затем вновь настойчиво строго, но любяще посмотрела на него, на его безвольно отвисшую нижнюю челюсть, с некоторой неприязнью увидев, как из угла его рта по подбородку безнадёжно дебильно, бесконечно медленно и невыразимо печально вытекает пузырящаяся слюна, и попыталась заботливыми материнскими глазами поймать его блуждающий взгляд. Но его взгляд, хотя и блуждал где-то в досягаемости, но не зацеплял делавшихся ему знаков, несмотря на то, что Она снова и снова предпринимала попытку сказать ему то, что́ потом всегда повторяла в минуту таких рецидивов в течение всего периода его взросления, а иногда уже во взрослом состоянии, когда он приходил к Ней в чём-то помочь по дому и перекусить, и теперь, в его нынешнем беспомощном детстве, – повторяла то, что́ Она непременно должна была донести до него в данный момент, пока никто не увидел, – хотя весь вагон давно уже с интересом поглядывал на любопытную семейку, – донести теперь же, срочно, как самая заботливая Мама в мире, призванная следить и исправлять – кто, как не Она! – любые недостатки своего драгоценного, должного стать образцом для подражания и настоящим мужчиной сынули:
– Закрой рот! – и сама, как всегда в таких случаях, глядя прямо на него, несколько раз с магическими повторами сомкнула свои наманикюренные либо красным, либо, как в этот день, коралловым, переходившим в тревожный оранжевый, цветом, изысканные интеллигентские пальчики у своего рта, как всегда накрашенного губной помадой какого-либо пурпурного оттенка либо же, как сейчас, подобного Её маникюру цвета нежной заботы и какой-то светлой тревоги. Одновременно с этим жестом шаманки Она не́мо, но показательно, подобно рыбе в аквариуме, прихлопывала своим ярким ртом вплоть до того момента, пока он не обратит своего, или уже не своего, рассеянного внимания на эти жестикуляции и мимические па́ссы и не встретится с Ней взглядом и пока до его спящего наяву сознания не дойдут передаваемый Ею сию минуту оранжевый сигнал и вся важность этого сигнала для его настоящего и его бу́дощности.
Но Настоящий Мужчина упрямо не замечал Её.
– Это какая?! Мы свою не проехали?! Нам не здесь выходить, случайно?! – вдруг озабоченно спросила Она, искренне всполошившись, активно вертясь во все стороны в поисках не расслышанного никем по общей невнимательности названия станции и в то же время обращаясь то ли к нему́, то ли к Нему́.
– Эй! Тебя вроде спрашивают о чём-то! – окликнул Он сверху Настоящего Мужчину, которого держал за детскую ручонку. – Заснул, что ли?! Эй! – и Он дёрнул его ладошку, пытаясь пробудить от летаргии. А потом, потеряв всякую надежду на успех, махнул отделывающимся жестом в направлении Неё:
– Успокойся, давно проехали. Причём далеко и надолго. Это «Пионерская» – он сюда сам потом приедет, в своё время. Если успеет, конечно, – и ехидно прибавил, снабдив новую издевательскую гипотезу нарочитым покачиванием влево-вправо поднятым вверх указательным пальцем левой руки с зажатыми в ней перчатками:
– И если доживё-ёт ещё!
Она вздрогнула с исказившимся лицом. Но Он снова отмахнулся – на этот раз вальяжно-успокаивающе:
– Да ладно! Не та «Пионерская», что ты подумала, другая! Нечего дё-ёргаться! – тем самым отвлекая Её от возможной запоздалой истерики.
– Какая?! Где?! – закудахтала Она.
– Ну… там, там… Там есть ещё одна «Пионерская», станция электричек, кажется… Что-то строят там они, что ль… В том царстве… Или в то царство дорогу прокладывают, всё никак не достроят… Там у них помехи какие-то, что ли…
– У тебя, что ль, помехи в твоём радиоприёмнике? – попыталась неуклюже съехидничать Она.
– У них, говорю, помехи. Ты бы за своим приёмником лучше следила. Поняла, про какое?!…
– Ха́м трамвайный! Тридевятое, что ль? – ухмыльнулась Она, всем своим видом выражая сомнение.
– Ага… тридеся́тое! – грубо передразнил Он Её возобновившиеся сказочные настроения.
– Да ладно тебе! Таких царств нет! Есть Тридевятое Царство, а Тридесятое – это Госуда-арство, – Она величаво махнула маникюром, словно освобождаясь от сказанного Им.
– Успоко-ойся! Говорю «Тридесятое» – значит, Тридесятое!
– Это почему это?! – возмутилась Она.
– Раздевсятое, мать твою! Потому что не́т у них там никакого государства, и Госуда-арства тоже не́т. Ни тридевятого, ни тридесятого, вообще – никакого… Одно царство да царствование… – и Он, побудительно подмигнув маленькому, настороженно следившему за их разговором, наставительно и успокаивающе прибавил:
– Не бойсь, там по-другому пишется… Римские знаешь вот циферки такие? – и, поймав его безвольное секундное внимание, Он быстро, но чётко взмахнул указательным пальцем, как бы трижды перекрестив перед ним воздух и прочертив древнеримскую тридцатку, а потом увенчал свой вердикт:
– А церквей-то, церкве́й сколько понастроят: тут и там! там и тут! На каждом углу! С крестами! Ад – да и только! – и ошарашенно-глумливо провёл ладонью по своему интеллигентному, но сейчас выражавшему полный сарказм лицу, – тем самым как бы сменив маску. А маленький мальчик рядом с Ним на слове АТ перевёл напряжённый взгляд с Него на Неё и обратно.
Из динамиков вагона послышалось: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция – «Кунцевская», платформа слева!» Поезд вновь тронулся…
– Ну, давай! Теперь рассказывай! – сказал Он с горящими любопытством глазами Сидящей напротив них, словно Она обещала им обоим, но до последнего придержала какую-то увлекательную интригующую историю, – и стегнул перчатками по второй ладони.
– Что́ расска́зывать-то? Ты о чём вообще? – спросила Она уже вроде бы хладнокровно, но хладнокровие это было заметно напускное, резко нацепленное Ею на себя и как-то ускоренно переохлаждённое.
– Да так, ни о чём… На всякий случай спросил… Может быть, просто что́ забыла рассказать… – изобразил Он лёгкое равнодушие.
– Ну, а я что́ должна?! Всё, что́ я помню, я сразу рассказываю или уже рассказала, – возмутилась Она.
– Так рассказала или рассказываешь? – съехидничал Он.
– Если я чего-то и не рассказала, то ты напомни, напомни. Обычно я не забываю рассказывать Мужу обо всём, как и в данном конкретном случае, – храбрилась Она одновременно игриво и строго, стараясь по-женски воздействовать улыбкой, при этом выставив из сжатого левого кулака, свободного от Её дамской сумочки, указательный палец с тревожным маникюром и направив его на маленького.
– Ага, а вот с этого места поподробнее! Давай теперь сама отвечай: ты о чём? Про какой случай не говорить-то ему? Или говорить всё-таки будем? – зацепился Он за то, что́ Она явно поспешила вымолвить, а потом решила утаить, слегка утратив после Его слов, несмотря на грамотный маскирующий макияж, только что приобретённую где-то дешёвую маску мнимого спокойствия. А Он добавил, не слезая с темы, даже немного прикрикнув:
– Может, про тяжёлый..?! – и едва заметно кивнул подбородком в сторону того, кого имел в виду и кого держал за детскую ручку.
– Какой ещё тяжёлый?! Ты о чём? – мужественно-холодно не сдавалась Она.
– Да так… Забудь… Ни о чём… – теперь Он смотрел вниз на сидящего рядом мальца с убитой Её равнодушием, безысходной и в то же время презрительной заботой. Но после небольшой паузы повернулся обратно к Ней и, глядя Ей в глаза, уже ясно дал понять, что ни за что не слезет с начатой темы и что уже всему вагону очевидно: вопрос задан, дошёл до адресата, но ответ не получен:
– Ну что?! Как погуляли?! – этот вопрос Он задал с некой глуповатой улыбкой, с наигранным интересом повысив голос, но всё же тактично.
– Где-э?! – уклонилась Она от ответа.
– Позавчера. В пятницу. Сегодня же воскресенье. Значит, позавчера!
– С кем это ещё погуляли?
– Я чё, знаю, что ли, с кем ты гуляла?! Меня с вами не́ было, извиня́й, – возмутился Он.
– Ты о чём?! – ничто́же сумня́шеся посмотрела Она Ему в глаза.
– Хха-ха! А-а, ну раз вы ещё не поняли, значит, у вас серьё-ёзные пробле-емы! – объявил Он, словно оценщик металлолома, назначающий цену Её железной стойкости.
– Слушай, успокойся, а!? – отвернулась Она брезгливо.
– Щас всё прекрасно станет понятно. Причём всем! Прекрасно все всё поймём! И вы поймёте сразу, и мы все поймём, и о чём речь, поймём, – как будто конферансье, Он обвёл вокруг себя, а затем махнул в сторону Неё открытой ладонью, которую моментально захлопнул, как бы пресекая любое противоречие.
– Интересно, что́ это ты хочешь дать мне понять, чего я уже сама без вас давно не знаю?! – прыснула Она презрительно.
– Ничё! Нормально! Увидим! Или не увидим… – тоже вариант. От него́ будет теперь зависеть, – и Он, напряжённо стиснув левую руку мальчика, резко встал, с силой рванув его на себя и без оглядки шагнув вперёд на выход, – да так, что малец подлетел, потеряв почву под ногами, и приземлился уже у самых раздвижных дверей вагона, схватившись от ужаса свободной правой ладошкой за гнутый стальной отполированный поручень в торце ряда сидений, а левой накрепко вцепившись в Его правую кисть.
– Отпусти! – грубо бросил Он вниз мелочи и дёрнул детскую ручонку своей взрослой рукой.
Малявка робко и просяще заглянул на секундочку Ему в лицо, неохотно оставил Его руку, понуро отвернулся и сделал свои детские отверженные полшага вправо. Потом попытался снова повернуться к Нему и, поначалу не найдя в себе сил, глядя по́д ноги, но потом расхрабрившись, всё-таки заискивающе взглянул на недосягаемую высоту к Нему наверх и безнадёжно попросил тоненьким голоском:
– Возьми-и меня с собо-ой!
– Куда взять-то, сам хоть знаешь? – строго и всё же как-то снисходительно спросил Он его как бы из жалости к колебаниям детской душонки.
Малявка, стоя от Него в полушаге справа в своей подавленной задумчивости, которая ещё больше усилилась после резкого вопроса, полученного Сверху, из последних сил набрался откуда-то странной, даже идиотичной, детской смелости, посмотрел наверх и звонким голоском немного нараспев попросил:
– В тот диивный даальний краай…
– Аа… хм… ну разве что… Кстати, неплохая песня! Напишем потом, если слова вспомнишь, – оптимистично подмигнул Он мальцу́. – Другие, правда, петь будут – не ты уже. Но если нужные слова вспомнишь, может, и ты тоже будешь подтягивать подголо́сочком где-нибудь там, на задних певчих рядах. Но только если ты сам этого очень захочешь. Ты хочешь?! – Голос Сверху, видимо, намеревался заставить его теперь заколебаться, но и оставить за этой мелочью свободу в принятии решения.
– Да, я хочу́, хочу́! Я о́чень хочу́! – твердя настойчиво и даже где-то по-детски истерично, при этом подскакивая на мысочках, надеялся показать карапет, что эта настойчивость вызвана очень-очень сильной надеждой и что Таку́ю надежду ни за что́ нельзя обманывать, раз уж его́ теперь спросили.
– Ну, раз хочешь… Что ж, видимо, тогда придётся взять, – немного успокаивая его детский надрыв, послышалось Сверху в ответ; и тут же снова резкое:
– Да не то отпустил-то! Поручень отпусти! Перила! Отпускай быстро! Выходим! – прозвучал грубо, но подстёгивающе-спасительно Голос. И вновь, глядя не на него, а куда-то в сторону замедлявшей своё приближение платформы и от этого сперва слепо промахнувшись, но в итоге нащупав тянувшуюся к Нему навстречу снизу детскую ладошку, к обладателю которой, не успевшему впопыхах даже обрадоваться от осознания силы Его, впрочем, небольшой и скорее интеллигентской руки, вновь вернулась торопливая надежда, Он рывком вывел его из вагона, насильно оттолкнув и оттянув влево другой рукой с зажатыми в ней перчатками плохо сработавшую на открывание автоматическую дверь.
Она, словно ходячий секс, стараясь сохранять грацию, едва успела выскочить вслед за Ними двумя со звонким, успокаивавшим, как всегда, и Её саму, и его хохотом: «Ну! Чуть не пропустили! Ну как всегда!» Он же резко повернул влево, видно, зная, куда ведёт, но вдруг замедлил шаг почти до полной приостановки, грозившей им не успеть, – хотя Она-то уже подумала, что им, видимо, надо было пересесть и ехать куда-то ещё дальше, и кудахтала своё: «Куда мы?! Куда мы?!» А Он, несмотря на риск навсегда остаться на этой, в принципе, их станции и грустным хором идти домой, – застыл ровно напротив вагонной сцепки, не обращая внимания ни на тех, кто уже спешил сесть в поезд, ни на выходивших навстречу им, повернулся всем корпусом к нему и к Ней и подчёркнуто долго показал Ей, семенившей сзади, на маленькую голову сынули напряжённым указательным пальцем своей холёной руки, державшей обе перчатки и свободной от отчаянно крепко вцепившегося в Него отпрыска, но с потерявшимся ошалевшим взглядом и распахнутым ртом мотавшего головой в поисках Матери. Потом Он отпустил его и указал сверху на его голову ещё и другой рукой, сказав Ей весело и грубо:
– Вот! Смотри! Видишь?!…
Потом они, еле успев недружной кучкой с горем пополам забраться в первую дверь последнего вагона, захлопнувшуюся сразу за Её спиной под звуки «Осторожно, двери закрываются, следующая станция – «Молодёжная»!», уселись. Она стала успокаиваться, внутренне радуясь, что всё-таки угналась за Ними, слабо скрывая от Них свою светлую взволнованность. С улыбкой поглядывая на Них, поместившихся напротив, Она словно не верила Его теперешнему злому тону, но будто догадывалась и проникала в Его таинственный, никому не объявленный в Его вечной манере сюрпризника новый план по продолжению культурной программы выпавшего им совместного долгого семейного выходного сентябрьского вечера. А Он широко и искренне улыбался Ей и по-доброму, как настоящий любящий Муж и Отец, торжественно и даже как-то от души радостно произнёс, растягивая звук о в слове долго:
– Ну? Видела его?! А теперь смотри: вот та́к он будет теперь до-олго ходить из вагона в вагон метро, пока не вспомнит. А если не вспомнит, то будет всю жизнь так ходить – вплоть до самой смерти… – и, заметив гримасу на Её исказившемся от неприязни лице, издевательски уточнил:
– Своей… Свое-ей! Успокойся! Его смерти! А я ещё добавлю. Причём та́к добавлю, что мало не пока́жется! И сделаю всё для того, чтобы он не вспомнил! Ста́нцию – закро́ем! Ваго́ны – други́е сделаем! Линию метро́ отменим! Авиаре́йсы перенесём!
Она, до сих пор не потерявшая своей веры в предстоящий интересный день, который Ей обещал сперва Его теперешний светозарный вид, а потом и первоначально не распознанный Ею иезуитский повышенно-оптимистический тон, – постепенно начала посматривать на Сидящего напротив с растущим подозрением и беспокойством, впрочем, скрывая вместе со сжатым в кулачки тревожным маникюром и свои глубокие душевные колебания. А рядом с Ним послышалось беспечным детским голоском:
– А кто будет петь эту песенку? Я тоже хочу так петь!
– Да так… Бутуз один. Ты не знаешь… – отмахнулся Он.
– Какой бутус? Какой бутус?!! Говори! – хотел знать детский голос.
– Какой на-адо! Я вот те что́, не бутуз, что ль?! – с мнимой заносчивостью сказал Он, чуть отстранившись и с некоторым коварством поглядев на бутуза из-под наигранно строго сдвинутых бровей, – в этот момент Он выглядел прямо как Карабас Барабас, тем самым весело возвращая бутузу, которого держал за руку, смешливость и уверенность в себе и в Нём. – Посмотри-ка на меня! Ну, чё ска-ажешь? А-аа! То-то! Ещё како́й бутуз! Ты ещё не знаешь, какой я буту́з!! Но! Можешь узнать при желании, – и Он смешно надул щёки на своём худом лице.
– Какой?! Говори! – уже нагловато потребовал вдруг оживившийся бутуз, в глазах которого даже появилась весёлая детская искорка.
– Это – пото́м, когда вырастешь.
– Когда!? Когда?!
– Тебе вот ско́лько лет?
– Нуу… – обещал снова надолго задуматься маленький бутуз, потупившись в подтрясывавший пол вагона.
– Мне вот, например, вообще два! Веришь?! – прищурил Он один глаз.
– Не-а! Не верю тебе! Врун! – развеселилась и звонко захохотала мелочь.
– Ну, не веришь – и не верь себе. Потом поверишь, – и, снова повернувшись к Ней, резко, хотя и сохраняя присущую Ему вежливость, объявил:
– А надо будет – и отменим!
– Что? Хм… Мои́ рейсы? – скептически-презрительно ухмыльнулась Она, чуть ли не переходя на хохот. – Ха! Отменяй сколько хочешь! Мои рейсы невозможно отменить!
– Это почему это?! – Он не смог скрыть удивления.
– Потому что они неотменяемы в при́нципе! Где захочу – там и бу́ду летать! И когда́ захочу! У меня уже давно все биле́ты на все мои ре́йсы на десятки лет вперёд приобретены, если не больше, – с жёсткой расстановкой отчеканила Она, а потом, несколько поразмыслив, добавила:
– Впрочем, насчёт «больше», а также «дальше»: тут вот чего не знаю – того не знаю… Но в любом случае и при любых раскладах – на всю оставшуюся жизнь! Ха-ха! Надеюсь, это все́м понятно! – объявила Она с улыбчивой спесью на лице, резко подавшись вперёд и вонзая оранжевые когти в тёмно-зелёную глянцевую поверхность крокодиловой дамской сумочки, лежавшей у Неё на коленях.
– Ла-адно! Успокойтесь себе там! Надо будет – отменим, – опять отмахнулся Он от Её наду́мок своей чёткой чистой ладонью.
– Ну, давай-давай, я посмотрю. У вас отменялок нет, чтобы мои рейсы отменять, – продолжая глумиться, Она опустила взгляд пониже, а потом перевела его чуть влево, словно показывая, что в эту минуту ищет, но никак не находит предполагаемые отменялки у Его подопечного.
– Ты про чьи отменялки-то?! – уточнил Он.
– Про его – не про твои же!
Он сделал ладонью, теперь уже как будто затыкая Её, какой-то непонятный, вызывающий странные и, возможно, неприятные сомнения жест – то ли натужно намекающий, что Она явно не о том, о чём думает Он сам, то ли успокаивающий и говорящий, что не надо бы при сыночке, – и, понадеявшись, что Она, может быть, поколеблется и всё же сменит тему, едко спросил:
– Это про какие это?
– Да всё про те же! В данном случае меня его́ отменялки интересуют. Твои-то я видела. Хотя и его отменялки я тоже видела. Но у тебя всё в порядке с отменялками, – осклабилась Она, – а вот как у него будет – ещё посмотрим…
– Где это? Сама хоть знаешь, где видела? – уже стал издеваться Он.
– Да всё там же! – хмыкнула Она.
– А-а, тогда-а-то?… Когда ты под столом сидела? – Он исказил рот в скабрёзной улыбке, казавшейся ещё более циничной на Его холодном лице.
– Да, нет, не тогда – в другой раз. Под стеклянным столом когда, под стеклянным, внизу, сверху через стекло, – и Она, гнушаясь чего-то непонятного, снова посмотрела на Него, превратив свой маникюр в хищные когти, расставленные Ею по глянцевой коже дамской сумочки. – А тогдаа-то, в то-от раз, когда я под те-ем столом сидела, я другие отменялки видела, – и, презрительно и брезгливо ухмыльнувшись, отвернула от чего-то вспомнившегося и унизительного своё красивое лицо.
– А-а, вы всё про одни и те же! – парировал Он.
– А про какие же ещё! – отчего-то задетая за живое, посмотрела Она с ответным вызовом на Него, вцепившись когтями в свою сумочку.
– Да разные есть отменялки. Не всем доступны для понимания только.
– Эт' какие ж такие?! – интригуя обоих и забавляясь как своим вопросом, так и ожидавшейся либо неожиданной полисемантикой ответа, вопрошала Она.
– Успокойся, говорю! Такие вот! Сама знаешь чьи!
– Рейсы или отменялки?
– Это кому как… В принципе, и то и другое… – мнимо успокоился Он, сбавив тон, но оставляя повод для размышлений и сомнения. Потом Он, убрав улыбку с лица, сделал паузу и люто прошипел, глядя Ей прямо в глаза:
– Стррой ссменим!
– Это я и без вас знаю! – фыркнула Она, как лошадь, отчаянно куражась. – Этим нас не напугаешь! – и демонстративно погрозила всем в Их лице указательным пальцем с оранжевым ногтем.
– И я знаю! Мы все знаем. А вы знайте себе там, где вы там себе знаете всё про всё! Раз вас даже этим не проймёшь, то сколько угодно можете там себе знать, что́ вы знаете! – Он будто бы и не заметил Её придурошной бравады и продолжил в уже преспокойной и развесёлой интонации фокусника:
– Даже уже тогда, Там, всё равно – будет! Если не вспомнит. Когда уже дедушкой с палочкой станет – всё равно будет всё из вагона в вагон переходить: из ваго-она – в вагон, из ваго-она – в вагон, из ваго-она – в вагон и так далее!… – водил Он с вальяжным злорадством свободной левой кистью с поджатыми в ней большим пальцем перчатками в воздухе по амплитуде Вечного Маятника, подвешенного под сводом собора Монферрана в Ленинграде, куда позднее, когда малец чуть-чуть подрос, Он сам и отвёз его, забрав отстающего второклассника из школы посреди уроков, – и шепнул То, Что́ должно было, по Его задумке, через много-много лет дать сукину сыну возможность выбраться из всего этого дерьма, но выбраться уже самому́, а именно то́, что ход этого Вечного Маятника и поддерживается, и смещается в силу вращения Планеты.
Теперь Она, через силу стараясь не отводить от Его прямого взгляда своих глаз, стремившихся смотреть только на сына, – принимала каждое слово, весело и чётко проговариваемое Им, за нож, вонзаемый Ей, Матери, в тело. А малец, ощутив собственную предательскую внутреннюю тягу к издевательству, начал подспудно подсказывать Ему, как бы сделать Ей побольнее, колюще-режущими жестами выпрямляя неровно и нервно, но мнимо по-каратэшному вперёд свою напряжённую правую ладонь то в направлении Её шеи, то целясь в сердце, то в живот, а потом повторяя эти магические движения уже зажатым детским кулачком. Она вдруг стала глупо подскакивать на сиденьи вагона при каждом произносимом Им слове. Почувствовав передавшееся мальцу состояние, Он, прервавшись, грубо цыкнул сверху вниз на его всё-таки полные зависимости от Него и полные ужаса от всего происходящего широко открытые глазёнки и раскрытый рот, жадно глотавшие каждую произносимую Им и вдобавок парируемую Ей фразу; а глазёнки, перебегавшие с Неё на Него, запечатлевали в его маленькой голове Их разговор, в котором сам Каратэист уже потерял, кто друг, а кто враг, но который он явно хотел сохранить глубоко в своей маленькой душонке, собирая его слово за словом, как жемчужину за жемчужиной собирают драгоценное ожерелье, которое надо будет потом обязательно как-нибудь – как, он не знал и не думал в тот момент, – вернуть обратно, наверх, Им Обо́им, – но сейчас нужно было просто взять всё то, что́ доносилось до его детских ушек, как драгоценность, всё как есть, с собой, вместить в себя – и унести. Но Отец снова цыкнул, причём цыкнул резко и жестоко, пришпорив в нём ужасу:
– А ты не слу́шай! Не тебе говорят! И ру́ку отпусти! Это я ещё посмотрю, как ты это ожерелье из себя доста́вать бу́дешь! Посмотрим, сколько дерьма́ ты нам наве́рх поднимешь вместе с ожере́льем твоим! Жемчужным. На обозре́ние! Отверни́сь вон туда́ и сиди молчи́ в тря́почку! Вон туда́ – в у́гол гляди! И ру́ку отпусти, говорю! – и Он, снова повернувшись к Ней, продолжил измывательски подсмеиваться то ли над Ней, то ли над собой, то ли над ним. А потом, брезгливо скинув с себя обиженную маленькую лапку своего щенка, выдержал очередную паузу и серьёзно отчеканил Ей в лицо:
– А то ещё знаешь, как у нас двери резко иногда закрываются. Можно ведь и в вагон не успеть зайти однажды, так и остаться… – говоря это, Он направил большой палец освободившейся правой руки в пол, а потом задорно перекинул перчатки из левой ладони в правую, повторив большим пальцем левой руки, а потом обеими руками свой поражающий жест зрителя гладиаторского боя. Малец, пронаблюдав такую ловкость Отца, даже округлил глазёнки.
– Как?! Как Ты мог!? Я этого не вынесу! – сокрушённо, на вдохе, паралитически дёрнув руками, ужаснулась Она, словно получила последний удар кинжалом с проникновением в грудную клетку. А брошенный щенок, пробудившийся, было, от таких Отцовских фокусов, всё-таки отвернулся в указанную Отцом сторону и насильно замкнулся в себе и в своём присутствующем отсутствии.
– А вот так! Так! – улыбнулся Он с тонкой издёвкой. – Ты и не узнаешь, успокойся! Но сейчас – ты это знаешь и будешь жить всю жизнь, зная! И мучиться до самого конца: сбудется – не сбудется… Это потом, после уже… Как цветик-семицветик: сбудется – не сбудется… сбудется – не сбудется… – и, глумливо изобразив разудалое гадание на цветике из пустых, завядших чёрных пальцев своих кожаных перчаток и сам себе подхихикнув, жёстко добавил:
– Причём неизвестно, что́ там сбудется, а что́ – не́ сбудется… И перед собственной смертью – бу́дешь! Но… всё равно ничего не сможешь поделать! Ни́-че́-го́!
– продолжал Он цинично улыбаться Ей в лицо, в абсолютном отрицании покачав в стороны указательным пальцем.
А Она – которая потом сама же и сводила сына, уже немного подросшего, в московский ТЮЗ на советский театральный спектакль под названием «И всё-таки она вертится!», при этом оговорившись и поставив ударение в слове вертится не на тот слог, но сразу же машинально и удивлённо усомнившись прямо в прыщавое лицо подростку в правильности поставленного Ею самой ударения, да так, что тот потом долго, всю свою юность, непременно качая головой влево-вправо, подобно Маятнику Фуко́ в Исаакиевском соборе, задавался вопросом: «Так всё-таки она ве́ртится?… Или всё-таки она верти́тся?» – теперь, после прозвучавшего ужасного Отцова пророчества, с онемевшим будто бы в ожидании смерти лицом, обречённо подобрав внутрь ладоней свой маникюр и так, одними подогнутыми фалангами придерживая свою сумочку, уже не смогла ни встать, ни выйти без их помощи на следующей станции с радужным названием «Молодёжная», которую впоследствии, незадолго до запуска в эксплуатацию вагонов новой конфигурации, действительно отрезали от Филёвской ветки метро, предварительно приплюсовав к этому обрубку ещё одну станцию с не менее оптимистическим названием «Крылатское», путь к которой от их станции затем надолго закрылся. Впрочем, это произошло гораздо позднее, когда стоимость поездки на метро в любом направлении перестала укладываться, как раньше, в один советский пятак и, пройдя путь в 10, 15, 20, 50 внезапно подешевевших копеек и далее, после полного искусственного обесценивания сверху внутренних советских денег, начала исчисляться рублями и десятками рублей. Когда и почтовые марки Почты России перестали быть почтовыми марками Почты СССР, стоившими когда-то копейки. Когда маятник Фуко был снят со свода собора Монферрана реакционными церковниками, принявшимися заново за своё извечное мракобесие, проникающее даже в школы. Когда городские телефоны-автоматы уже больше не срабатывали не только на затёртые двушки и однушки, а вообще перестали принимать какие-либо смешные детские копеечки. Ведь сам рубль уже стал мелочью.