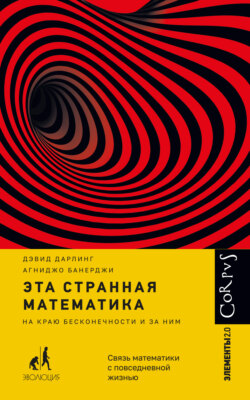Читать книгу Эта странная математика. На краю бесконечности и за ним - Дэвид Дарлинг - Страница 8
Глава 4. Порядок на грани хаоса
ОглавлениеВ математике есть красота и романтика. Он совсем не скучен, мир математики. Это удивительное место, в нем стоит побывать.
Маркус дю Сотой
Поищите в словаре синонимы к слову “хаос” – и найдете “неразбериху”, “беззаконие” и “анархию”. Но тот хаос, который изучают математики и другие ученые в рамках относительно нового научного направления, называемого теорией хаоса, – совсем другое дело. В нем нет места бесчинствам и вседозволенности. Напротив, он подчиняется строгим законам, его наступление предсказуемо, а поведение проявляется в виде изысканных геометрических узоров. Цифровая передача данных, моделирование электрохимических процессов в нервных клетках, гидроаэродинамика – это лишь немногие области, в которых находит практическое применение теория хаоса.
Но мы подойдем к теме главы окольным, более живописным путем и для этого зададим обезоруживающе простой вопрос: какова длина побережья Великобритании? Именно его вынес в заголовок своей статьи, опубликованной в 1967 году в журнале Science, французско-американский математик польского происхождения Бенуа Мандельброт, теоретик в исследовательском центре IBM имени Томаса Джона Уотсона. Казалось бы, ничего сложного – нужно просто точно измерить длину береговой линии, вот и все. На деле же результат будет зависеть от масштаба измерения, причем измеренная длина может увеличиваться неограниченно (то есть она не сходится к какому-то постоянному значению) – или, по крайней мере, до тех пор, пока масштаб не достигнет атомного. Впервые странный вывод о том, что береговая линия острова, страны или континента не имеет строго определенной длины, озадачил английского математика и физика Льюиса Фрая Ричардсона за несколько лет до того, как над ним всерьез задумался Мандельброт.
Будучи пацифистом, которого интересовали теоретические корни международных конфликтов, Ричардсон пытался понять, зависит ли вероятность войны между двумя странами от протяженности их общей границы. Изучая эту проблему, он обратил внимание на существенные расхождения в длине пограничной линии, указываемой в разных источниках. Например, по данным испанских властей, длина испанско-португальской границы составляла 987 километров, а португальцы оценивали ее в 1214 километров. Ричардсон понял, что такое расхождение в измерениях – не обязательно ошибка, а может объясняться тем, что в расчетах использовались разные “мерки”, то есть минимальные единицы длины. Попробуйте измерить расстояние между двумя точками на изрезанном бухтами берегу или вдоль извилистой пограничной линии воображаемой гигантской линейкой длиной в 100 километров, и оно получится меньше, чем если бы линейка была половинной длины. Чем короче линейка, тем более мелкие извилины она может учитывать при измерении, включая их длину в конечный ответ. Ричардсон продемонстрировал, что при последовательном укорачивании “линейки” (то есть единицы измерения) длина извилистой береговой или пограничной линии увеличивается неограниченно. Очевидно, измеряя протяженность испанско-португальской границы, португальцы использовали более короткую меру длины.
Великобритания и Ирландия на фотографии, сделанной 26 марта 2012 года спутником НАСА Terra.
В 1961 году, когда Ричардсон опубликовал результаты своих исследований, мало кто обратил внимание на его удивительное открытие, сейчас называемое эффектом Ричардсона или парадоксом береговой линии. Но теперь оно видится нам важным вкладом в развитие удивительной новой области математики, которую Мандельброт, человек, прославивший ее, в итоге назвал “прекрасной, чертовски трудной и с каждым днем все более ценной”. В 1975 году Мандельброт придумал название для странных штуковин, ставших объектом изучения этой новой дисциплины: фракталы. Фрактал – это нечто (например, кривая или пространство), имеющее дробную размерность.
Чтобы заслужить звание фрактала, фигуре нужно всего лишь иметь сложную структуру в любом масштабе, сколь бы крупным он ни был. Подавляющее большинство кривых и геометрических фигур в математике – не фракталы. Окружность, например, нельзя считать фракталом потому, что, если постепенно увеличивать часть составляющей ее кривой, она будет все больше и больше походить на прямую линию, после чего, сколько ее ни приближай, ничего нового уже не увидишь. Квадрат – тоже не фрактал. При увеличении его углы не меняют свою структуру, а все остальное выглядит как прямые линии. Чтобы быть фракталом, мало иметь сложную структуру в одной точке или даже во множестве (конечном множестве) точек; структура должна быть сложной во всех точках. То же касается и трехмерных фигур, и фигур более высоких размерностей. Сферы и кубы, например, – не фракталы. Но существует множество фигур различных размерностей, которые являются фракталами.
Вернемся к береговой линии Великобритании. На карте малого масштаба показаны только самые крупные заливы, лагуны и полуострова. Но выйдите на пляж – и вы увидите более мелкие объекты: бухты, косы и так далее. Всмотритесь пристальнее, возьмите лупу или микроскоп, и вы различите совсем неприметные элементы – неровности каждого валуна на берегу. И так все дальше и дальше. В реальном мире приближать объект бесконечно невозможно. На уровне атомов и молекул (а возможно, и раньше) уже нет смысла говорить о более мелких деталях, влияющих на длину побережья, тем более что эта длина меняется каждую минуту из-за эрозии, отливов и приливов. И все же побережье Великобритании и очертания других островов и стран – достаточно близкий аналог фракталов, что объясняет, почему могут так различаться данные разных источников о длине пограничной линии. Глядя на карту Великобритании, не увидишь всей изрезанности побережья, которая становится очевидной, когда идешь по берегу пешком. Вот почему измеренная по карте береговая линия получается короче. А простая прогулка по пляжу не даст столь же точных результатов, как измерение линейкой или еще более прецизионным инструментом всех изгибов и неровностей каменистого берега, обводов валунов и прочих мелких деталей. При этом с увеличением точности измерений длина береговой линии возрастает экспоненциально, вместо того чтобы приближаться к некоему конечному “истинному” значению. Другими словами, при наличии измерительного оборудования с достаточно высокой разрешающей способностью вы можете получить любую, сколь угодно большую, длину береговой линии (разумеется, в тех пределах, что устанавливает атомная природа вещества).