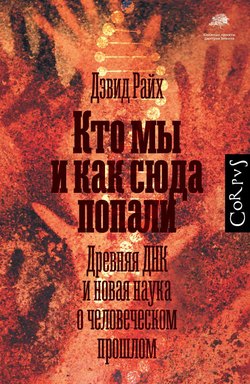Читать книгу Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом - Дэвид Райх - Страница 4
Часть первая
Ранняя история нашего вида
Глава 1
Как геном объясняет, кто мы такие
ОглавлениеПоворотный момент в человеческой изменчивости
Чтобы понять, почему вообще человеческую историю можно изучать с помощью генетики, нужно представлять себе, как в геноме кодируется информация (а геном мы определим как полный набор генетических “букв”, унаследованный от родителей). В 1953 году Фрэнсис Крик, Розалин Франклин, Джеймс Уотсон и с ними Морис Уилкинс открыли, что человеческий геном записан на сдвоенных последовательностях, состоящих из цепочек химических строительных блоков, так называемых нуклеотидов, их в последовательности около 3 млрд – значит, в сумме 6 млрд. Нуклеотидов всего четыре типа. Их можно представить в виде букв алфавита: А (аденин), Ц (цитозин), Г (гуанин), Т (тимин)1. То, что мы называем “ген”, – это крошечный фрагмент таких цепочек, обычно он длиной около тысячи букв, и на генах, как по клише, идет сборка белков, выполняющих в клетке основную работу. Между генами на цепочке расположена некодирующая ДНК, иногда ее называют “мусорная ДНК”. Порядок букв-нуклеотидов можно прочитать с помощью машин, реагирующих на химически индуцированные световые импульсы, исходящие от того или иного нуклеотида; эти световые импульсы регистрируются по мере продвижения вдоль последовательности ДНК. Четыре нуклеотида испускают свет разного цвета, и по цвету можно определить, какая буква – А, Т, Г или Ц – сканируется компьютером.
Рис. 3. Геном состоит из нуклеотидов, которые можно представить в виде букв А – аденин, Ц – цитозин, Г – гуанин, Т – тимин; в человеческом геноме около трех миллиардов пар таких букв. В сдвоенных геномах примерно 99,9 % этих букв одинаковые, но оставшаяся 0,1 % имеет различия, отражающие накопленные со временем мутации. По этим мутациям можно судить, насколько родственны два человека друг другу, и получить очень точную информацию о прошлом.
Естественно, большинство биологов интересует информация, закодированная в генах, но есть и другая сторона дела – различия между последовательностями. Источником различий могут быть ошибки при копировании геномов (эти ошибки мы знаем как мутации), произошедшие в какой-то момент прошлого. Именно эти различия, появляющиеся с частотой одна на тысячу “букв”, генетики и исследуют для расшифровки нашей истории. На три миллиарда букв в обычных неродственных геномах приходится около трех миллионов различий. Если на том или ином участке генома плотность различий повышена, значит, этот участок генома принадлежал более далекому общему предку, потому что мутации в геноме накапливаются примерно с одинаковой скоростью. Следовательно, плотность различий служит своего рода биологическим стоп-кадром, фиксирующим время, прошедшее от того или иного ключевого события.
Первые чудеса исторической генетики открыли на базе изучения митохондриальной ДНК. Это крошечная часть всего генома – одна двухсоттысячная часть, – которая наследуется только от матери к дочери, к внучке и т. д. В 1987 году Алан Уилсон с коллегами отсеквенировали митохондриальную ДНК (то есть прочитали ее последовательность) нескольких сотен людей со всего света. Сравнив мутации в этих ДНК, команде Уилсона удалось для людей в выборке построить генеалогическое дерево по материнской линии. И вот что они обнаружили: мутации самой древней ветви этого дерева, то есть отделившейся от общего ствола раньше всех, выявляются только у людей, живущих южнее Сахары. Отсюда они предположили, что предки современного человечества жили в Африке. Зато все неафриканское человечество происходит от ветви, отошедшей от общего ствола позже всех2. Эти выводы стали важной частью теории об африканских предках современных людей. В ней великолепным образом соединились данные археологии, генетики и морфологии скелетов, которые все вместе говорят о том, что предки современных людей жили в Африке несколько сотен тысяч лет назад. Зная скорость накопления мутаций, Уилсон с коллегами подсчитали, что последний общий предок всех линий, а точнее, общая прародительница, “митохондриальная Ева”, жила где-то 200 тысяч лет назад3. Согласно наиболее правдоподобным новейшим уточнениям, эта цифра составляет 160 тысяч лет, но нельзя забывать, что и она, как и все другие генетические датировки, неточна, потому что реальная скорость появления мутаций у человека остается в известной степени неопределенной 4 .
Эти цифры очень порадовали – существование столь недавнего общего предка позволяло сбросить со счетов мультирегиональную гипотезу, согласно которой теперешнее человечество, населяющее различные части Африки и Евразии, унаследовало многие черты от Homo erectus, расселившихся по всему миру очень давно, около 1,8 млн лет назад. Homo erectus – это вид людей, у которых мозг на треть меньше нашего и которые производили простые грубые каменные орудия. В рамках мультирегиональной гипотезы предполагается, что потомки Homo erectus эволюционировали параллельно в Африке и Евразии, дав начало популяциям, существующим на этих территориях и поныне. И если она верна, то митохондриальные последовательности ныне живущих людей должны были разойтись те самые 2 млн лет назад, когда люди Homo erectus распространились по миру. Но генетические данные не укладывались в эту гипотезу. И то, что все современные люди имеют общую митохондриальную прародительницу с датировками в десять раз моложе, означает, что нынешнее человечество происходит от африканских предков, покинувших Африку гораздо позже.
Если обратиться к антропологическим данным, то сценарий будет выглядеть следующим образом. Самые ранние скелетные остатки “анатомически современного” человека – то есть с признаками, попадающими в диапазон изменчивости сегодняшнего человечества, и в особенности это касается выпуклого свода черепной коробки – датируются приблизительно 200–300 тысячами лет назад, и все они из Африки5. Если опираться на достоверные данные, за пределами Африки на Ближнем Востоке анатомически современный человек появился не раньше 100 тысяч лет назад, и до отметки в 50 тысяч лет следы его присутствия очень и очень редки6. Резкая смена типов каменных орудий тоже указывает на рубеж 50 тысяч лет, когда происходили какие-то исключительные изменения. Этот рубеж маркирует в Западной Евразии наступление верхнего палеолита, как его называют археологи, а в Африке соответствующий рубеж именуется поздним каменным веком. После этого перехода технологии производства каменных орудий стали совсем другими, и они менялись каждые несколько тысяч лет, что несравнимо с прежним черепашьим темпом. От того времени осталось гораздо больше артефактов, раскрывающих духовную и культурную жизнь людей: бусины из страусиной скорлупы, полированные каменные браслеты, краски для тела из рыжей охры (это оксид железа) и первое в мире изобразительное искусство[3]. Древнейшая известная статуэтка датируется возрастом 40 тысяч лет – это вырезанный из мамонтового бивня “человек-лев”, найденный в пещере Холенштайн-Штадель в Германии7. А 30-тысячелетние рисунки доледниковых животных на стенах пещеры Шове во Франции и сегодня считаются примером выдающегося искусства.
Резкое ускорение в смене картин жизни, которое мы видим в археологической летописи моложе 50 тысяч лет, отражено и в популяционной истории. Населявшие Европу неандертальцы, которых считают “архаичными” (архаичными в том смысле, что признаки их морфологии не попадают в диапазон изменчивости современных людей), после этого рубежа вымерли, сдав свои последние оборонительные позиции в Западной Европе где-то 41–39 тысяч лет назад, примерно через 8 тысячелетий после прихода туда современных людей8. Смена популяций произошла повсюду в Евразии, а также в Южной Африке – там, судя по имеющимся данным, люди оставляли обжитые территории, на их месте появлялись носители культур позднего каменного века9.
Напрашивается логичное объяснение, что причиной всех этих изменений стало расселение популяций линий современных людей, среди чьих предков была и “митохондриальная Ева”. Они практиковали изготовление новых сложных изделий, и они же по большей части замещали прежнее население повсюду, куда бы ни пришли9.
Манящий образ генетического переключателя
Когда в 80–90-х обнаружилось, что генетика может в какой-то степени рассудить конкурирующие гипотезы о происхождении человека, то сразу появились радужные надежды, что именно в рамках генетики можно получить простые ответы на все вопросы. Некоторым даже казалось, что генетика способна на нечто большее, чем просто дать фрагмент доказательств в пользу гипотезы расселения современного человека из Африки и с Ближнего Востока 50 тысяч лет назад. А может, вообще причиной расселения людей из Африки стали изменения в генах? Тогда получится объяснение ускорения хода археологической летописи, простое и красивое, записанное всего четырьмя буквами в ДНК.
Ричард Клейн стал тем антропологом, который и выдвинул эту идею: поведенческие инновации, отличающие нас от наших предков, могут объясняться неким генетическим изменением. Он говорил, что революция позднего каменного века в Африке или позднепалеолитическая в Евразии – а это около 50 тысяч лет назад, – когда богато проявились признаки поведения современного человека[4], связана с распространением одной мутации, повлиявшей на работу мозга, отсюда и новые орудийные технологии, и сложное поведение.
Согласно клейновской теории, такая мутация должна была стать триггером для становления определенного полезного признака, такого как символический язык. Клейн полагал, что современное поведение появилось только после этой мутации, а до того люди были к нему просто не способны. В подтверждение этой теории можно привести примеры по другим видам, когда небольшое число генетических изменений приводит к ярким адаптациям: так, мексиканскому дикому растению теосинте с маленькими колосками потребовалось всего пять мутаций, чтобы стать той кукурузой с огромными початками, которую мы видим на полках сегодняшних супермаркетов10.
Едва появившись, теория Клейна тут же подверглась принципиальной критике. Среди серьезных оппонентов отмечу Салли Макбрерти и Элисон Брукс, показавших, что каждый из признаков, которые у Клейна характеризуют отличительное для современных людей поведение, появился в Африке или на Ближнем Востоке на десятки тысяч лет раньше перехода к верхнему палеолиту (или позднему каменному веку)11. Но даже если и так и никакой из признаков нельзя считать новым, Клейн все же подчеркнул кое-что очень важное. Признаки современного поведения после рубежа в 50 тысяч лет становятся многочисленными и неоспоримыми, что поднимает вопрос о вкладе биологии в эту революцию.
В период всеобщей веры во всесилие генетики, будто она способна дать простые ответы на великие загадки, появляется Сванте Пэабо. Он начал свою работу в лаборатории Алана Уилсона, когда там только-только открыли “митохондриальную Еву”, а потом, став изобретателем почти всех приемов, подготовивших революцию древней ДНК, прочитал геном неандертальца. В 2002 году Пэабо с коллегами исследовали мутации в гене FOXP2 в линиях людей и шимпанзе и обнаружили две мутации, различающие их. В итоге решили, что вот они, кандидаты на роль триггера крупных изменений, произошедших 50 тысяч лет назад. За год до того медики выяснили, что мутации в этом гене приводят к нарушениям речи – пациенты не могут справиться со сложным языком и грамматическими правилами, хотя другие когнитивные функции у них в норме12. А Пэабо со своей группой показал, что белок, кодируемый FOXP2, очень консервативен: на протяжении сотни миллионов лет эволюции, разделяющей мышей и шимпанзе, этот ген оставался неизменным. Но в человеческой линии после ее размежевания с линией шимпанзе появилось сразу две мутации в этом гене, что означает ускорение его эволюции именно в человеческой линии13. Позже в лаборатории Пэабо была выращена мышь со встроенным работающим человеческим вариантом гена FOXP2. Мышь была во всех отношениях обычной, но только пищала по-особенному, а это согласуется с тем, что данный ген влияет на звуковую функцию14. Конечно, две мутации не могли вызвать все те изменения, которые происходили 50 тысяч лет назад, потому что неандертальцы тоже несут эти две мутации15, но группа Пэабо выявила и третью мутацию, определяющую, когда и в каких клетках ген FOXP2 будет синтезировать свой белок. И эта третья мутация есть у всех ныне живущих людей, но отсутствует у неандертальцев, так что именно она и стала претендовать на роль эволюционного игрока в процессе становления современного человека после его отделения от неандертальцев сотни тысяч лет назад16.
Так или иначе, вне зависимости от функции FOXP2 у современных людей, именно поиском генетической базы становления современного человека Пэабо обосновывал работы по секвенированию геномов древних людей17. В серии статей, вышедших между 2010 и 2013 годами, где разбирались прочтения полных древних геномов, в том числе и неандертальских, Пэабо указал сотню тысяч участков ДНК, по которым все современные люди отличаются от неандертальцев18. И в этом списке мутаций наверняка прячутся какие-то очень важные, но мы еще не умеем как следует в них разбираться, что еще раз подчеркивает нашу общую проблему – в вопросах чтения генома мы пока сущие дети. И если мы уже научились расшифровывать отдельные слова – мы знаем, как последовательность “букв” ДНК преобразуется в белки, – то смысл целых предложений пока нам неведом.
Открою печальную правду: примеры мутаций, подобных FOXP2, то есть частота которых увеличилась только у современного человека и функция которых известна, можно по пальцам пересчитать. И в каждом из таких случаев знания добывались в упорной многолетней битве, аспиранты и специалисты выводили с помощью генной инженерии мышей и рыбок… Так что потребуется что-то вроде эволюционного Манхэттенского проекта, чтобы проверить функцию каждой мутации, отличающей нас от неандертальцев. Мы, как представители своего вида, просто обязаны запустить такой Манхэттенский проект по эволюционной биологии человека. Но даже если мы его запустим и выполним, результаты, как я предвижу, будут настолько сложны – ведь человеческое в нас складывается из очень и очень многих отдельных генетических изменений, – что мало кто сможет понять их суть. По моему мнению, на уровне молекулярных механизмов вряд ли найдется когда-нибудь логически красивое и эмоционально удовлетворительное объяснение поведенческим новшествам современных людей.
Пускай изучение одного-двух участков генома не может дать содержательного объяснения эволюции поведения современного человека, но вот что удивительно: достижения геномной революции позволили осветить другую часть проблемы – историческую. Анализируя весь геном целиком – не только митохондриальную ДНК или Y-хромосому, которые дают нам короткие временные отрезки, но всю историю предков, записанную в геноме, – мы начали набрасывать новую картину нашего пути к тем нам, которыми мы теперь стали. Она строится на миграциях человека, и в этой книге мы рассмотрим, как перемешивались популяции.
Сотня тысяч Адамов и Ев
В 1987 году журналист Роджер Льюин окрестил общего предка по женской линии (прародительницу) всех живущих сегодня людей “митохондриальной Евой”, и это наименование сразу стало ассоциироваться с историей творения: вот она, женщина, наша общая праматерь, чьи потомки расселились по всему свету19. “Митохондриальная Ева” захватила воображение буквально всех, это наименование используется сейчас не только в обиходе, но и многими учеными, обозначая общего предка людей по материнской линии. Но оно больше сбивает с толку, чем помогает что-то понять. Кажется, будто наша ДНК унаследована от каких-то двух конкретных индивидов, и чтобы узнать нашу историю, достаточно проследить изменения в женской линии и в мужской линии; первая представлена митохондриальной ДНК, а вторая Y-хромосомой. В рамках этой вдохновляющей возможности в 2005 году Национальное географическое общество запустило “Генографический проект”: были собраны образцы мтДНК и Y-хромосом у миллиона людей из самых разных этнических групп. Но проект устарел, даже не начавшись. Он был скорее познавательно-развлекательным, а научных результатов дал не так много. С самого начала было ясно, что информация о человеческом прошлом, которую можно извлечь из мтДНК и Y-хромосомы, уже по большей части разобрана и гораздо более интересные сюжеты скрываются в целых геномах.
На самом деле в геномах записана история самых разных предков – десятков тысяч независимых генеалогических линий, а не только тех, которые прослеживаются по мтДНК и Y-хромосоме. Чтобы это понять, нужно хорошо себе представлять, что геном за пределами мтДНК – это не одна нераздельная последовательность, передающаяся в поколениях от конкретного предка, а последовательность мозаичная. В клетке сорок шесть мозаичных кусочков – это хромосомы, сорок шесть физически обособленных длинных цепочек. Геном состоит из 23 хромосом, а так как у человека два генома, от папы и от мамы, то общее число хромосом получается сорок шесть.
Но и сама хромосома состоит из мозаики еще более мелких кусочков. Представим, что в женской хромосоме, попавшей в яйцеклетку, одна треть, скажем, принадлежала отцу женщины, а две трети – ее матери, и это результат переплетения материнской и отцовской копий данной хромосомы в яичниках женщины. Когда в яичниках формируется яйцо, то в среднем происходит сорок пять подобных перетасовок, а у мужчин при образовании спермы – двадцать шесть перетасовок, так что в сумме на поколение приходится семьдесят одна перетасовка20. А когда мы углубляемся в прошлое от какого-то конкретного генома, то с каждым поколением число возможных перетасовок в нем будет многократно увеличиваться, и этот геном будет слагаться из все большего числа перетасованных фрагментов предковых геномов.
Все это означает, что наши геномы хранят информацию от великого множества предков. Геном любого человека составляют 47 цепочек ДНК, представляющих хромосомы от мамы и от папы плюс материнская митохондриальная последовательность. Отодвинемся на поколение в прошлое – теперь в этом геноме будут 47 фрагментов хромосом от мамы и папы и 71 фрагмент от их мам и пап, то есть около 118 разных фрагментов. Если отойти еще на одно поколение в прошлое, то в геноме окажется уже 189 разных фрагментов (47 плюс 71 плюс следующие 71), переданных от четырех прабабушек и прадедушек. Смотрим в прошлое дальше – и добавляемое в поколении число предковых фрагментов ДНК быстро увеличивается, но число предков обгоняет его за счет того, что предыдущих прародителей всегда двое. Скажем, десять поколений предков дадут 757 фрагментов, а число самих предков будет 1024 – значит, среди них наверняка окажется сотня-другая предков, от которых в конкретном геноме вообще не осталось никакой ДНК. А если отступить на двадцать поколений в прошлое, то число предков окажется в тысячу раз больше числа предковых фрагментов ДНК в нашем конкретном геноме, поэтому очевидно, что подавляющая часть реально существовавших предков любого человека не оставила в его геноме никаких фрагментов своих ДНК.
Эти цифры показывают: генеалогическая история, реконструированная по историческим свидетельствам, совсем не то же самое, что история генетического наследия. Так, Библия или хроники королевских фамилий содержат записи, кто родил кого на протяжении десятков поколений. Но, даже имея подобные точные сведения, можно утверждать почти наверняка, что королева Елизавета II английская не унаследовала никакой ДНК от Вильгельма Завоевателя, который пришел в Англию в 1066 году и, как считается, был праотцом Елизаветы в 24-м поколении21. Это вовсе не означает, что у нее нет ДНК от столь далеких предков; мы должны это понимать в том смысле, что лишь 1751 из всех ее 16 777 216 генеалогических предков 24-х поколений оставили королеве свою ДНК. А это настолько ничтожная доля, что единственное, что могло поставить Вильгельма в ряд Елизаветиных генетических предков, – это тысячекратное пересечение его генеалогических потомков, что выглядит маловероятным даже с учетом высокого уровня инбридинга в английской королевской семье.
Чем дальше от нас поколение, тем больше в нашем геноме будет рассеяно предковых фрагментов, от все большего и большего числа предков. Заглянем на 50 тысяч лет в прошлое – и увидим в нашем геноме более сотни тысяч фрагментов предковой ДНК, а это больше, чем людей в любой из живших тогда популяций. Так что мы унаследовали ДНК от практически всех членов тогдашней популяции, имевших на тот момент приличное число отпрысков.
Рис. 4. С каждым поколением назад в прошлое число моих (и ваших) предков удваивается. При этом приходящее от них в каждом поколении число новых фрагментов ДНК увеличивается только на 71. Это означает, что среди моих предков восемь или больше поколений назад найдутся такие, кто не оставил мне никакого ДНК-наследия. А если уйти на 15 поколений назад, то вероятность того, что каждый мой предок передал мне толику своей ДНК, окажется исчезающе мала.
Однако есть некоторый временной предел, дальше которого невозможно продвинуться, сравнивая геномы. Если мы будем прослеживать тот или иной фрагмент ДНК поколение за поколением в прошлое, то в какой-то момент упремся в такую точку, начиная с которой все окажутся потомками одного предка, и сравнение ныне живущих людей ничего не говорит о времени дальше (древнее) этой точки. Астрофизик назвал бы такую ситуацию черной дырой: действительно, дальше этого общего предка никакая информация не может просочиться. Для митохондриальной ДНК такая черная дыра находится примерно 160 тысяч лет назад, это датировка “митохондриальной Евы”. А черная дыра для подавляющей части остального генома – где-то между пятью и шестью миллионами лет назад, так что эта часть дает информацию о временах существенно более древних, чем мтДНК22. А за ними все темно.
Как мы теперь можем прослеживать в прошлое многочисленные линии в геноме – это просто фантастика. Когда я думаю о геноме, то моему внутреннему взору представляется не какая-то материя здесь и сейчас, а нечто из глубокого прошлого, гобелен из разноцветных ниток, которые суть цепочки ДНК, передающиеся от родителей к детям, внукам и праправнукам, исчезающие где-то в глубине времен. Эти нити перевиваются между собой, охватывая целые родственные пучки даже большего числа предков и неся информацию о размерах и структуре каждой из популяций. Так, к примеру, когда афроамериканец говорит, что у него 80 % западноафриканских кровей и 20 % европейских, то это нужно понимать так, что 80 % всех его индивидуальных нитей уходят в Западную Африку, а 20 отправляются в Европу 500 лет назад, еще до европейского колониализма и соответствующей волны миграций и появления полукровок. Но и это всего лишь часть правды, как несколько кадров, выхваченных из фильма о прошлом. Если смотреть шире, то 100 тысяч лет назад большая часть и афроамериканских предков, и вообще всех нас жила в Африке.
История, которая сложилась из геномных тысяч
В 2001 году был впервые отсеквенирован человеческий геном. Это подразумевает, что удалось прочитать большую часть составляющих его химических букв. Из них около 70 % принадлежали одному человеку, афроамериканцу23, но некоторая доля пришла и от других людей. В 2006 году в продажу поступили роботы, уменьшившие затраты на полногеномное прочтение в десятки тысяч раз, а потом и в сотни тысяч, так что стало экономически доступно геномное картирование множества людей. И их можно было сравнивать целиком, а не только некоторые отдельные кусочки генома, как, скажем, митохондриальную ДНК. А раз не отдельные кусочки, а много разных, то можно проследить судьбу десятков тысяч предковых линий. С этой точки наука о нашем прошлом круто изменилась. Ученые смогли получить на порядки больше данных и на их основе оценить, насколько результаты по мтДНК и Y-хромосоме сопоставимы с заключениями по всему геному.
В 2011 года Хен Ли и Ричард Дурбин пришли к заключению, что в геноме каждого человека содержится информация о множестве его предков, и это не просто умозрительная гипотеза, а реальность. В своих рассуждениях Ли и Дурбин взяли за основу тот факт, что геном индивида сложен из двух половинок – материнской и отцовской. Значит, можно подсчитать число мутаций, отличающих геном матери от генома отца, что дает возможность оценить время существования общего предка для каждого фрагмента родительских геномов. Потом, зная диапазон этих датировок – то есть времени существования сотни тысяч “фрагментарных” Адамов и Ев, – Ли и Дурбин определили размер предковых популяций в разные моменты прошлого. В маленькой популяции будет увеличена вероятность, что два случайно выбранных генома являются производными одного и того же генома, то есть у них общий родитель24. А в большой популяции эта вероятность существенно ниже. Поэтому те моменты прошлого, когда численность популяций снижалась, должны характеризоваться непропорционально высокой долей участков ДНК с признаками общих родителей. В стихотворении Уолта Уитмена “Песня о себе” есть такие строки: “По-твоему, я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе. (Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей)”[5]. Уитмен такими словами мог вполне говорить об эксперименте Ли и Дурбина, о том, что каждый человек несет в себе историю целой популяции, историю множества разных своих предков, отображенную в геноме.
Что оказалось неожиданным в работе Ли и Дурбина, так это свидетельства долгого периода низкой численности неафриканской популяции, наступившего после разделения африканской и неафриканской части человечества. Этот период в десятки тысяч лет отслеживается по высокой доле общих предков25. Замечу, что само общее для неафриканских ДНК-фрагментов “бутылочное горлышко” – имеется в виду низкое число предков, от которых произошло гигантское по численности сегодняшнее неафриканское население, – не стало такой уж неожиданностью. Однако до этой работы не было никаких данных о его продолжительности. Представлялось вероятным, что группка людей, пересекших Сахару и оказавшихся в Северной Африке, а оттуда переместившихся в Азию, начала наращивать численность уже через несколько поколений. Но результаты Ли и Дурбина никак не укладываются в гипотезу о неудержимой экспансии современного человека и в Африке, и за ее пределами около 50 тысяч лет назад. Наша история, по-видимому, не так прямолинейна, как сюжет о доминантах, которых, где бы они ни появились, ждал немедленный успех.
Рис. 5
Как мы отказались от простых объяснений, посмотрев на дело с “полногеномной” стороны
И вот, получив возможность посмотреть по-новому на биологию человека сквозь призму полных геномов (вот как мощно продвинулись технологии последних десятилетий!), мы начали реконструировать популяционную историю людей в немыслимых прежде подробностях. В результате открылась картина, совсем не похожая на тот простой сюжет, который читался по митохондриальной ДНК. Не похожа она оказалась и на те выдумки с одной-двумя мутациями, которые якобы обеспечили всесветное распространение узнаваемого современного поведения человека, обозначившее переход к позднему каменному веку в Африке или верхнему палеолиту в Евразии (насколько можно судить по археологии этих территорий).
В 2016 году мы с коллегами адаптировали метод Ли и Дур бина26 к своей задаче: мы сравнили людей со всего мира с популяцией, в которой осталась наибольшая доля наследия от самой древней линии современных людей, то есть той, которая ответвилась от общего ствола ныне живущих людей раньше всех. Речь идет о бушменах (или, по-другому, сан), популяции охотников-собирателей Южной Африки. Как и во многих других исследованиях на эту тему27, мы нашли28, что их отделение началось около 200 тысяч лет назад и завершилось более сотни тысяч лет назад. Такой вывод следует из того, что плотность мутаций, отделяющих геномы бушменов от генома представителей любого другого небушмена, единообразно высока. Это означает, что у бушменов с остальным человечеством нашлось совсем немного общих предков в интервале последней сотни тысяч лет. Пожалуй, столь же глубокое отделение от общего ствола хорошо заметно у групп пигмеев, населяющих центральноафриканские леса. Такое размежевание человеческих популяций, по крайней мере некоторых, настолько древнее, что становится трудно принять гипотезу единственной мутации, круто поменявшей человеческое поведение на современное где-то незадолго до позднего каменного века (верхнего палеолита). А раз временные рамки данной ключевой мутации, повлиявшей на поведение, должны попасть в интервал этого перехода, то у одной части человечества эта мутация будет иметь повышенную частоту – как раз там, где мутация появилась, – а у другой части человечества, той, что отделилась раньше, она должна быть редкой. Но при этом все живущие сейчас люди одинаково владеют понятийным языком и совершенствуют свои культуры в своеобычном человеческом ключе.
Второе препятствие, не позволяющее встать на сторону генетического переключателя, выявляется, когда мы пытаемся по методу Ли и Дурбина отыскать в последовательности ДНК такие участки, которые имеют общую для всех предковую форму в интервале непосредственно перед верхним палеолитом или поздним каменным веком. Казалось бы, лучший кандидат на эту роль – ген FOXP2, как мы поняли из предыдущих исследований. Однако мы выяснили, что ранний предковый вариант этого гена, общий для всех ныне живущих людей, существовал более миллиона лет назад29.
И то же самое со всеми остальными генами – нам не удалось выявить такого участка последовательности (без учета митохондриальной ДНК и Y-хромосомы), для которого предковый для всех сегодняшних людей вариант существовал бы позже 320 тысяч лет назад. А это время – много раньше, чем требуется по гипотезе Клейна. Если бы Клейн был прав, то нашлись бы места в геноме, для которых общая предковая форма разделилась на ветви в интервале последней сотни тысяч лет. Но по-видимому, таких мест в нашем геноме просто нет.
Наши результаты не вычеркивают полностью гипотезу о точечном ключевом изменении. В геноме имеется небольшая часть с хитрыми фрагментами, которые трудно изучать, и мы их исключили из анализа. Но если бы то самое ключевое изменение существовало, оно бы уже проявилось из любого секретного места. Временной масштаб генетических инноваций человека и популяционной дифференциации гораздо больше, чем можно было предполагать по митохондриальной ДНК и другим, дореволюционным, генетическим данным. Если мы собираемся искать в геноме подсказки для разгадки специфики человеческой природы, то вряд ли дело ограничится одной-двумя прямыми мутациями.
Полногеномный подход, ставший возможным после технологической революции 2000-х, очень быстро привел к пониманию, что нужно расставаться также и с клейновским упрощенным представлением об эволюции человека, – это не просто отбор, работающий с несколькими генами. После опубликования баз данных по полным геномам многие генетики (и я вместе с ними) начали разрабатывать методы поиска мутаций, находящихся под действием отбора30. Сначала мы искали то, что попроще, – примеры отдельных мутаций, на которые естественный отбор действовал очень мощно. Такие варианты нашлись: например, мутации, позволившие переваривать коровье молоко во взрослом возрасте, или вызвавшие потемнение либо посветление кожи для адаптации к местному климату, или обеспечивающие устойчивость к малярийным паразитам. И мы, взявшись всем миром, вполне успешно справились с задачей, выявив подобные мутации. Такие мутации, едва появившись, быстро увеличили свою частоту, потому на большой выборке людей удается найти общего недавнего предка с данной мутацией, тогда как у другой части популяций, во всем остальном сходной, этой мутации нет. Подобные события оставляют глубокие метины в картине геномной изменчивости, и их без особого труда можно обнаружить.
Молли Пржеворски и ее коллеги несколько умерили восторг от раскопок этой золотой жилы. Их работа сосредоточилась на вопросе, какие опознавательные знаки может оставить в геноме естественный отбор. И в 2006 году они продемонстрировали, что метод сканирования геномов ныне живущих людей пропускает почти все такие знаки, просто из-за того, что для их обнаружения не хватает статистической мощности данных, и что при сканировании геномов одни типы отбора видны лучше, чем другие31. Затем в 2011 году под руководством Пржеворски было выполнено исследование, показавшее, что, по-видимому, лишь небольшая часть эволюции человека включала сильный естественный отбор новых полезных мутаций, прежде не имевшихся в человеческой популяции32. Поэтому те красивые примеры, которые легко удалось найти, такие как способность переваривать коровье молоко во взрослом возрасте, – это исключения33.
Если отбросить идею об отборе, мощно действовавшем на единичные мутационные изменения и в результате быстро увеличившем их частоту, то какова была доминанта отбора в человеческой популяции? Для ответа на этот вопрос важный ориентир дало изучение человеческого роста. Генетики, занятые в медицине, в 2010 году собрали данные по геномам 180 тысяч человек с измеренным ростом. Они выделили 180 независимых генетических характеристик (вариантов), присущих, как правило, невысоким людям. А это означало, что данные генетические варианты или те, что находятся близко от них в последовательности ДНК, играют первостепенную роль в итоговом снижении роста. В 2012 году исследование было продолжено: в отличие от Северной Европы, в популяции Южной Европы в этих 180 позициях чаще были именно те варианты, что соответствуют невысокому росту, и различия оказались столь очевидны, что объяснить их мог только естественный отбор – после расхождения южных и северных европейцев он либо уменьшил рост на юге, либо увеличил рост на севере34. А еще больше об этой истории мы узнали в 2015 году из исследования Иэна Мэтьесона и его коллег, работавших в моей лаборатории с древней ДНК. Мы построили последовательности ДНК 230 древних европейцев на основе образцов их костей и зубов. Анализ этих последовательностей вполне допускал действие естественного отбора на мутации, уменьшавшие рост фермеров, освоивших Южную Европу 8 тысяч лет назад, либо увеличивавшие рост предков североевропейцев, населявших степи Восточной Европы более пяти тысяч лет назад35
3
В 2018 году уран-ториевым методом удалось заново датировать наскальные рисунки из трех пещер Юго-Восточной Испании (Ла-Пасьега, Мальтравиесо и Ардалес); датировки наиболее древних рисунков составили 65 тысяч лет. Это на 20 тысяч лет раньше любых кроманьонских рисунков. Эти и некоторые другие данные подтверждают, что символизм существовал у неандертальцев вне связи с символизмом современных людей. См.: Hoffmann et al., 2018, Science, 359, p. 912–915, Hoffmann et al., 2018, Science Adv., 4, eaar5255. (Прим. перев.)
4
Имеется в виду: сложные составные орудия, ритуальное поведение, включая погребения, символизм и искусство. (Прим. перев.)
5
Перевод К. Чуковского.