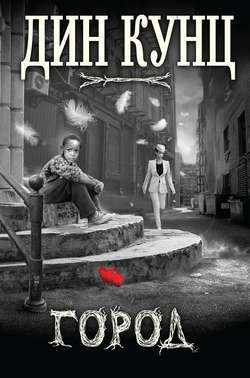Читать книгу Город (сборник) - Дин Кунц - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Город
ОглавлениеВоспринимайте каждое мгновение священным. Придайте каждому ясность и значение, каждое должно быть осознано, в каждом есть истинная и присущая ему завершенность.
Томас Манн.
«Лотта в Веймаре: Возвращение любимой»
Пролог
Малколм дает мне магнитофон.
– Ты должен записать свою жизнь, – говорит он.
– По мне, лучше жить сейчас, чем говорить о том, что было.
– Не обо всем, – уточняет Малколм. – Только… ты знаешь, о чем.
– Мне говорить о том, что ты и так знаешь?
– Люди должны это услышать, – напирает он.
– Какие люди?
– Все, – отвечает он. – Времена сейчас грустные.
– Времена мне не изменить.
– Это грустный мир. Ты должен хоть немного поднять ему настроение.
– Ты хочешь, чтобы я оставил за кадром все темное?
– Нет, чел, – качает головой Малколм, – без темного тебе не обойтись.
– Знаешь, я бы обошелся. Без проблем.
– На фоне темного светлое смотрится ярче.
– А когда я закончу говорить, ты знаешь, о чем… Что потом?
– Ты издашь книгу.
– Ты намерен прочитать эту книгу?
– Обязательно. Но кое-что прочитать не смогу: слова расплывутся перед глазами.
– А если эти отрывки я прочитаю тебе вслух?
– Если ты сможешь разглядеть слова, – отвечает Малколм, – я буду тебя слушать.
– По книге я прочитать смогу. Наговаривать эти слова на магнитную ленту – вот что меня убьет.
1
Меня зовут Иона Эллингтон Бейси Хайнс Элдридж Уилсон Хэмптон Армстронг[1] Керк. Насколько себя помню, город я любил всегда. Моя история – история взаимной любви. Еще это история утраты и надежды, и странности, таящейся под поверхностью повседневной жизни, странности, глубина которой бесконечна.
Улицы города не вымощены золотом, как говорили некоторым иммигрантам перед тем, как те отправлялись в путешествие через полмира, чтобы добраться сюда. Не все молодые певцы, или актеры, или писатели становились звездами вскоре после того, как покидали свои маленькие города ради ярких огней, хотя, возможно, именно так они это себе представляли.
Смерть живет в метрополисе, как живет она и везде, и убийств здесь гораздо больше, чем в тихой, сонной деревеньке, больше трагедий, больше ужаса. Но большой город – место, где творятся чудеса, где есть магия света и магия тьмы, с которыми я неоднократно сталкивался в моей полной событиями жизни. Не зря же в одну из ночей я умер, и пробудился от вечного сна, и продолжил жить.
2
В восемь лет я встретил женщину, которая заявляла, что она и есть город, хотя поведала она мне об этом только два года спустя. Она говорила, что, прежде всего, большие города – это люди. Конечно, не представлялось возможным обойтись без офисных зданий, и парков, и ночных клубов, и музеев, и всего прочего, но в итоге – именно люди, те, кто живет в городе, делают его великим или он таковым не становится. И если город великий, у него обязательно есть душа, сотканная из миллионов нитей-душ тех, кто жил в этом городе в прошлом и живет сейчас.
Женщина говорила, что у этого города особенно чувствительная душа, и долгое время она размышляла над тем, а какой должна быть жизнь для тех, кто здесь обитает. Город волновался, что мог не оправдать надежд многих своих жителей несмотря на все, что он им предлагал. Город знал себя лучше, чем его мог знать любой горожанин, знал все свои виды, и запахи, и особенности, и секреты, кроме одного: каково это – быть человеком и жить среди многих тысяч миль улиц. И поэтому, заявила женщина, душа города обрела человеческий облик, чтобы жить среди горожан, и стала той женщиной, которую я видел перед собой.
Женщина, которая была городом, изменила мою жизнь и показала мне, что мир гораздо более загадочен, чем тот, что представляет себе человек, отталкиваясь от газет, журналов и телевидения… а теперь еще и Интернета. Мне нужно рассказать вам о ней, а также о том ужасном, волшебном и удивительном, что произошло со мной. Все это имело к ней самое непосредственное отношение, и случившееся до сих пор преследует меня.
Но я забегаю вперед. Грешу этим. Любая жизнь – не одна история. Их в ней тысячи. И, пытаясь рассказать свою, я иной раз ухожу в боковую улицу, тогда как двигаться мне надлежит по главной магистрали, или, если история длиной в четырнадцать кварталов, я вдруг начинаю с четвертого, и потом приходится возвращаться, чтобы кто-нибудь хоть что-то понял.
Опять же, я не набиваю этот текст на клавиатуре, а когда говорю, случается, перескакиваю с одной мысли на другую, как сейчас, наговоривая этот текст на магнитофонную ленту. Мой друг Малколм считает, что никакое это не перескакивание, просто это называется изустной историей. Звучит пафосно, будто я совершенно уверен, что содеянного мной более чем достаточно, чтобы войти в историю. Тем не менее, возможно, лучшего термина не найти. При условии, что вы понимаете: это означает, что я просто сижу и болтаю. После того как кто-то распечатает наговоренное мною, я отредактирую текст, чтобы избавить читателя от «знаете ли», «ох-ах» и бессмысленных предложений, а также с тем, чтобы читатель представлял меня намного более умным. Так или иначе, я вынужден говорить, а не печатать из-за начавшегося артрита пальцев. Пока ничего серьезного, но, раз уж я пианист и никто другой, то должен беречь суставы для музыки.
Малколм называет меня тайным пессимистом из-за того, что я очень часто говорю: «Пока ничего серьезного». Если я чувствую фантомную боль в одной или другой ноге и Малколм спрашивает, почему я массирую голень, я отвечаю: «Что-то заболела, но пока ничего серьезного». Он думает, я убежден, что где-то в вене оторвался сгусток, чтобы чуть позже закупорить сосуд в легких или в мозгу, хотя такая мысль не приходила мне в голову. Я произношу эти три слова, чтобы успокоить моих друзей, тех людей, о которых тревожусь, если они заболевают гриппом, или у них кружится голова, или они чувствуют боль в голенях, потому что я сам успокаиваюсь, когда они говорят мне: «Пока ничего серьезного».
Кем меня никак нельзя назвать, так это тайным пессимистом. Я оптимист, и всегда им был. Жизнь не давала мне причин ожидать худшего. Пока я любил этот город, а любил, насколько себя помню, я оставался оптимистом.
Я уже был оптимистом, когда произошло то, о чем я вам сейчас рассказываю. И хотя я время от времени отклоняюсь от темы, чтобы объяснить то или другое, эта конкретная история началась в 1967 году: мне исполнилось десять лет, а та женщина сказала мне, что город – это она. К июню того года я переехал с мамой в дом дедушки. Моя мать, ее звали Сильвией, была певицей. Моего дедушку звали Тедди Бледсоу, просто Тед – никогда, Теодор – редко. Дедушка Тедди был пианистом, в его игре я черпал вдохновение.
Его дом мне нравился, с четырьмя комнатами внизу, четырьмя на втором этаже, с одной полной ванной и второй – с душевой кабиной. Рояль стоял в большой гостиной, и дедушка играл на нем каждый день, хотя четыре вечера в неделю выступал в отеле, а три дня – в большом универмаге, в отделе высокой моды, где цена платья зачастую составляла его месячное жалованье на обеих работах, а за шубку просили, как за новенький «Шеви». Он говорил, что всегда получает удовольствие от игры, но дома играл исключительно для удовольствия.
«Если ты хочешь, чтобы музыка жила в тебе, Иона, ты должен каждый день играть по чуть-чуть только для собственного удовольствия. Иначе музыка перестанет радовать тебя, а если ты останешься без этой радости, твоя игра уже не будет доставлять наслаждение тем, кто понимает… да и тебе самому.
За домом – залитый бетоном внутренний дворик плавно переходил в небольшой двор, а перед парадным крыльцом находился палисадник, где рос огромный клен, который осенью пылал, словно костер. Можно сказать, в этом районе жили люди, относящиеся к нижнему слою среднего класса, хотя тогда я таких терминов не знал, да и теперь они у меня не в ходу. Дедушка Тедди не верил в категории, в ярлыки, в условное разделение людей с помощью слов, и я тоже не верю.
Мир в 1967 году менялся, хотя, разумеется, он меняется постоянно. Когда-то это был еврейский район, потом – польско-католический. Мистер и миссис Стайн, которые уехали из дома, но оставались владельцами, сдали его в аренду моим бабушке с дедушкой в 1963 году, когда мне было шесть лет, а через два года им же и продали. Они стали первыми черными, поселившимися в этом районе. По словам деда, проблемы возникали с самого начала, понятно какие, но не настолько серьезные, чтобы у них возникло желание съехать.
Дедушка называл три причины, которые позволили им остаться. Во-первых, они держались особняком, за исключением тех случаев, когда их приглашали в гости. Во-вторых, он бесплатно играл на рояле на некоторых мероприятиях, проводившихся в Зале святого Станислава, расположенном рядом с церковью, в которую многие жители ходили к мессе. В-третьих, моя бабушка, Анита, работала секретарем у монсеньора Маккарти.
Дедушка скромничал, но мне скромничать по его поводу нужды нет. У него и бабушки не возникало особых проблем также и потому, что они всегда держались с удивительным достоинством. Она была высокой, он – еще выше, и они словно излучали, пусть и не бросающуюся в глаза, гордость. Мне нравилось наблюдать за ними, за их легкой походкой, за тем, как он помогал ей надеть пальто, как распахивал перед ней двери, как бабушка всегда благодарила его. Даже дома дедушка ходил в брюках от костюма, белой рубашке и подтяжках, а играл на рояле или садился обедать только при галстуке. Ко мне они относились с теплотой и любовью, свойственным дедушкам и бабушкам, но рядом с ними я постоянно ощущал, будто нахожусь в присутствии Высшего существа.
В апреле 1967 года моя бабушка умерла на работе от церебральной эмболии. В пятьдесят два года. Видя, какая она живая и энергичная, я просто не представлял себе, что она может умереть. Думаю, никто себе такого не представлял. Когда она так внезапно ушла, ее знакомые не просто горевали: смерть бабушки потрясла их до глубины души. Но выразить свою тревогу они не решались: словно солнце поднялось на западе и зашло на востоке, и все знали, что их ждет апокалипсис, если кто-то упомянет об этом невероятном изменении заведенного порядка, а вот если никто не заикнется о случившемся, то жизнь будет идти своим чередом.
В это время мы жили в квартире в центре города, на четвертом этаже дома без лифта. Два окна гостиной выходили на улицу, а кухни и моей маленькой спальни – на закопченную кирпичную стену соседнего дома, стоящего чуть ли не вплотную. Три вечера в неделю мама пела в блюз-клубе, а пять дней стояла за прилавком кафетерия «Вулвортса», дожидаясь своего шанса на успех. В десять лет я, конечно, что-то знал о жизни, но, должен признать, думал, что мама в равной степени порадуется предложению спеть в более дорогом и престижном клубе или поработать официанткой в стейк-хаусе высшего разряда, и разница заключалась в одном: что будет предложено первым.
Мы остались у дедушки после похорон и потом на несколько дней, чтобы он не чувствовал себя одиноким. До этого я никогда не видел его плачущим. Он взял отгул на неделю и чуть ли не все время проводил в спальне. Но иногда я видел, как он сидел на диванчике у окна в конце коридора второго этажа и смотрел на улицу или в кресле в гостиной, рядом со столиком, на котором лежала непрочитанная газета.
Когда я пытался заговорить с ним, он усаживал меня на колени и предлагал: «Сейчас давай тихонечко посидим, Иона. Впереди у нас еще годы, чтобы поговорить».
Росточка я для своего возраста был небольшого, худенький, тогда как он – высоким и крепким мужчиной, но в такие моменты я чувствовал исходящую от него нежность. И тишина эта отличалась от обычного молчания, глубокая и расслабляющая, пусть и грустная. Несколько раз, положив голову на его широкую грудь, слушая удары его сердца, я засыпал, хотя давно перестал спать днем.
В ту неделю он плакал, только когда играл на рояле в гостиной. Не издавал при этом никаких звуков. Догадываюсь, чувство собственного достоинства не позволяло ему рыдать, но слезы появлялись с первыми звуками и текли, пока он играл, десять минут или час.
И пока я только подвожу вас к истории, пожалуй, необходимо рассказать о его профессиональном мастерстве. Играл он удивительно легко и непринужденно, а столь великолепной левой рукой, пожалуй, никто не мог бы похвастаться. Отель, где он играл, располагал двумя обеденными залами. В одном, с декором во французском стиле и очень формальном – кому-то зал представлялся элегантным, кого-то от одного его вида мутило, – женщина играла на арфе. Второй – оформили в стиле арт-деко, в синих и серебристых тонах, со множеством черных гранитных и лакированных поверхностей. Зал этот больше напоминал вечерний клуб с преимущественно американской кухней. Дедушка играл в зале арт-деко, обеспечивая музыкальный фон, с семи до девяти вечера, по большей части традиционные американские баллады и несколько более быстрых мелодий Коула Портера. Потом к нему присоединялись еще три музыканта, и с девяти до полуночи маленький оркестр исполнял танцевальную музыку 1930-х и 40-х годов. И дедушка Тедди, конечно же, знал, как сбацать свинг на клавишах.
В последовавшие после смерти бабушки дни он играл музыку, которую я никогда не слышал раньше, и до сих пор не знаю названия этих мелодий. Они заставляли меня плакать, и я уходил в другие комнаты, стараясь не слушать, но не мог не слушать эти завораживающие, меланхоличные, пробирающие до мурашек мелодии.
Через неделю дедушка вернулся на работу, а мы с мамой уехали домой, в нашу квартиру на четвертом этаже дома без лифта. Двумя месяцами позже, в июне, когда жизнь матери покатилась под откос, мы переехали к дедушке Тедди.
3
Сильвии Керк, моей матери, было двадцать девять, когда подобное произошло с ее жизнью, и случилось это не в первый раз. Тогда я знал, что она красивая, но не осознавал, какая она молодая. В свои десять я, наверное, считал всех, кому за двадцать, глубокими стариками или вообще не задумывался над этим. Если человеку нет и тридцати, а его жизнь четырежды катилась под откос, такое ни для кого не может пройти бесследно, и думаю, если мама окончательно не потеряла надежду, то былая уверенность в себе к ней больше не вернулась.
Когда это случилось, учебный год уже закончился. Только по воскресеньям общественный центр не предлагал летних программ для детей, и я оставался с миссис Лоренцо на вторую половину дня и вечер. Миссис Лоренцо, тогда худенькая, но с годами располневшая, еще и прекрасно готовила. Она жила на втором этаже и за небольшие деньги соглашалась посидеть со мной, когда других вариантов не оставалось. Обычно в те дни, когда мама три раза в неделю пела в «Слинкис», блюз-клубе. По воскресеньям она там не пела, но сегодня отправилась на званый обед, где намеревалась подписать контракт на работу: пять выступлений в неделю в известном ночном клубе, который никто не назвал бы кабаком. У хозяина клуба, Уильяма Маркетта, хватало контактов в звукозаписывающей индустрии, и шли разговоры о том, чтобы создать группу из трех девушек для исполнения некоторых песен в клубе, а потом сделать одну-две студийные записи. Все шло к тому, что шанс на успех матери не выльется в работу официанткой стейк-хауса высшего разряда.
Мы ожидали, что она придет после одиннадцати, но в дверь квартиры миссис Лоренцо она позвонила в семь. Я сразу понял: что-то не так. Миссис Лоренцо тоже. Но моя мама всегда говорила, что не полощет белье на публике, причем говорила это совершенно серьезно. Маленьким я не понимал, о чем она, потому что, так же, как все, она стирала белье в общей прачечной, которая находилась в подвале, то есть в публичном месте, пусть и не на улице. В этот вечер, по словам мамы, мигрень просто валила ее с ног, хотя раньше я не слышал, чтобы она страдала от головных болей. Поэтому она и не смогла остаться на обед с новым боссом. Когда она расплачивалась с миссис Лоренцо, ее губы сжались в узкую полоску, на лице читалась решимость. А если бы она достаточно долго смотрела в одну точку, то могла бы что-то и поджечь.
– Сейчас мы соберем вещи, – услышал я от нее, едва мы вошли в квартиру и за нами закрылась дверь в коридор, – нашу одежду и вещи. Дедушка заедет за нами, и теперь мы всегда будем жить у него. Ты не возражаешь?
Его дом нравился мне куда больше нашей квартиры, о чем я ей и сказал. В десять я не всегда понимал, какие мысли можно озвучить, а какие лучше оставить при себе, поэтому еще и спросил:
– Почему мы переезжаем? Дедушке так грустно, что он не может жить один? У тебя и впрямь мигрень?
Она не ответила ни на один мой вопрос.
– Пошли, сладенький. Я помогу тебе собрать вещи. Постараемся ничего не оставить.
У меня был ярко-зеленый чемодан из прессованного картона, в который и уместились практически все мои пожитки. На остальные хватило пластикового пакета для покупок из универмага.
– Не стань подонком, когда вырастешь, Иона, – сказала она мне, когда мы собирали вещи. – Будь таким же хорошим человеком, как твой дедушка.
– Так я и хочу вырасти таким же, как он. С кого еще мне брать пример, как не с дедушки?
Прямо я это сказать не решился, но мои слова означали, что я не испытывал желания стать похожим на моего отца. Он ушел от нас, когда мне было восемь месяцев, а вернулся, когда исполнилось уже восемь лет, но ушел опять до моего девятого дня рождения. Этот человек не заморачивался таким понятием, как ответственность. Возможно, это слово отсутствовало в его лексиконе. В те дни я тревожился, что он вернется снова: это грозило катастрофой, учитывая все его проблемы. Среди прочего, он не мог любить кого-либо, кроме себя.
И, однако, мама питала к нему теплые чувства. Если бы он вернулся снова, она могла бы его принять, и по этой причине я не делился с ней своими сокровенными мыслями.
– Ты видел Хармона Джессопа, – продолжила она. – Помнишь?
– Конечно. Он – хозяин «Слинкис», где ты поешь.
– Ты знаешь, я ушла оттуда ради другой работы. Но я не хочу, чтобы ты думал, будто твоя мать может подвести другого человека.
– Ты и не можешь, с чего мне так думать?
– Я хочу сказать, что есть и другая причина, по которой я ушла с работы. – Она уже укладывала мои футболки в пластиковый пакет. – Очень веская. Хармон подбирался ко мне… очень уж близко. Он хотел от меня не только пения. – Последняя футболка отправилась в пакет, и мать посмотрела на меня: – Ты знаешь, о чем я, Иона?
– Думаю, да.
– И я думаю, что знаешь, и мне жаль, что это так. Короче, если бы он даже получил то, что хотел, я бы все равно лишилась работы в его клубе.
Никогда в жизни, ребенком или взрослым, я не ощущал такой злости. Думаю, генов матери мне передалось больше, чем генов отца, вероятно, потому, что он относился к людям, которые стремились брать побольше, а отдавать минимум. В тот вечер, в моей комнате, я просто кипел.
– Ненавижу Хармона! – воскликнул я. – Будь я постарше, устроил бы ему трепку.
– Нет, не устроил бы.
– Устроил бы, да еще какую.
– Успокойся, сладенький.
– Я бы его застрелил.
– Не надо такого говорить.
– Я бы перерезал ему глотку и застрелил.
Она подошла ко мне, смотрела сверху вниз, и я думал, что она прикидывает, как меня наказать за такие слова. Бледсоу не терпели ругательств, жаргона, пустого трепа. Дедушка Тедди часто говорил: «В начале было слово. Прежде всего остального – слово. Поэтому мы говорим так, словно слова имеют значение, потому что они имеют». И теперь мама стояла передо мной, хмурясь, но потом выражение ее лица изменилось, суровость ушла, уступив место нежности. Она опустилась на колени, обняла меня, крепко прижала к себе.
Я чувствовал себя неуютно, смущался, потому что говорил, как мужик, хотя мы оба знали: если бы такой тощий мальчишка, как я, попытался наброситься на Хармона Джессопа, тот сшиб бы меня с ног своим смехом. И за маму я переживал, потому что не нашлось у нее более серьезного защитника, чем я.
Она же посмотрела мне в глаза.
– И как сестры отнесутся к твоим обещаниям перерезать глотку и застрелить?
Поскольку бабушка работала у монсеньора Маккарти, я получил возможность посещать школу святой Схоластики, и монахини, которые вели занятия, без труда скрутили бы в бараний рог кого угодно. Если кто и мог задать Хармону трепку, которую он не забыл бы до конца своих дней, так это сестра Агнес или сестра Катерина.
– Ты не скажешь им, правда? – спросил я.
– А надо бы. И твоему дедушке надо сказать.
Отец моего дедушки был цирюльником, а мать – косметологом, и в их доме жизнь шла согласно длинному списку правил. А когда дети иной раз решали, что правила эти – не более чем рекомендации, мой прадедушка находил иное применение длинной полоске кожи, которую обычно использовал для заточки опасных бритв. Дедушка Тедди не практиковал телесных наказаний, как его отец, но взгляд крайнего неодобрения, брошенный им на провинившегося, доставлял не меньшую боль.
– Я им не скажу, – пообещала моя мать, – потому что ты такой хороший мальчик. У тебя высочайший уровень доверия в Первом материнском банке.
После этого она поцеловала меня в лоб, встала, и мы пошли в ее комнату, чтобы продолжить сборы. Квартиру нам сдавали меблированную, включая и туалетный столик с зеркалом, состоящим из трех частей. Она доверила мне выгрести содержимое ящиков и отделений и положить все это в небольшую квадратную коробку, которую называла дорожным саквояжем, тогда как сама укладывала вещи в два больших чемодана и в три пакета для покупок из универмага.
Она так и не объяснила до конца, почему мы должны переезжать. Многие годы спустя я понял, что она всегда чувствовала себя обязанной доводить до меня причины тех или иных своих поступков. В действительности делать этого ей не требовалось. Я всегда знал, какое у мамы доброе сердце, и любил так сильно, что иногда не мог заснуть, тревожась из-за нее. Прекрасно понимал, что пойти против совести она не могла.
– Сладенький, – в какой-то момент нарушила она тишину, – никогда не думай, что один сорт людей лучше другого сорта. Хармон Джессоп – богач, в сравнении со мной, но бедняк рядом с Уильямом Маркеттом.
Помимо ночного клуба, в котором маме предлагали выступать пять дней в неделю, Маркетту принадлежало еще несколько увеселительных заведений.
– Хармон – черный, – продолжила она. – Маркетт – белый. Хармона выгнали еще из школы. Маркетт закончил один из лучших университетов. Хармон – грязный старый бабник, Маркетт женат, у него дети, хорошая репутация. Но под всей этой внешней несхожестью никакого отличия нет. Они одинаковые. Оба подонки. Никогда не будь таким, Иона.
– Никогда, мама. Не буду.
– Относись к людям по-честному.
– Обязательно.
– У тебя возникнет искушение.
– Нет.
– Возникнет. Возникает у всех.
– У тебя же не возникло.
– Возникало. И сейчас возникает.
Она закончила собирать вещи.
– Так мы едем к дедушке, потому что у тебя нет работы? – сообразил я.
– В «Вулвортсе» есть, малыш, – напомнила она.
Я знал, что иной раз мама плакала, но при мне – никогда. И теперь ее глаза оставались чистыми и ясными, словно у сестры Агнес. Если на то пошло, она многим напоминала сестру Агнес, разве что сестра Агнес не умела петь и красотой не могла сравниться с моей мамой.
– У меня есть работа в «Вулвортсе», и хороший голос, и время. У меня есть ты. У меня есть все, что нужно.
Я подумал о моем отце, о том, как он все время покидал нас, и о том, что мы не оказались бы в столь сложном положении, если бы он выполнил хоть половину своих обещаний, но не решился сказать об этом. Крепче всего меня наказали в тот раз, когда я сказал, что ненавижу отца, и хотя не думал, что должен испытывать стыд за эти слова, мне все равно стало стыдно.
Но потом пришел день, когда презрение к отцу отошло на задний план. К тому времени я до смерти боялся его.
Едва мы закончили паковаться, как раздался дверной звонок. Приехал дедушка Тедди, чтобы отвезти нас к себе.
4
Первый раз жизнь матери покатилась под откос, когда она обнаружила, что беременна мною. Ее приняли в Оберлинскую консерваторию[2] почти на полную стипендию, но, прежде чем она успела начать учебу, выяснилось, что у нее есть я. Она говорила, что на самом деле и не хотела учиться в Оберлине, что это идея родителей, что ее желание – подниматься все выше благодаря своему таланту, а не теории музыки, которую бы усиленно в нее вбивали. Она хотела продвигаться от задрипанных клубов к менее задрипанным, вверх, вверх и вверх, набираясь опыта. Она говорила, что я появился очень вовремя, чтобы спасти ее от Оберлина, и, возможно, ребенком я в это верил.
Закончив среднюю школу, она решила поступать в колледж не сразу, а через год, и дедушка, используя свои связи, достал ей разрешение на работу – в виде исключения – в баре с пианистом, потому что она хорошо играла на рояле. Она играла и на саксофоне, и на кларнете, и быстро училась игре на гитаре. Когда Бог распределял таланты, Он не поскупился и щедро одарил Сильвию Бледсоу. К бару примыкал ресторан, и поваром – не шефом, только поваром – там работал Тилтон Керк. Двадцати четырех лет от роду, на шесть старше мамы, он оказывался рядом всякий раз, когда она уходила на перерыв, а присущее ему обаяние, если вы спросите мое мнение, он получил из источника, никак не связанного с тем, откуда мама черпала свой талант.
Мужчина симпатичный, с правильной речью, он точно знал, какой путь собирается пройти в этой жизни. Едва успев познакомиться с человеком, начинал ему рассказывать о намеченных этапах пути: из просто поваров – в шефы, к тридцати годам – приобретение собственного ресторана, к сорока – собственных ресторанов становится два или три, а может, и больше, если будет на то желание. Готовить он умел и постоянно угощал Сильвию блюдами, как он говорил, в стиле Керка. Одним из таких блюд стал и я, но позже выяснилось, что дети и стиль Керка совершенно не сочетались.
Справедливости ради, узнав, что она намерена рожать, что для Бледсоу других вариантов не существовало, он поступил правильно, женился на ней, но потом – кто бы сомневался – сделал неверный шаг.
Я родился пятнадцатого июня 1957 года. Именно тогда оркестр Каунта Бейси стал первым негритянским оркестром, выступившим в зале «Звездный свет» нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория». В те времена слово «негр» еще было в ходу. Шестого июля Алтея Гибсон, негритянка, стала чемпионкой Уимблдона, тоже первой. А двадцать девятого августа Акт о гражданских правах, предложенный президентом Эйзенхауэром годом раньше, наконец-то получил одобрение Конгресса, и вскоре после этого Айку пришлось использовать Национальную гвардию, чтобы провести десегрегацию школ. В сравнении со всем этим, мое появление на свет Божий стало знаменательным событием только для нас с мамой и наших близких родственников.
Стараясь снискать расположение родителей Сильвии, зная музыкальных кумиров дедушки Тедди, мой отец выбрал мне следующее имя: Иона Эллингтон Бейси Хайнс Элдридж Уилсон Хэмптон Армстронг Керк. Даже спустя столько лет едва ли не все слышали о Дюке Эллингтоне, Каунте Бейси, Эрле Хайнсе, Лайонеле Хэмптоне и Луи Армстонге. Время не со всеми талантами обходится одинаково, и Рой Элдридж ныне известен только особенно преданным поклонникам музыки больших оркестров. А ведь он был одним из величайших тромбонистов всех времен. Зажигал аудиторию. Играл в легендарном ансамбле Джина Крупы с конца тридцатых и в первые годы войны, когда Анита О’Дэй меняла всеобщее представление о том, какой должна быть певица. Уилсон в моем имени – от Тедди Уилсона, которого Бенни Гудмен назвал величайшим музыкантом танцевальной музыки тех дней. Он играл с Гудменом, потом организовал свой оркестр, который, правда, просуществовал недолго, после чего играл, главным образом, в секстете. Если вы найдете любую из двадцати мелодий, которые он записал с оркестром, вы услышите удивительного пианиста-виртуоза.
Живя со всеми этими именами, я иногда мечтал о том, чтобы родиться просто Ионой Керком. Но, поскольку я наполовину Бледсоу, любой, кто когда-нибудь восхищался моим дедушкой – а восхищались им все, его знавшие, – смотрел на меня с некоторым сомнением, словно задавался вопросом, а удастся ли мне стать таким же человеком, как он.
В день, когда я родился, дедушка Тедди и бабушка Анита пришли в больницу, чтобы увидеть меня сначала через окно отделения для младенцев, а потом на руках матери в ее палате, когда меня туда принесли. Отец тоже присутствовал, и ему не терпелось назвать дедушке мое полное имя. Центром внимания, конечно, был я, но ничего об этом не помню, возможно, потому, что мне уже тогда не терпелось учиться играть на рояле.
По словам матери, оглашение моего полного имени не произвело впечатления, на которое рассчитывал мой отец. Дедушка Тедди стоял у кровати мамы, кивая всякий раз, когда Тилтон – он предусмотрительно стоял по другую сторону кровати – называл очередное имя-фамилию. После того как прозвучало последнее, дедушка переглянулся с бабушкой, нахмурился и уставился в пол, словно заметил там грязь или насекомое, которого никак не ожидал увидеть в больнице.
Как вы уже поняли, улыбка дедушки могла растопить лед и довести воду чуть ли не до кипения. Даже когда он не улыбался, лицо оставалось настолько приветливым, что самый застенчивый ребенок сначала улыбался, увидев его, а потом подходил, пусть и видел впервые, чтобы поздороваться с этим дружелюбным гигантом. Но когда он хмурился, и ты знал, что на то есть причина, лицо его вызывало мысли о судном дне и желание вспомнить все хорошее, когда-либо содеянное тобой, которое хоть как-то могло уравновесить твое прегрешение. Он вроде бы не пришел в ярость, похоже, и не злился, просто хмурился, но этого хватило, чтобы в палате воцарилась напряженная тишина. Никто не боялся гнева дедушки Тедди, потому что редко кто видел, как он гневается. Видя, что он хмурится, ты боялся лишь его осуждения, а когда узнавал, что разочаровал дедушку Тедди, приходило осознание, что его благоприятное мнение о тебе нужно, как вода, воздух и еда.
Хотя дедушка никогда этого мне не объяснял, я узнал от него эту важную истину: восхищение дает тебе большую власть над человеком, чем страх.
В любом случае в палате матери дедушка Тедди так долго хмурился, глядя в пол, что мой отец взял руку матери в свою, и она ему это разрешила, покачивая меня другой рукой.
Наконец дедушка поднял голову и посмотрел на зятя.
– Было так много больших оркестров, свинг-оркестров, десятки, может, и сотни, и ни одного похожего друг на друга. Так много энергии, так много великой музыки. Некоторые так и говорят, что именно свинг помог этой стране сохранять победный настрой во время войны. Знаешь, в те годы я играл в двух самых больших и лучших и в двух не столь больших, но хороших. Столько воспоминаний, столько людей, удивительное время. Я восхищался всеми именами, вставленными тобой между Ионой и Керком, восхищался от всей души. Я их любил. Но Бенни Гудмен, он ничуть им не уступал. Чарли Барнет, Вуди Герман, Гленн Миллер. Арти Шоу[3], Господи. Арти Шоу. «Начало танца», «Зов любви», «Бэк-Бэй шафл». С этим временем связано так много имен, что этому бедному ребенку целый лист бумаги потребуется только для их перечисления.
Моя мама сразу врубилась, отец – нет.
– Но, Тедди, сэр, все эти имена… они не наши.
– Да, конечно, – кивнул дедушка, – они напрямую не занимались ресторанным бизнесом, как ты, но благодаря их работе у стольких людей возникало праздничное настроение, что этим они способствовали процветанию твоей профессии. И они, конечно же, мои люди и люди Сильвии, так, Анита?
– Да, – кивнула моя бабушка. – И мои тоже. Я люблю музыкантов. Я вышла замуж за одного из них. Я дала жизнь другой. И, дорогой, ты забыл братьев Дорси.
– Я их не забыл, – ответил дедушка. – Просто во рту пересохло от перечисления всех этих имен. Еще и Фредди Мартин[4].
– И его тенор-саксофон, нежнее не было и не будет.
– Клод Торнхилл.
– Пианист из пианистов! – воскликнула бабушка. – И такой весельчак, этот Клод.
К этому времени до моего отца наконец-то дошло, о чем толкует дедушка Тедди, но он не хотел этого слышать. Он четко делил людей по цвету кожи, и, возможно, у него были на то причины. Тем не менее, ради семейной гармонии, ему, возможно, следовало добавить в мое имя, скажем, Торнхилла и Гудмена, но он не мог заставить себя пойти на такое.
– Эй, посмотрите, сколько времени! – резко сменил он тему. – Мне пора в ресторан. – Он поцеловал маму, поцеловал меня, обнял Аниту, кивнул дедушке Тедди, сказав: «Сэр», – и был таков.
Так прошла первая семейная встреча в мой первый день на этом свете. Несколько напряженно.
Во второй раз жизнь моей мамы покатилась под откос восемь месяцев спустя, когда мой отец ушел от нас. Сказал, что ему необходимо сосредоточиться на собственной карьере. Он не мог спать, когда в соседней комнате плакал ребенок.
По его словам, появился человек, который соглашался дать денег на ресторан, где он получал место шеф-повара, и он не мог отвлекаться на что-то еще, хотел все силы отдать новой работе, чтобы оправдать доверие и закрепиться на новой карьерной ступени. Он обещал вернуться, только не сказал когда. Он заверил маму, что любит нас. С его губ эти слова всегда слетали на удивление легко. Он обещал присылать деньги каждую неделю. И четыре недели держал слово. К тому времени мама нашла работу в кафетерии «Вулвортса» и начала выступать в задрипанном клубе, который назывался «Пещера джаза». Время это было трудное, но не более того, пока ничего серьезного.
5
Я не собираюсь рассказывать о своей жизни месяц за месяцем, год за годом. Вместо этого я намерен использовать магнитофон, будто это машина времени, перескакивать то вперед, то назад, поэтому, возможно, вы заметите сверхъестественную связь событий, которая не казалась мне очевидной, когда я продвигался в будущее последовательно, изо дня в день.
Здесь я намерен немножко рассказать вам о женщине, которая появлялась в ключевые моменты моей жизни. Впервые это случилось в тот апрельский день 1966 года, когда я пытался возненавидеть рояль, поскольку думал, что мне никогда не стать пианистом.
Приближался мой девятый день рождения, а бабушке Аните еще оставался год жизни. В прошлом декабре отец вернулся, чтобы жить с нами в квартире на четвертом этаже дома без лифта. Мама с ним так и не развелась. Думала об этом, хотя знала – и верила, – что узы брака священны. Но, по ее словам, если поешь в таких местах, как «Пещера джаза», «Суть дела» или «Слинкис», гораздо проще отваживать посетителей и сотрудников, честно говоря: «У меня есть муж, маленький сын и Иисус. Поэтому, пусть ты парень хоть куда, тебе, конечно же, понятно, что для еще одного мужчины места в моей жизни нет». Мама полагала, что муж, или ребенок, или Иисус по отдельности не могли стать препятствием для особо настойчивых ухажеров: в этих случаях ей требовалась тройная защита.
За годы отсутствия Тилтон Керк так и не нашел поручителя по кредиту, не открыл собственный ресторан, но ушел из того, где работал поваром, чтобы стать шеф-поваром в более приличном заведении. Зарабатывал, правда, меньше, потому что владелец каждый год передавал ему пять процентов акций, с условием, что, собрав тридцать пять процентов, он сможет выкупить оставшиеся шестьдесят пять по ранее оговоренной цене. Собственные акции он мог внести в банк в качестве залога за ссуду.
Маму его возвращение скорее порадовало, но моя жизнь стала намного хуже. Этот человек понятия не имел, что такое быть отцом. Иногда проявлял излишнюю строгость, сурово наказывая за пустяки. Иногда хотел быть моим лучшим другом, проводил со мной много времени, понятия не имея, как любят проводить время дети. Во всяком случае, я не получал удовольствия, тащась следом за ним по длиннющим проходам магазина ресторанного оборудования, от картофелечисток к формочкам для паштетов. Не прикалывало меня и сидение у стойки бара с кока-колой, пока папаша пил пиво и перекидывался шуточками с незнакомцем.
Но самое худшее заключалось в том, что мой отец не позволил мне учиться играть на рояле, когда у меня возникло такое желание. Я садился за рояль в доме дедушки Тедди и нутром чуял раскладку клавиатуры, точно так же, как Джеки Робинсон[5] легко просчитывал полет мяча. Но Тилтон сказал, что я еще слишком маленький и руки у меня слишком маленькие, а когда мама с ним не согласилась, возразив, что я достаточно большой, Тилтон заявил, что пока мы не можем оплачивать уроки. Скоро сможем, но пока – нет, то есть никогда.
Дедушка предложил привозить меня к себе и отвозить обратно несколько раз в неделю и самолично давать мне уроки. Но мой отец упорствовал: «Это слишком далекая дорога для маленького ребенка, Сил. И потом, дома у нас пианино нет, так что заниматься между уроками ему негде. Скоро мы купим дом, где сможем поставить пианино или даже рояль, и тогда это будет иметь смысл. И потом, дорогая, ты знаешь, я не хожу в любимчиках у твоего отца. И мне не хочется, чтобы он настраивал мальчика против меня. Я знаю, Тедди не будет делать это специально, он человек не злой, но это будет получаться у него подсознательно. Скоро мы арендуем дом, скоро, и тогда пусть ребенок учится».
Поэтому я сидел на крыльце у подъезда с таким мрачным лицом, что большинство прохожих, глянув на меня, тут же отворачивались, словно боялись, что я, пусть и восьмилетний, вскочу и наброшусь на них с кулаками в приступе ярости. День для апреля выдался необычно теплый, воздух застыл, такой влажный, что перышко, оброненное птицей в полете, чуть ли не камнем упало на тротуар передо мной. И тут же налетел короткий порыв ветра, подхватил перышко, закружил пыль и мусор в ливневой канаве и бросил в меня. Я чихнул и смахнул перышко, которое прилипло к моим губам. А когда протирал глаза, услышал женский голос:
– Эй, Утенок, как тебе живется в этом мире?
Две мамины подруги, профессиональные танцовщицы, выступали в мюзиклах, обычно обсуждаемых теми, кто любил театр. Эта женщина внешне отличалась от них, но выглядела, как танцовщица. Высокая, стройная, длинноногая, с гладкой коричневато-красной кожей, она легко поднялась по лестнице, с минимумом движений, создавая ощущение, что не лестница это, а эскалатор. Ярко-розовый брючный костюм, белая блуза, маленькая розовая шляпка без полей, с серыми перышками по одну сторону, предполагали, что она собралась на ланч в какое-то место, где официанты носят фраки.
Несмотря на роскошный прикид и элегантность, она присела рядом со мной на крыльцо.
– Утенок, это грубо – не отвечать, когда к тебе обращаются, а ты, как мне представляется, относишься к тем молодым людям, которые скорее выбьют себе глаз, чем нагрубят.
– Этот мир смердит, – заявил я.
– Что-то в этом мире смердит, Утенок, но не весь мир. Если на то пошло, большая его часть прекрасно пахнет. Ты сам пахнешь лаймом и солью, напоминая мне «Маргариту»[6], а это не такая плохая штука. Тебе нравится аромат моих духов? Они французские и дорогие.
Я уловил тонкий сладко-розовый запах.
– Вроде бы ничего.
– Знаешь, Утенок, если тебе не нравится, я прямиком пойду домой, возьму флакон с туалетного столика и вышвырну в окно. Пусть проулок воняет до следующего дождя.
– Меня зовут не Утенок.
– Я бы удивилась, если бы тебя звали Утенком. Родители могут наградить своих деток такими именами, как Гортензия или Персиваль, но не знаю ни одного, кто бы назвал своего ребенка в честь водоплавающей птицы.
– А как зовут вас? – спросил я.
– Как ты думаешь, Утенок?
– Вы не знаете своего имени?
– Иногда мне интересно, какое имя, по мнению других, мне подходит, вот я и спрашиваю.
Я видел, что она красивая. Это по силам понять даже восьмилетнему пацану, а красота поднимает настроение в любом возрасте. И аромат ее духов мне понравился.
– Знаете, я видел тот фильм по телику о парнях, которые искали сокровище в Карибском море. В те далекие времена, когда там хозяйничали пираты. Более всего они хотели заполучить уникальную жемчужину. Уникальной, действительно уникальной, она была по трем причинам. Во-первых, большая – большая, как слива. Во-вторых, не белая, и не кремовая, и не розовая, как другие, а черная, черная и сверкающая, завораживающая глаз, удивительно прекрасная. Поэтому я думаю, что вам больше всего подходит имя Перл[7].
Она склонила голову и усмехнулась.
– Молодой человек, если ты уже теперь очаровываешь женщин, едва ли хоть одна будет чувствовать себя с тобой в безопасности, когда ты вырастешь. Я – Перл. Ни одно другое имя мне не нравится. Зови меня Перл, Иона.
Только много часов спустя я осознал, что не называл ей своего имени.
– Ты говорил, что уникальность жемчужины определялась тремя причинами. Размером, цветом и?..
– Да. Они считали, что тот, кто владеет жемчужиной, никогда не умрет. Она дарила бессмертие.
– Черная, прекрасная, волшебная. Мне нравится быть Перл.
Прошло еще два года, прежде чем я узнал от нее, что она – душа города, обретшая плоть.
– А почему ты сидишь здесь, Иона, такой мрачный, будто все еще находишься в чреве кита, хотя на самом деле тебя окружает прекрасный летний день? Тебя не переваривает желудочный сок, и тебе не нужна свеча, чтобы возвращаться по пищеводу. Нельзя тратить попусту прекрасный летний день, Иона. В жизни их не так уж много, хотя сейчас ты мне не поверишь. А что вызвало твою грусть?
Может, общение с ней не вызывало у меня сложностей, потому что она так непринужденно общалась с людьми?
– Я хочу быть пианистом, – ответил я, – но этому, похоже, никогда не бывать.
– Если ты хочешь быть пианистом, почему ты сейчас не сидишь за пианино, не молотишь по клавишам?
– У меня нет пианино.
– В общественном центре, куда ты ходишь, когда родители на работе, а Доната занята, пианино есть.
Миссис Лоренцо, которая иногда сидела со мной, звали Доната, и я решил, что мисс Перл знала ее и пришла к ней в гости.
– Я никогда не видел пианино в общественном центре.
– Но оно там есть. Просто какое-то время им заведовал один человек, лишенный музыкального слуха, так что игра на пианино только раздражала его. Ему не нравились птицы, один из оттенков синего, цифра девять, Рождество. Елку он ставил двадцать четвертого декабря, а утром двадцать шестого убирал. Украшала ее только кукла Санта-Клауса, подвешенная за шею на верхушке, где полагалось быть звезде или ангелу. Девятку из номера дома над парадной дверью он убрал, оставив пустое место между восьмеркой и четверкой, все синие комнаты перекрасил, а пианино спустил в подвал. Поговаривали, что он убил и съел Пити, попугая, который жил в клетке в карточной комнате. К счастью, долго он там не командовал. Его сбил городской автобус, когда он переходил улицу в неположенном месте, но за короткое время он причинил центру немало вреда. Они смогут поднять пианино на грузовом лифте.
Мимо, шумно выплюнув облако выхлопных газов, проехал городской автобус, и я задался вопросом, не он ли задавил пожирателя попугаев.
– Они не станут поднимать пианино ради такого мальчишки, как я, – возразил я после того, как на улице стало тише. – Да и потом, зачем он мне без учителя?
– Учитель будет. Иди туда завтра утром, как только центр откроется, и ты все увидишь сам. Что ж, такой прекрасный день уходит, а я одета для того, чтобы кое-куда пойти, так что мне лучше отправляться туда.
Она поднялась, спустилась по ступенькам, и звука от ее высоких каблуков было не больше, чем от шлепанцев.
– Я думал, что вы приходили в гости к миссис Лоренцо! – крикнул я вслед.
– Я приходила в гости к тебе, Утенок, – отозвалась мисс Перл.
Она двинулась дальше, а я сбежал со ступенек, чтобы посмотреть ей вслед. С узкими бедрами и длинными ногами, такая высокая, вся в розовом, она напоминала птицу: не попугая, а грациозного фламинго. Я ожидал, что она обернется, хотел помахать на прощание, но нет, не оглянулась. Повернула за угол и исчезла.
Я поднес руки к лицу, понюхал и уловил слабый запах лимонов: чуть раньше помогал маме выжимать из них сок для лимонада. Я сидел на солнце, и пленка пота на руках была соленой на вкус, когда я ее лизнул, но я не мог пахнуть солью.
В последующие годы я несколько раз встречался с мисс Перл. Теперь мне пятьдесят семь, и, оглядываясь назад, я точно знаю, что жизнь моя сложилась бы иначе и закончилась бы гораздо раньше, если б не ее интерес к моей персоне.
На следующее утро пианино стояло в зале Эбигейл Луизы Томас, названном в честь женщины, оказавшей немало услуг центру задолго до того, как Тилтон положил глаз на мою мать. Полированное и настроенное, пианино «Стейнвей» выглядело даже красивее Перл.
Одна из сотрудниц центра, миссис Мэри О’Тул, играла «Звездную пыль» Хоаги Кармайкла[8], и лучшей мелодии слышать мне еще не доводилось. Милая женщина, с прекрасными синими глазами, вся в веснушках, которые, по ее словам, прилетели из Дублина, чтобы рассыпаться по ее лицу, и короткими, неровно подстриженными – дело рук неумелой подружки, поскольку миссис О’Тул терпеть не могла салоны красоты, – рыжими волосами. Она мне улыбнулась и кивком указала на скамью. Я сел рядом.
Закончив играть, она вздохнула и повернулась ко мне:
– Разве это не чудо, Иона? Кто-то забрал наше старое, разбитое пианино, дал нам новенькое, с иголочки, и при этом остался неизвестным. Я не понимаю, как такое возможно.
– Это не прежнее пианино?
– Нет. У старого крышку перекосило, клавиши словно поела моль, какие-то струны лопнули, какие-то сняли, педаль Состенуто заклинило. Не пианино, а кошмар. Какой-то чертовски умный филантроп приложил к этому руку. А мне очень хочется узнать, кого благодарить.
Я ничего не сказал ей о мисс Перл. Собрался, открыл рот, но подумал: «Если упомяну имя, чары рассеются. Я приду завтра и обнаружу, что «Стейнвей» в подвале, разбитый, как прежде, а миссис О’Тул не помнит, что играла «Звездную пыль» в зале Эбигейл Луизы Томас».
6
Той же ночью, когда я спал в моей маленькой комнате, кто-то присел на край кровати, и матрас прогнулся под тяжестью, и пружины заскрипели, и я наполовину проснулся, гадая, а чего это мама пришла ко мне в столь поздний час. Но, прежде чем успел проснуться полностью, в темноте чья-то рука мягко прижала меня к кровати, а знакомый голос произнес: «Спи, Утенок. Спи. У меня есть для тебя имя, лицо и сон. Имя – Лукас Дрэкмен, и вот его лицо».
И каким бы странным все это мне ни казалось, я устроился поудобнее, закрыл глаза и глубоко заснул. В какой-то момент передо мной возникло лицо молодого парня, только подсвеченное, а потому сильно затененное. Я решил, что ему лет шестнадцать или семнадцать. Всклокоченные волосы, лоб, нависающий над глубоко посаженными глазами, широко раскрытыми и дикими, хищный ястребиный нос, полные, чуть ли не девичьи губы, круглый подбородок, бледная кожа, блестевшая от пота… Никогда раньше и только один раз позже я увидел столь живое и четкое лицо. В Лукасе чувствовались спешка и злость, но поначалу ничто не указывало на кошмарность этого сна. Постепенно начал высвечиваться фон. Я увидел, что лицо Лукаса подсвечивал луч фонарика, направленный не на него, а вниз и вперед. Лукас вынимал из шкатулки ожерелья, броши, браслеты и кольца, украшенные бриллиантами и жемчугом, перекладывал в матерчатый мешок, возможно наволочку. В следующий момент, как это часто бывает во сне, от шкатулки с драгоценностями он в мгновение ока переместился в гардеробную, доставал наличные и кредитные карточки из бумажника, оставленного кем-то на полке. На карточке «Дайнерс клаб» я прочитал имя и фамилию владельца: Роберт У. Дрэкмен. Потом Лукас оказался у кровати, направив луч фонаря на тело мужчины, несомненно застреленного во сне. И, однако, я не боялся. Меня охватила печаль. А Лукас обратился к мертвецу: «Эй, Боб. Как тебе нравится в аду, Боб? Теперь ты понимаешь, что поступил глупо, отправив меня в эту гребаную военную академию, Боб? Темный ты, самодовольный сукин сын». Луч фонаря упал на женщину сорока с чем-то лет, которую, видимо, разбудили первые выстрелы Лукаса. Его мать. Иначе быть не могло. Сходство не вызывало сомнений. Она отбросила одеяло и села, после чего получила одну пулю в грудь, а вторую в шею. Ее швырнуло на изголовье, синие глаза теперь смотрели в никуда, рот раскрылся, хотя, вероятно, шанса закричать у нее не было. Лукас грязно обозвал ее словом, которое я никогда не произносил и не произнесу до конца своих дней. Коридор. Он уходил, а я не последовал за ним. Луч фонаря удалялся и таял, наконец меня окутала темнота, и от навалившейся печали глаза наполнились слезами. А та, что по мановению волшебной палочки поставила новое пианино в зале Эбигейл Луизы Томас, заговорила вновь: «Запомни его, Утенок. Запомни его лицо и сочащиеся ненавистью слова. Держи этот сон при себе, не рассказывай тем, кто может задавать вопросы и даже насмехаться над этим сном, заставляя тебя сомневаться, но всегда помни его».
Думаю, я проснулся, когда она произнесла эти слова, но поклясться в этом не могу. Я вообще, возможно, спал. Все это могло мне присниться, включая ее появление в комнате, тяжесть тела на кровати, прогнувшийся матрас, скрипнувшие пружины. В темноте я ощутил прикосновение руки ко лбу, такое нежное. Женщина прошептала: «Спи, прекрасное дитя». И я или продолжил спать, или заснул вновь.
Когда проснулся со светом зари, понял, что сон – не просто фантазия, что мне показали убийства, совершенные на самом деле, в какой-то момент прошлого. По мере того как света за окном прибавлялось, я думал об этом, сомневался, отметал сомнения, чтобы тут же засомневаться вновь. Но, конечно же, не мог ответить ни на один из множества вопросов, которые возникли у меня после этого сна.
Наконец, выбираясь из постели, я на мгновение ощутил тонкий сладко-розовый аромат, такой же, как был у духов Перл. Ими она благоухала, когда сидела рядом со мной на крыльце. Но через три вдоха аромат растаял, и я подумал, что просто его выдумал.
7
Следующий фрагмент моей истории я частично узнал от других, но уверен, что именно так все и было. Моя мать могла чуть приврать, чтобы не лишать ребенка его невинных представлений о мире, как вы увидите, но я точно знаю, что сознательная ложь – это не про нее.
Пошла последняя неделя перед моим девятым днем рождения. Бабушке Аните оставалось жить десять месяцев, я учился играть на пианино, спасибо мисс Перл, и тут мой отец, вернувшийся к нам шестью месяцами раньше, прокололся по-крупному. Мы по-прежнему занимали квартиру на четвертом этаже дома без лифта, и он не приносил домой больших денег, получая часть жалованья акциями.
Миссис Лоренцо все так же обитала на втором этаже, но мистер Лоренцо еще не умер, а миссис Лоренцо была худенькой и «такой же красивой, как Анна-Мария Альбергетти». Анну-Марию, удивительно одаренную певицу и недооцененную киноактрису, которая стала звездой Бродвея, отличали миниатюрность и красота. Она получила премию «Тони» за «Карнавал»[9], сыграла Марию в «Вестсайдской истории». Хотя Анну-Марию знали не так хорошо, как других актрис итальянского происхождения, моя мать, если хотела сказать какой-нибудь женщине-итальянке, что та очень красивая, сравнивала ее с Анной-Марией Альбергетти. А если находила итальянца особенно привлекательным, всегда говорила, что он такой же симпатичный, как Марчелло Мастроянни. Анна-Мария – да, но насчет Марчелло Мастроянни я ничего не понимал. В любом случае мистер Лоренцо не хотел, чтобы его жена работала, полагал, что ее дело – воспитывать детей, но, как выяснилось, сам он никого зачать не смог. Так что Лоренцо устроили в своей квартире домашний, не имеющий официального разрешения детский сад, приглядывая за тремя детьми и, по случаю, за мной, как я уже говорил.
Когда все произошло, в середине дня первого вторника июня, я находился в школе святой Схоластики. В этот день заканчивался учебный год. Учили меня монахини, но мечтал я о том, чтобы стать пианистом.
Мать отправилась на работу в кафетерий «Вулвортса» к половине одиннадцатого. Придя туда, узнала, что в утреннюю смену случился пожар на маленькой кухне, поэтому кафетерий закрыли на два дня, до завершения ремонтных работ. Так что домой она пришла на четыре часа раньше.
Отец работал в ресторане допоздна, поэтому спал с трех часов утра до одиннадцати. Мать ожидала, что он еще будет спать или завтракать, но обнаружила, что он принял душ и ушел. Застилая кровать и переодеваясь, она услышала, как мисс Делвейн, которая жила наверху, в квартире 5-Б, училась объезжать жеребца.
Мисс Делвейн – симпатичная блондинка свободных нравов – жила над нами три года. Зарабатывала на жизнь статьями в журналах и работала над романом. Иногда из ее квартиры доносилось ритмичное постукивание, возможно отдаленно напоминающее стук лошадиных копыт, постепенно ускоряющих свой бег, и сдавленные человеческие крики, бессвязные, резкие или протяжные. Однажды я спросил маму, а что происходит наверху, и мама ответила, что мисс Делвейн учится объезжать жеребца. По словам матери, действие первого романа мисс Делвейн происходило на родео, а поскольку она собиралась отправиться туда, чтобы проникнуться духом родео и даже принять участие, то купила себе механическую лошадь, чтобы потренироваться в объездке. Мне было пять лет, когда мисс Делвейн въехала в квартиру над нами, и около девяти, когда моя мама вернулась из «Вулвортса» раньше обычного, и пусть я сомневался, тренировка объездки – полное объяснение, ни о чем другом я, конечно, и подумать не мог. Когда спрашивал насчет протяжных стонов, мама всегда говорила, что это запись рева быка. На родео на быка набрасывали лассо, чтобы потом свалить с ног, и мисс Делвейн ставила эту запись, чтобы создать нужную атмосферу, когда она объезжала механическую лошадь. У меня хватало вопросов насчет механической лошади и магнитофонной записи, но я никогда не задавал их мисс Делвейн, поскольку мама сказала, что бедная женщина стесняется и недовольна собой: прошло столько времени, а она никак не может дописать роман о родео.
Мисс Делвейн жила над нами с середины 1963 года, и хотя люди испытывали определенный интерес к сексу, страна еще не превратилась в гигантский порнотеатр. Родители могли защитить свое чадо и позволить ему иметь детство, и даже если у тебя возникали какие-то подозрения о чем-то секретном, ты не мог включить компьютер и отправиться на тысячу сайтов, чтобы узнать, что… что Бэмби, скажем, не появился исключительно по желанию его матери, как, впрочем, и ты сам.
Итак, мама, переодеваясь, слушала доносящиеся сверху звуки родео, и в какой-то момент стоны и рев записанного на магнитную пленку быка показались ей очень знакомыми. За семь с чем-то лет, которые Тилтон не жил с нами, мама время от времени виделась с ним, оставалась его женой, а когда он захотел вернуться, впустила в дом. Теперь ей не хотелось верить, что в этом она допустила ошибку. Она говорила себе, что все мужчины издают одинаковые звуки, играя в быка, после того как их крики пройдут потолочный фильтр. Она говорила себе, что эти звуки могла издавать сама мисс Делвейн, которую отличал низкий, с хрипотцой голос. С другой стороны, жизнь не раз сдавала Сильвии Бледсоу Керк различных джокеров в игре, где они были совсем не картами, и мама знала этого джокера, потому что однажды по его милости крупно проиграла.
Она побросала одежду и туалетные принадлежности отца в два его чемодана и вынесла их из квартиры. В этом доме жильцы могли подниматься к себе или выходить на улицу по двум лестницам, парадной и черной, более узкой и грязной. Моя мама знала, что Тилтон выберет черную: такая у него была натура, а не из опасений, что его увидят спускающимся не с четвертого, а с пятого этажа. Если на то пошло, едва ли кто-нибудь в нашем доме обратил бы на это внимание.
В тот день моя мама решила, что Тилтон не просто бабник, и патологический врун, и самовлюбленный урод, а по части карьеры – еще и страдающий самообманом болван. Все это обуславливалось тем, что он был, прежде всего, трусом, который не мог взглянуть жизни в глаза, не мог выбрать правильный путь и идти им, невзирая на препятствия. Ему приходилось лгать себе о жизни, притворяться, что она не такая уж трудная, как на самом деле, а потом продвигаться вперед, используя далеко не самые чистые средства, убеждая себя, что он покоряет мир. Моя мать никогда не назвала бы себя героиней, хотя на самом деле такой и была, но она знала, что трусости в ней нет, никогда не было и не будет, и она просто не могла заставить себя жить с трусом.
Она поставила чемоданы на потрескавшийся линолеум лестничной площадки между четвертым и пятым этажами и села несколькими ступеньками ниже, спиной к ним. Ей пришлось какое-то время подождать, и с каждой уходящей минутой она все меньше сочувствовала этому дьяволу. Наконец она услышала, как где-то наверху открылась дверь и кто-то начал насвистывать «Ты потеряла чувство любви», мелодию песни, которая стала хитом «Райтшес бразерс» в феврале этого года. Тилтон эту мелодию обожал и в тот день насвистывал без всяких задних мыслей, хотя потом, возможно, и осознал, что это не самый лучший саундтрек для этого конкретного эпизода в фильме его жизни.
Он открыл дверь на лестницу, начал спускаться и перестал свистеть, увидев знакомые чемоданы. Этого мужчину отличала невероятная изворотливость, и, думаю, как минимум, три достаточно убедительных и десяток более-менее приемлемых отговорок промелькнули в его голове, прежде чем он продолжил спуск. Разумеется, увидев мою маму, которая сидела несколькими ступеньками ниже, он вновь остановился, заколебавшись. Он никогда не лез за словом в карман, особенно если возникала необходимость оправдываться, но не в тот день. Его нервировали ее молчание и обращенная к нему спина. Если бы она принялась обвинять его или плакать, он бы, конечно, попытался солгать, принялся бы убеждать ее в своей полной невиновности, но она сидела лишь для того, чтобы засвидетельствовать его уход. Может, подумал он, у нее нож и она ударит его в спину, когда он будет протискиваться мимо нее с чемоданами в руках. Трудно сказать, по какой причине, но Тилтон подхватил оба чемодана и, вместо того чтобы спускаться, поднялся с ними на пятый этаж.
Сильвия встала и последовала за ним. Мой отец, оглянувшись, увидел, что она приближается, перепугался, споткнулся о порог, чемоданы ударились о дверь, его ноги – о дверную коробку. Чем-то он напоминал старый фильм с Лорелом и Харди, пытающимися протащить огромный ящик через слишком узкий проем. Потом он торопливо зашагал по коридору, моя мать – за ним, молча, не приближаясь, но и не отставая. На площадке парадной лестницы один чемодан выскользнул из его руки, запрыгал по ступенькам вниз, а Тилтон едва не упал, пытаясь побыстрее его схватить и покинуть этот дом. С каменным лицом, не отрывая глаз от согрешившего мужа, Сильвия спускалась пролет за пролетом, и ладони Тилтона, похоже, стали такими скользкими от пота, что чемоданы то и дело стукались о стены, норовя вырваться из рук. Поскольку Тилтон то и дело оглядывался, опасаясь получить в спину удар несуществующим ножом, он несколько раз оступался и его бросало на стену, словно в чемоданах, которые он тащил, лежали бутылки виски и последние несколько часов он знакомился с их содержимым.
На площадке между третьим и вторым этажами преследуемый и преследовательница наткнулись на мистера Иошиоку, вежливого и застенчивого мужчину, безупречно одетого первоклассного портного. Он жил один в квартире на пятом этаже, и все верили, что этот обходительный мужчина хранит какой-то страшный или трагический секрет, что, возможно, он потерял всю семью в Хиросиме. Когда мистер Иошиока увидел, как моего отца мотает от стены к стене, когда увидел каменное лицо матери, которая неумолимо преследовала отца, он сказал: «Премного вам благодарен», – развернулся и торопливо, перескакивая через ступеньку, спустился на первый этаж, чтобы подождать в вестибюле, прижавшись спиной к почтовым ящикам, пока эта парочка пройдет мимо, искренне надеясь, что ему удастся не попасть под горячую руку.
Тилтон выскочил через парадную дверь с такой скоростью, будто дом ожил и дал ему увесистого пинка. На крыльце один из чемоданов, которым при спуске крепко досталось, раскрылся, и Тилтон принялся торопливо подбирать вывалившиеся вещи и укладывать обратно. Мать наблюдала через окно у двери, а когда он собрал все и ушел, фыркнула: «Чувство любви, это ж надо!» – повернулась и, к своему удивлению, увидела бедного мистера Иошиоку, который так и стоял, прижавшись спиной к почтовым ящикам.
Он улыбнулся, кивнул.
– Теперь я хотел бы подняться.
– Извините, что так получилось, мистер Иошиока.
– Виноват только я, – ответил он и начал подниматься, перескакивая через ступеньку.
Так все произошло по версии матери, которой она поделилась со мной много лет спустя. Я после школы пошел в общественный центр, чтобы поиграть на пианино. Когда вернулся, она мне сказала: «Твой отец тут больше не живет. Он поднимался наверх, чтобы помочь мисс Делвейн с описанием родео, а я такого не потерплю».
Слишком юный, чтобы понять истинное значение ее слов, я очень заинтересовался механической лошадью и надеялся, что мне удастся ее увидеть. Сжатое объяснение матери не удовлетворило мое любопытство. Вопросов у меня хватало, но я не задал ни одного. По правде говоря, порадовался тому, что мне больше не придется сидеть в баре и выслушивать истории, которыми отец обменивался со случайными знакомыми. И я не пытался скрыть своей радости.
Тут же поделился с мамой секретом, который не мог открыть, пока Тилтон жил с нами: я уже больше двух месяцев брал уроки игры на пианино у миссис О’Тул. Мама меня обняла, расплакалась и извинилась, но я не понял, за что она извиняется. Мама сказала, это не важно, понял я или нет, главное, что она больше никому не позволит встать между мной и фортепьяно или мной и еще какой-то моей мечтой.
– Слушай, сладенький, давай отпразднуем нашу свободу кока-колой.
Мы сели за кухонный стол, чокнулись стаканами «кока-колы» и закусили ломтиками шоколадного торта перед обедом, и на все последующие годы событие это осталось в моей памяти одним из самых ярких. Мама уже перешла из «Сути дела» в «Слинкис», но в этот вечер она не выступала, а потому провела его со мной. Мы с ней о многом переговорили, в том числе и о «Битлз», которые в прошлом году раньше ворвались в хит-парады США с песнями «Я хочу держать тебя за руку», «Она любит тебя» и тремя другими. Уже в 1965 году еще две их песни поднимались на первую строчку хит-парадов. Маме нравились «Битлз», но она говорила, что ее любовь – джаз, особенно свинг, и переключилась на знаменитых солисток больших оркестров времен дедушки Тедди. Она знала все их песни, могла имитировать многих, и казалось, что все они здесь, на нашей кухне. Она показала мне книгу о том времени, с фотографиями всех этих женщин. Кэй Дэвис[10] и Мария Эллингтон[11], которая пела с Дюком. Билли Холидей с Бейси. Все симпатичные, некоторые – красавицы. Сара Вон, Хелен Форрест[12], Дорис Дэй, Харриет Кларк, Лена Хорн, Марта Тилтон[13], Пегги Ли. Возможно, самой красивой из них я посчитал Дейл Эванс[14], когда ей было за двадцать, та самая, которая потом вышла замуж за поющего ковбоя Роя Роджерса, но даже в молодости Дейл Эванс не могла сравниться красотой с Сильвией Бледсоу Керк. И моя мама могла превзойти Эллу. Когда дело доходило до скэта[15], создавалось полное впечатление, что это Элла и вас просто обманывают глаза. Мы съели кэмпбелловский томатный суп и сэндвичи с сыром, поиграли в рами-500. Прошли годы, прежде чем я осознал, что в этот день жизнь мамы в третий раз покатилась под откос, но тогда я все видел иначе. Когда пошел спать, думал, что на тот момент это был лучший день в моей жизни.
Но следующий оказался еще лучше, один из тех дней, которые мой друг Малколм называет намазанными маслом. Беда уже надвигалась, естественно, куда мы без беды, но пока я мог идти по жизни с улыбкой.
8
Намазанный маслом день…
Давайте сделаем маленькое отступление ради Малколма Померанца. Он первоклассный музыкант. Играет на тенор-саксофоне. Гений, который и в пятьдесят девять может сыграть весь целотонный ряд.
Он еще и сумасшедший, но совершенно безобидный. Он также суеверный. Скорее сломает себе спину, чем разобьет зеркало. И хотя он не настолько обсессивно-компульсивный, чтобы несколько часов в неделю проводить на кушетке мозгоправа, некоторые ритуалы Малколма могут вывести из себя, если ты его не любишь.
Во-первых, он должен вымыть руки пять раз – не четыре и не шесть, – прежде чем присоединиться к оркестру на сцене. А после того, как его проворные пальчики становятся достаточно чистыми, чтобы играть, голыми руками он не прикасается ни к чему, кроме саксофона, а если прикоснется, ему приходится снова мыть руки пять раз. Такая чистота рук не нужна ему на репетициях – только при выступлениях. Не будь он таким прекрасным музыкантом и обаятельным человеком – не сделал бы карьеру.
Малколм читает газету каждый день, за исключением вторника. Он не покупает вторничную газету и не занимает ее у соседа. По вторникам не смотрит новостные выпуски и не слушает радио. Он уверен: если посмеет ознакомиться с новостями в любой вторник, сердце его превратится в пыль.
Он не ест грибы, ни сырыми, ни приготовленными, ни в соусе, хотя грибы любит. Не ест закругленные булочки, которые напоминают ему грибную шляпку. В супермаркете не заходит в ту часть отдела овощей и фруктов, где продаются грибы. А если супермаркет для него новый, вообще не заходит в отдел овощей и фруктов из страха, что внезапно столкнется с грибами.
Что же касается намазанного маслом дня… Каждое утро он готовит на завтрак один лишний тост, кладет на кухонный стол, а потом небрежно сбрасывает на пол. Если тост падает маслом вверх, Малколм с удовольствием его съедает, в полной уверенности, что день будет хорошим от начала и до конца. Если тост падает маслом вниз, Малколм его выбрасывает, масло вытирает и весь день держится настороже, высматривая потенциальную опасность.
В первый вечер полнолуния Малколм идет в ближайшую католическую церковь, опускает семнадцать долларов в ящик для пожертвований, зажигает семнадцать свечей в стаканчике. Заявляет, что не знает, почему он это делает. Мол, свойственный ему ритуал, такой же, как все остальные. Я склонен думать, что причину он и впрямь не знает, что семнадцать свечей позволяют ему держать внутреннюю боль в узде, а если он позволит себе осознать мотив, боль эта выйдет из-под контроля. У большинства из нас нанесенные жизнью раны заживают медленно, и мы остаемся лишь со шрамами, но, возможно, Малколм слишком чувствительный, чтобы позволить этим ранам полностью затянуться: может, его обсессивно-компульсивные маленькие ритуалы – повязки, которые оставляют раны чистыми и препятствуют кровотечению.
Хотя мне не объяснить все заскоки Малколма, я знаю, почему он не ест грибы, ставит свечи на полнолуние и обходится без новостей по вторникам. Мы подружились, когда мне было десять лет. И тогда он ничем не напоминал нынешнего Малколма. С годами его безобидное безумие прогрессировало. Малколм – белый, а я – черный. Мы не братья по крови, но близки, как братья, связанные одними и теми же ужасными утратами. Я уважаю способы, какими бы странными они ни казались, к которым он прибегает, чтобы не дать боли скрутить его в бараний рог, и никогда не объясню ему значение этих ритуалов, потому что тогда он лишится облегчения, которое они ему приносят.
В один ужасный день каждый из нас потерял человека, которого любил, как саму жизнь. А несколькими годами позже, вновь в один день, мы опять потеряли любимых людей, а потом еще раз. Я по-прежнему оптимист, а Малколм – нет. Иногда я тревожусь, а что может произойти, если я умру первым, боюсь, что его эксцентричность возрастет многократно и, несмотря на весь талант, он больше не сможет работать. Работа – его спасение, ибо каждую мелодию он играет для тех, кого любил и потерял.
9
Поскольку «Вулвортс» еще приводили в порядок после пожара, на следующий день моей маме не пришлось идти на работу в дневную смену. Она захотела пойти со мной в общественный центр, чтобы узнать, чему я научился за два месяца уроков. Я опасался, что мне не удастся произвести должного впечатления на человека, который мог петь, как Элла. Вам следовало увидеть ее в тот день. Она оделась, как на праздник, словно сопровождала меня в какой-то концертный зал, который заполнили две тысячи человек, чтобы послушать мою игру. Желтое платье с плиссированной юбкой и черным кантом по воротнику и манжетам, черный пояс, черные туфли на высоком каблуке. Мы прошли полтора квартала, и выглядела она столь великолепно, что люди оборачивались вслед, как мужчины, так и женщины, словно на землю спустилась богиня, чтобы отвести этого худенького мальчика в некое особое место по причине столь удивительной, что ее просто невозможно себе представить.
Я познакомил маму с миссис О’Тул, и, как выяснилось, их связывал дедушка Тедди. «Мой первый муж в сорок первом играл на тенор-саксофоне у Шепа Филдса[16], – сказала миссис О’Тул. – В оркестре Филдса саксофонов было много – один бас, один баритон, шесть теноров, четыре альта, – и Тедди Бледсоу отыграл на рояле часть того года, прежде чем ушел к Гудмену. – Она смотрела на меня иначе, узнав, что я – внук Тедди Бледсоу. – Да благословит тебя Бог, дитя, теперь я понимаю, почему ты быстро учишься и у тебя все так хорошо получается».
Я и впрямь, как губка, впитывал все, чему она меня учила, и с недавних пор уже мог, прослушав мелодию, сесть за пианино и тут же ее сыграть, при условии, что мне хватало длины рук и пальцев. По части музыки обладал эйдетической памятью. Если проводить аналогии, это то же самое, что один раз прочитать роман, а потом продекламировать его слово в слово. Садясь за пианино, я мог сыграть практически все, независимо от сложности или темпа, разумеется, далеко не так хорошо, как сыграл бы дедушка Тедди, но мелодию вы бы узнали. И мне требовался не стул, а скамья, потому что я научился скользить по ней, полируя ее штанами, влево, вправо, опять влево, не стукая локти и не изменяя положения пальцев, то есть мог охватить достаточно большой диапазон для мальчишки моего возраста и телосложения.
Моя мама стояла, слушая, как я играю, и я не решался взглянуть на нее. Не хотел видеть, как радостно она улыбается, притворяясь, будто я играю лучше, чем на самом деле, или, наоборот, морщится. Второй я сыграл ее любимую мелодию, старый хит Аниты О’Дэй «И ее слезы лились, как вино». После первых звуков мама запела. Конечно, акустика общественного центра оставляла желать лучшего, но, думаю, мама не ударила бы в грязь лицом ни в театре «Парамаунт», ни в зале отеля «Пенсильвания» в те давние дни, когда Анита выступала со Стэном Кентоном, задолго до моего рождения.
Я обратил внимание, что люди начали подтягиваться к залу Абигейл Луизы Томас, привлеченные маминым пением. Я очень ею гордился и печалился, что аккомпаниатор у нее не очень. Песня плавно катилась к концу, и пела она фантастически, все лучше и лучше, и вот тут, в маленькой толпе, я увидел мисс Перл.
Все в том же розовом костюме и в шляпке с перышками, как было и почти три месяца назад, когда она сидела рядом со мной на крыльце и называла Утенком. Она помахала мне, и я улыбнулся.
Мне не терпелось представить мисс Перл миссис О’Тул, чтобы мы поблагодарили нашу благодетельницу за пианино. Я решил, что новенький «Стейнвей» простоял здесь достаточно долго, чтобы при его внезапном превращении в рухлядь и возвращении в подвал никто бы не вспомнил, что пианино отремонтировали или заменили, то есть уже не придавал такого значения страху, который не позволил мне упомянуть мисс Перл в тот день, когда я увидел новенькое, сверкающее черным пианино. Таково, если говорить о волшебстве, мышление восьмилетнего мальчишки: если чудо случается, Бог своей прихотью может аннулировать его в самом скором времени, но если с ним ничего не случилось день, неделю, месяц, то оно становится неотъемлемой частью реального мира, и даже у Бога нет никакой возможности лишить нас этого чуда.
По правде говоря, я и теперь исхожу из этого допущения. Если хаос заполняет мир – а он заполняет, – и если есть какая-то добрая сила, которая хочет, чтобы мир выжил, тогда стабильность будет поощряться и вознаграждаться. Может, не все время. Но большую его часть.
В любом случае мы закончили «И ее слезы лились, как вино», и по глупости – может, от избытка чувств – я добавил к мелодии эффектную «завитушку», которая отсутствовала в оригинале. К счастью, собравшиеся в зале посетители общественного центра знали, что песня закончилась с последним словом мамы, и их громкая овация меня спасла: моя финальная «завитушка» растворилась в громе аплодисментов. Многие из тех, кто приходил в общественный центр, чтобы поиграть в карты или пообщаться, возрастом не уступали, а то и превосходили дедушку Тедди, поэтому прекрасно знали старые песни и могли бы подпевать, если б не хотели послушать соло Сильвии Бледсоу. Они пожелали продолжения банкета, я посмотрел на маму, она кивнула.
В общественном центре хранились старые пластинки, и лишь несколькими днями раньше я услышал «Тобой все начинается» в исполнении Милдред Бейли и ансамбля Реда Норво[17]. Не подумав о том, чтобы спросить маму, знает ли она эту песню, заиграл мелодию, а она запела, да так здорово, что все мои огрехи растворились в ее голосе. Заметив слезы на глазах некоторых седоволосых женщин, я впервые понял, сколь важное значение имеет музыка, как дает она понять, кто мы теперь и откуда пришли, напоминает о веселых временах, но и о грусти тоже.
Когда закончилась и эта песня, всем хотелось с нами поговорить. Я, само собой, отвечал только: «Спасибо» и «Благодарю вас», но наших слушателей, конечно, в большей степени интересовала мама, а не я. Они хотели знать, где она выступает. Про «Слинкис» многие и не слышали, а те, кто знал, выглядели разочарованными.
Они столпились вокруг мамы, а я отправился на поиски мисс Перл, но нигде ее не нашел. Спросил у нескольких человек, не видели ли они высокую женщину в розовом костюме и шляпке с перышками, но никто ее не запомнил.
Из общественного центра – по предложению мамы – мы пошли в ближайший парк. Не такой и большой: деревья, скамейки и бронзовая статуя одного из прежних мэров или кого-то еще, наверняка недовольного тем, что его окружало такое запустенье, да только как он мог пожаловаться? К постаменту крепилась табличка, на которой указывалось, кто этот бронзовый человек, но вандалы вырвали ее из гранита. На лужайке хватало проплешин, деревья должным образом не подстригались, мусор вываливался из переполненных урн. Моя мама вспомнила про киоск, в котором продавались газеты, закуски и пакетики с маленькими крекерами, чтобы кормить голубей, но его, похоже, давно снесли, а голуби, которых в парке хватало, выглядели какими-то квелыми, с красными глазами.
– Чего уж там! – воскликнула мама. – Почему нет?
– «Почему нет» что? – переспросил я.
– Почему бы нам не устроить праздник? Ты, и я, да мы с тобой. Гульнем?
– И что будем делать?
– Все, что захотим. Для начала найдем парк получше.
Мы вышли на улицу, встали на бордюрный камень, оглядываясь в поисках такси. Два проехали мимо, не отреагировав на поднятую руку мамы. Третье остановилось, и водитель, Альберт Соломон Глак, повез нас в парк получше, который назывался Прибрежным. В те дни плексигласовая перегородка еще не отделяла заднее сиденье от переднего: никто даже не думал о том, что пассажиры могут представлять собой опасность для водителя. Мистер Глак развлекал нас, изображая Джеки Глисона, Фреда Флинтстоуна и Эрнеста Боргнайна[18], тогда звезд телеэкрана, а еще сказал, что может изобразить Люсиль Болл, да только заговорила она у него голосом Эрнеста Боргнайна, заставив меня хохотать до слез. Он хотел попасть в шоу-бизнес, поэтому шутки слетали с его губ одна за другой. Я заставил маму записать его имя и фамилию, чтобы рассказывать о встрече с ним, когда он станет знаменитостью. Годы спустя у меня появился повод найти его. Знаменитостью он не стал, но нашу вторую встречу я не забуду до конца своих дней, как не забыл первую.
Остановившись у парка, он сказал: «Подождите, подождите», – прежде чем мама успела ему заплатить, вышел из такси, обошел автомобиль, открыл заднюю дверцу и рукой обвел парк, как бы даря его нам. Плотный коренастый мужчина, с кустистыми бровями и подвижным лицом, созданным для комедии, улыбающийся, сыплющий шутками, но я заметил, что ногти его пальцев обгрызены до мяса.
После того как мы вышли на тротуар, мама заплатила ему. Он взял точно по счетчику, отказавшись от чаевых.
– Иногда попадаются пассажиры, которым хочется приплатить за то, что они сели в мое такси. И у меня есть кое-что для вас и вашего мальчика. – Он достал из кармана медальон на цепочке. Когда мама попыталась отказаться, покачал головой: – Если не возьмете, я буду кричать: «Полиция, на помощь!» – пока они не прибегут, а потом предъявлю ужасные обвинения, и к тому времени, когда вас выпустят из полицейского участка, идти в парк будет поздно.
Сильвия рассмеялась, покачала головой.
– Но я не могу взять…
– Мне дала его пассажирка шесть месяцев тому назад и сказала, что хочет, чтобы я передал медальон кое-кому еще. Я спросил кому, и она ответила, что я пойму, когда встречу этого человека. Но теперь выясняется, что это не один человек, а двое, вы и ваш мальчик. Это медальон удачи. Хорошей удачи. А если вы его не возьмете, тогда для меня удача переменится. Станет плохой. Хорошая удача для вас, плохая – для меня. И что… вы хотите погубить мою жизнь? У меня такие ужасные шутки? Пожалейте меня, женщина, дайте мне шанс, возьмите его, возьмите его, пока я не кликнул полицию.
Конечно, мы не смогли ему отказать. После его отъезда нашли скамейку, сели и принялись разглядывать медальон. Изготовили его из двух кусочков люсита[19], которые склеили вместе, и получилось сердечко размером с серебряный доллар. Внутри находилось белое перышко. Возможно, тоже приклеенное, но выглядело оно пушистым – чувствовалось высочайшее качество работы – и, похоже, могло затрепетать внутри сердечка, если подуть на люсит. Маленькая серебряная петелька, ввинченная во впадину сердечка, позволяла подвесить медальон на серебряную цепочку.
– Он, наверное, дорогой, – предположил я.
– Знаешь, сладенький, это все-таки не «Тиффани». Но красивый, правда?
– Почему он дал его тебе?
– Честно говоря, не знаю. Мне он показался очень милым человеком.
– Я думаю, ты ему понравилась.
– Если на то пошло, Иона, я уверена, он дал его мне, чтобы я отдала тебе.
С благоговейным трепетом я взял медальон, когда мама протянула его мне.
– Ты и впрямь так думаешь?
– У меня нет ни малейших сомнений.
Я взялся за цепочку и позволил сердечку покачаться в воздухе из стороны в сторону. В солнечном свете полированный люсит казался чуть ли не жидким, и перышко словно плавало в большущей капле воды, каким-то чудом соединенной с петлей. Или в слезе.
– И от какой птицы это перо? – спросил я. – Голубя?
– Нет, полагаю, птичка более достойная, чем голубь. Ты не думаешь, что оно от какой-нибудь певчей птички, с особенно нежным голосом? Таково мое мнение.
– Должно быть, – согласился я. – Но что мне с ним делать? Это же сердечко, девчачье украшение.
– И ты не можешь допустить, чтобы тебя увидели с девчачьим украшением… правильно?
– Меня уже дразнят за то, что я такой худой.
– Ты не худой. Ты поджарый. – Она ткнула меня локтем в бок. – Ты – поджарая, крепкая музыкальная машина.
Ей всегда удавалось повысить мое мнение о себе. Я думал, что это нормально и любая мать, безо всяких на то усилий, находит слова, повышающие самооценку ребенка. Но с годами все лучше узнавал мир и достаточно быстро понял: мне невероятно повезло в том, что воспитывала меня Сильвия Бледсоу.
– Мистер Глак сказал, что этот медальон приносит удачу, – напомнил я, когда мы еще сидели на скамейке.
– Удача еще никому не мешала.
– Он не сказал, можно ли загадывать с ним желание.
– Это легкая удача, Иона. Легкая удача всегда может привести к беде. Тебе нужна удача, которую придется заслужить.
– Может, мне лучше носить его в кармане – не на шее?
– Можно и в кармане. Или хранить в ящике прикроватного столика. Когда человеку дарят особый подарок, его надо беречь. Относиться к нему, как к сокровищу. Если ты относишься к чему-то, как к сокровищу, вещь эта таковым и становится.
Когда много лет спустя я узнал, кто дал этот медальон таксисту и что он из себя представляет, мне стало понятно, что он – точно сокровище.
10
Теперь, когда я шел с медальоном в кармане, у меня создалось ощущение, что в небе прибавилось синевы. День выдался теплым, эта часть города выглядела более чистой, чем наш район. С приближением полудня тени от стволов деревьев укорачивались, а тени от крон все больше напоминали круг со стволом в самом центре. Солнце отражалось от поверхности пруда, и мы видели десятки толстых декоративных карпов, кои, которые плавали в пруду с весны до поздней осени, когда их отправляли в бассейны под крышей. Мама купила за двадцать пять центов пакет с хлебными кубиками, рыбы подплывали к нам, лениво шевеля плавниками, с открытыми ртами, и мы их кормили.
Внезапно я проникся к кои неожиданной нежностью: красивые, яркие, они казались мне музыкой во плоти. Мама показывала мне то на одного, то на другого: какой красный, какой оранжевый, какой желтый, какой золотистый, а я вдруг почувствовал, что больше не могу о них говорить, потому что у меня перехватило горло. Я знал: если заговорю, голос задрожит и я, возможно, заплачу. Я не мог понять, что со мной. Это же обычные рыбы. Может, я становился маменькиным сынком, но, по крайней мере, я скормил им последний кубик хлеба без всяких слез.
Почти полстолетия спустя я чувствую ту же нежность ко всему, что плавает, летает, ходит на четырех лапах, и нисколько этого не стесняюсь. Чудо создания трогает и изумляет, если не отгораживаться от него. Когда я вспоминаю, сколь мала вероятность того, что все это живет в мире, созданном из пыли и горячих газов, сколь бесконечно разнообразие живых существ, которые ночами смотрят на звезды, в голову приходит мысль, что именно наша любовь ко всему живому позволяет Земле существовать и вращаться.
В тот день, покормив кои, мы гуляли по парку, неспешно шагали по дорожкам между площадками для пикника, обогнули поле для бейсбола. Народу было не так много, как я ожидал, вероятно, потому, что мы устроили себе праздник в будний день. Но, когда у нас зашел разговор о ланче, два парня, возможно шестнадцати и семнадцати лет, пристроились к нам, шли чуть позади, прибавляли шагу, если мы пытались оторваться от них, притормаживали, если это делали мы. Они говорили о девушках, с которыми встречались прошлым вечером, о том, какими те оказались горячими и что они с ними делали. Они хотели, чтобы моя мама их слышала. Я не знал всех слов, которые они произносили, не понимал всего, чем они хвалились, но у меня не вызывало сомнений, что это плохиши. Тогда такое случалось нечасто. Практически не случалось. Люди такого не терпели. И они не так боялись. Я пару раз сердито на них глянул, но моя мама одернула меня: «Не надо, Иона», – и мы продолжали идти к Келлогг-паркуэй. А эти хамы только добавили грязи в свой разговор и начали комментировать фигуру моей мамы.
Наконец она остановилась и повернулась к ним, сунув руку в сумку.
– Отвалите.
Один был белым, второй – мулатом, таким словом мы тогда пользовались, имея в виду полукровку, наполовину белого, наполовину черного. Они самодовольно улыбались, надеясь запугать маму.
Белый вскинул брови.
– Отвалить? Это общественный парк, конфетка. Или это не общественный парк, брат?
– Будь уверен, общественный, – ответил его друган. – Чел, перед у нее еще лучше, чем зад.
Моя мама приподняла сумку, не вынимая из нее руку.
– Предсмертное желание загадали? – спросила она.
Улыбка белого сменилась злобной ухмылкой.
– Конфетка, в этом городе мало у кого есть законное разрешение на ношение оружия, так что у тебя в сумке может быть только тампон.
Она смотрела на него, как на слишком много возомнившего о себе таракана, поднявшегося на задние лапы, говорящего, но остающегося тараканом.
– Послушай, придурок, я выгляжу школьной учительницей, которую заботит, что говорит закон? Посмотри на меня. Ты думаешь, я горничная в отеле или продавщица в дешевом магазине? Такой я для тебя выгляжу, говнюк? Что у меня есть, так это нигде не засвеченный пистолет. Я убью вас обоих, брошу его, а копам скажу, что вы напали на меня, пытались ограбить, пригрозив оружием, но в завязавшейся потасовке выронили пистолет. Я его схватила, подумала, что у вас есть еще один, и пустила в ход. Так что или вы валите прочь, или я вас прикончу. Мне без разницы, что вы выберете.
Ухмылки сползли с их лиц. Теперь они выглядели так, словно морщились от боли, хотя их глаза сверкали ледяной яростью. Я не знал, как все могло обернуться, даже ясным днем, на виду у других людей, но мой страх ушел, уступив место изумлению. Я просто не узнавал своей мамы. Я никогда не слышал от нее грубого слова, а насчет пистолета… скорее у меня был черный пояс по карате. Но со стороны создавалось полное ощущение, что слова у нее не разойдутся с делом.
И эти подонки поверили, Нет, они, конечно, шипели на нее – «сука», «шалава», что-то и грубее, – но при этом пятились, а потом развернулись и пошли прочь. Мы стояли и смотрели им вслед, пока не осталось сомнений, что они не вернутся. И только тогда мама заговорила:
– Если ты и услышал пару грубых слов, это не означает, что ты можешь их когда-нибудь повторить.
Я молчал, но не по той причине, которая лишила меня дара речи у пруда с кои.
– Иона? Ты меня слышал?
– Да, мэм.
– Тогда повтори, что я сказала.
– Нельзя использовать грязные слова.
– Ты понимаешь, почему я их использовала?
– Ты говорила с этими парнями на их языке.
– Значит, говорила?
– Чтобы они лучше тебя поняли.
Она улыбнулась, достала руку из сумки, закрыла ее.
– Как насчет ланча?
– Я за.
С этой стороны к Прибрежному парку подступали только дорогие жилые дома, поэтому нам предстояло пройти минут десять, чтобы попасть в район магазинов и кафе.
– А что такое тампон? – спросил я, когда мы отшагали квартал. – Этот парень сказал, что пистолета у тебя в сумке нет, разве что тампон.
– Да ничего, что-то вроде губки.
– Вроде той, что лежит в раковине на кухне?
– Не совсем.
– Вроде той, какими пользуются на автомойке на Седьмой улице?
– Нет, не такая большая.
– А с чего он решил, что у тебя в сумке губка?
– Лучше подготовиться заранее.
– Подготовиться к чему? Что ты что-нибудь прольешь?
– Совершенно верно.
– Тебе эта губка когда-нибудь требовалось?
– Случалось.
– Ты у нас такая чистюля. Я постараюсь брать с тебя пример.
Мы как раз проходили мимо автобусной остановки, и она сказала, что ей надо присесть. А как только села, начала хохотать, да так, что из глаз полились слезы.
Сидя рядом с ней, я оглядывался, но не находил ничего особо веселого.
– Что тебя так рассмешило? – спросил я.
Она покачала головой, достала из сумки бумажную салфетку, принялась вытирать глаза. Наконец смогла мне ответить:
– Я просто подумала об этих двух идиотах.
– Мне они смешными не показались, мама. Скорее страшными.
– Конечно, они страшные, – согласилась она. – Но еще и тупые. Может, я смеялась от облегчения, что мы оба остались целыми и невредимыми.
– Как же ловко ты их провела.
– И ты молодец, хорошо держался.
Вытерев глаза, мама высморкалась и бросила бумажную салфетку в урну у скамьи.
– Тебе и раньше удавалось провести таких идиотов, как эти, потому что тампон-губка формой напоминал пистолет?
Тут она снова расхохоталась, и я решил, что ей в рот просто попала смешинка. Так иногда бывает, ты смеешься и смеешься, не можешь остановиться, хотя ничего смешного вроде бы и нет, но тебе кажется, что очень смешно, пока, наконец, смех не переходит в икоту.
– Сладенький… – говорила она, продолжая смеяться, – …тампон… это… не плохое слово. Но тебе… все-таки… лучше обходись без него.
– Обходиться? Но почему?
– Этому слову… не место… в лексиконе… маленьких мальчиков.
– И сколько я должен прожить лет, прежде чем оно войдет в мой лексикон?
– Двадцать пять, – ответила она и залилась смехом.
– Ладно, но губкой мне его называть можно?
У нее из глаз вновь покатились слезы.
Вскоре к остановке подошли какие-то люди, мы встали, чтобы уступить им скамейку, и пошли дальше. Прогулка излечила маму от смеха, и меня это только порадовало. Я опасался, что эти два хулигана появятся вновь, и точно знал, что больше маме их не напугать, потому что улыбка не сходила с ее лица.
Мы не могли позволить себе часто обедать вне дома, а если уж обедали, то шли в «Вулвортс», потому что Сильвии делали там скидку как сотруднице. Но в этот день мы пошли в настоящий ресторан, мама сказала во французский, и я испытал огромное облегчение, когда выяснилось, что там говорят на английском. Когда мы вошли, по одну руку я увидел длинный бар с большим зеркалом за стойкой. На полу в черно-белую клетку стояли черные стулья и столы, но с белыми скатертями. В черных кабинках и сиденья были из черного винила. Солонки и пепельницы выглядели хрустальными и были такими тяжелыми, что я боялся ими воспользоваться: вдруг выроню и разобью, а стоили они, наверное, целое состояние.
Ресторан предлагал и детское меню, включая чизбургер, который я и заказал, с картофелем фри и кока-колой. Мама остановилась на салате с куриной грудкой и стакане «Шардоне», закончили мы нашу трапезу блюдом, которое я назвал лучшим пудингом в истории мира, а мама – крем-брюле.
Мы ждали десерта, когда я наклонился над столом и прошептал:
– Можем мы себе все это позволить?
– Нет, – прошептала в ответ мама. – Мы и не платим.
– А что они с нами сделают, когда узнают? – спросил я, вцепившись в край стола.
– Платим не мы, а твой отец.
– Он не вернется? – в тревоге спросил я.
– Ты помнишь квартовую майонезную банку, в которую он каждый вечер бросал мелочь? Когда я собирала его вещи, банку в чемодан не положила.
– Может, он за ней вернется?
– Не вернется, – уверенно ответила она.
– Но это неправильно, брать его деньги.
– Нормально, это был его залоговый депозит.
– Его что?
– Владельцы квартир требуют залоговый депозит, некую сумму, которую ты вносишь, въезжая в квартиру, на случай, что ты причинишь урон перед тем, как съедешь. То есть у них остаются деньги для ремонта и нет нужды гоняться за тобой и требовать, чтобы ты этот ремонт оплатил. Твой отец не платил свою долю арендной платы с тех пор, как перебрался к нам, и вчера он причинил урон. Точно причинил. Поэтому я оставила его банку с мелочью как залоговый депозит, и сейчас он оплачивает нам ланч в ресторане.
Прошло много лет, прежде чем я снова поел крем-брюле и понял, что лучшим пудингом в истории человечества то блюдо стало благодаря обстоятельствам. Нет ничего лучше, чем дорогой ланч, оплаченный деньгами отца, который своим присутствием не мог все испортить.
Во второй половине дня мы посмотрели смешную комедию с Питером Селлерсом, а вечер я провел с мистером и миссис Лоренцо – заснул на их диване, крепко зажав в правой руке медальон, подаренный мистером Глаком. Время от времени почти просыпался и чувствовал, как трепещет перышко. Когда мама вернулась после полуночи, отработав четыре часа в «Слинкис», мистер Лоренцо отнес меня в нашу квартиру. Я был такой сонный, что мама уложила меня в трусах и майке, не переодевая в пижаму. Хотела убрать медальон в ящик прикроватного столика, но я очень крепко держался за него.
Мне приснилась белая птица, огромная, как самолет, и я мчался у нее на спине, не боясь упасть. Мир сверкал внизу: леса, поля, горы, долины, моря с белыми кораблями, а потом город, наш город. Люди поднимали головы, указывали, махали руками, я тоже махал, и только когда птица начала петь, до меня дошло, что птица не такая большая, как самолет, и вообще это не птица, а моя мама, одетая в белый шелк, с крыльями, более прекрасными, чем у лебедя. Она несла меня на спине, и я чувствовал удары ее сердца, ее чистого сердца, бьющегося мерно и сильно.
11
В следующее воскресенье, двенадцатого июня, бабушка и дедушка приехали в центр города на своем черном «Кадиллаке» модели «Серия 62 клаб-купе» выпуска 1946 года, который купили девятнадцатью годами раньше, и с тех пор дедушка Тедди поддерживал автомобиль в идеальном состоянии. Он напоминал большой корабль, несмотря на стремительную форму, с огромными пулеобразными передними и задними крыльями и плавно спускающейся к заднему бамперу крышей. После этого «Кадиллаку» так и не удалось сделать более крутую модель, особенно с появлением «плавников»[20]. Тедди и Анита отвезли нас в свой дом, чтобы отпраздновать мой день рождения, и событие это стало знаменательным.
Их удивила моя эйдетическая память к музыке, которая только крепла, благодаря моим занятиям с миссис О’Тул. На своем рояле, стоявшем в большой гостиной, дедушка Тедди сыграл мелодию, которую я раньше слышать не мог, «Глубоко во сне», написанную Уиллом Хадсоном и Эдди Деланжем[21], оркестр которых просуществовал несколько лет в тридцатых годах прошлого века. Сыграл он превосходно, а потом я повторил, конечно с учетом моих ограниченных возможностей, и, хотя я сам чувствовал разницу в исполнении, меня потряс сам факт, что я могу сыграть то же самое. Дедушка проверил меня еще на паре мелодий, а потом мы сели, чтобы сыграть вместе. Он взял на себя левую руку и педаль, мне досталась правая, и мы исполнили мелодию, которую я хорошо знал, «Лунное сияние»[22] Хадсона и Деланжа, от начала и до конца, не допустив ни одной ошибки в темпе или аккордах.
Мы могли бы так играть часами, но, думаю, я просто раздулся от гордости, а никто не хотел потворствовать мне в том, чтобы законная гордость за достигнутое перешла в недопустимое зазнайство. Мои бабушка и дедушка учили маму – а она меня, – что все и всегда надо делать хорошо не ради похвалы, но испытывая внутреннюю удовлетворенность от сделанной на совесть работы. Я только-только открыл в себе талант и по молодости возгордился невероятно, чем, видимо, вызывал некоторую антипатию.
Дедушка резко поднялся.
– Достаточно. Сегодня я не работаю, поэтому мы с Ионой прогуляемся перед ланчем.
День выдался теплым, но не удушающе жарким. Уличные клены, по осени красные, сейчас зеленели, легкий ветерок шевелил листву, и на тротуаре тени подрагивали, как темные рыбы, напоминая кои в пруду Прибрежного парка.
Дедушка Тедди возвышался надо мной как гора, и на фоне его баса я не говорил, а пищал. Он продвигался вперед, словно океанский лайнер, тогда как я напоминал суетливую моторную лодку, но при этом он давал мне понять, что я – неотъемлемая часть его жизни и в данный момент он предпочитает быть со мной, а не где-то еще. Мы поговорили с ним о многом, но целью нашей прогулки стало желание дедушки Тедди высказать мне свое мнение о моем отце.
– Твоя мать дала тебе новый ключ от квартиры?
– Да, сэр, дала. – Я достал из кармана брелок с ключами и продемонстрировал новенький, от которого отражался солнечный свет.
– Ты знаешь, почему поменяли замки?
– Из-за Тилтона.
– Не следует тебе называть отца по имени. Скажи: «Из-за моего отца».
– Нет у меня такого ощущения.
– Какого у тебя нет ощущения?
– Не чувствую я, что он мне отец.
– Но он – твой отец, и ты должен относиться к нему с уважением.
– Мне кажется, что ты – мой отец.
– Это приятно, Иона. И я каждый день благодарю Бога за то, что ты – часть моей жизни.
– Я тоже. Я хочу сказать, что ты – мой дедушка.
– Твой отец – не первый кандидат на уравновешенное отношение с твоей стороны. Слово «уравновешенное» тебе понятно?
– Да, сэр, – без крайностей.
– С ним не так просто не впасть в крайность, но ты должен всегда относиться к нему уважительно, потому что он – твой отец.
Когда мы проходили мимо людей, которые сидели на крыльце, они здоровались с дедушкой Тедди, а он здоровался с ними и махал рукой. Иногда водители проезжающих автомобилей нажимали на клаксон и выкрикивали его имя, и он в ответ приветственно махал им рукой. И мы встречали пешеходов, которые прогуливали собак или тоже решили пройтись в такой хороший день. Они заговаривали с ним, или он – с ними. Но, несмотря на все это, он продолжал возвращаться к главной теме.
– Ты должен его уважать, Иона, но при этом соблюдать осторожность. То, что я собираюсь тебе сказать, Иона, не должно убавить твоего уважения к отцу. Если это произойдет, я очень огорчусь. Но огорчусь еще больше, если не скажу тебе всего этого… У меня появится причина сожалеть о том, что оставил все при себе.
Я понимал: к тому, что он собирался мне сказать, я должен отнестись серьезно, так же, как ко всему, услышанному в церкви. Так я это воспринимал: дедушка в роли пастора, только речь пойдет не о значении какого-то церковного псалма, не о Вифлеемской истории, а о моем отце.
– Твоя мать – удивительная женщина, Иона.
– Она идеальная.
– Почти. Идеальных людей в этом мире нет, но ее отделяет от идеала что-то ничтожно малое. В свое время наши с ней мнения о твоем отце разделяли мили, а теперь – дюйм или два. Но это важные дюйм или два.
Он остановился, вскинув голову, долго смотрел на дерево, и я тоже посмотрел, но не мог понять, что его заинтересовало. Не увидел ни белки, ни птицы, никого.
Заговорил он, когда мы двинулись дальше.
– Я надеюсь, что нашел правильные слова. Твоя мать даже сейчас исходит из того, что изначально твой отец – хороший человек, у которого добрые намерения, который хочет все сделать правильно, но в детстве с ним обходились плохо, его это испортило, а еще он слабак. Насчет слабака я с ней полностью согласен. И нет никакой возможности узнать, правда ли случившееся с ним в детстве, потому что других доказательств, кроме его слов, нет. Но даже если все это и правда, в детстве плохое случается со всеми, и это не означает, что мы можем причинять боль другим, поскольку когда-то ее причиняли нам. Ты понимаешь, о чем я?
– Да, сэр. Думаю, да.
– Твой отец собирается развестись с твоей матерью.
Я чуть не запрыгал от радости.
– Хорошо. Это хорошо.
– Нет, малыш. В разводе ничего хорошего нет. Это грустно. Иногда без этого не обойтись, но это нехорошо.
– Ладно, раз ты так говоришь.
– Говорю. И сейчас для этого не требуется доказывать чью-то вину. Если нет необходимости делить собственность – а такой необходимости нет, – если ему не нужна опека над ребенком и даже право видеться с тобой – а ему ни то ни другое не нужно, – суд обходится без согласия твоей матери.
– Она бы согласилась.
– Развод он получит и без ее согласия. Знаешь, когда распадаются семьи, некоторые люди очень озлобляются и пытаются максимально навредить недавно близкому человеку.
– Только не моя мама.
– Это точно. Но когда люди злятся, они ведут себя глупо. Устраивают свару из-за детей, один пытается наказать другого, возводя стену между ним и детьми.
В тревоге я остановился.
– Но ты же сказал, что я ему не нужен. А если так, я у него и не окажусь. Не пойду к нему. Никогда.
Дедушка Тедди положил руку мне на плечо.
– Не волнуйся, малыш. Ни один судья в этом городе не отнимет тебя у такой женщины, как Сильвия, и не отдаст твоему отцу.
– Правда? Ты уверен?
– Я уверен. И он говорит, что ты ему не нужен, но у такого человека, как он, слова совсем не обязательно совпадают с мыслями. Иногда люди ведут себя безответственно, Иона, они не хотят оставить решение спора суду, они сами вершат правосудие, согласно собственным взглядам на проблему.
– Он может это сделать? Как он может это сделать?
Мы уже подходили к церкви Святого Станислава.
– Давай посидим на ступени у входа в церковь, – предложил дедушка Тедди.
Мы сели бок о бок на ступени, он достал из кармана упаковку «Джуси фрут» и предложил мне пластинку, но я так перепугался, что брать не стал. Возможно, он тоже чуть напугался, поскольку последовал моему примеру и убрал упаковку в карман.
– Допустим, как-нибудь ты идешь из общественного центра домой и твой отец сворачивает к тротуару, останавливает автомобиль и предлагает тебя куда-то отвезти. Что ты сделаешь?
– А куда он захочет меня отвезти?
– Скажем, в такое место, куда ты с удовольствием бы поехал, может, в кино или в молочный бар.
– Он никогда не предложит мне поехать туда. Раньше такого не случалось.
– Может быть, он скажет, что у него возникло желание наладить с тобой отношения, извиниться за все, что он делал не так.
– У него может возникнуть такое желание? Сомневаюсь.
– Он может такое сказать. Возможно, он даже купит тебе подарок, и тот, завернутый в блестящую бумагу, будет лежать на переднем пассажирском сиденье. От тебя потребуется только сесть в машину и развернуть бумагу по дороге в кино или молочный бар.
В теплом воздухе, на теплых от солнца ступенях меня прошиб холодный пот.
– Как я понял из твоих слов, мне надо будет проявить к нему уважение.
– Так что ты сделаешь?
– Ну… скажу, что мне надо спросить маму, не возражает ли она против моей поездки с ним.
– Но твоей мамы рядом не будет.
– Тогда я попрошу его заехать в другой раз, после того, как я с ней поговорю, но, даже если мама разрешит, я все равно не хочу никуда с ним ехать.
Три вороны приземлились на тротуар и запрыгали, склевывая зернышки риса, оставшиеся после прошедшей ранее свадебной церемонии, каждая настороженно поглядывала на нас, блестя черными глазами.
Какое-то время мы наблюдали за ними, а потом я спросил:
– Может Тилтон… может мой отец причинить мне вред?
– Я не верю, что причинит, Иона. Есть в нем дыра, пустота, которой в человеке быть не должно, но я не думаю, что он способен поднять руку на ребенка. Забрав тебя, он попытается причинить боль твоей матери.
– Я не допущу, чтобы такое случилось. Не допущу.
– Поэтому я и хотел поговорить с тобой. Чтобы ты постарался этого не допустить.
Я подумал о двух плохишах, с которыми мы несколькими днями раньше столкнулись в Прибрежном парке.
– Получается, всегда что-то может случиться, да?
– Такова жизнь. Всегда что-то случается, чаще хорошее, чем плохое, но что-то происходит, что-то интересное, если обращаешь внимание.
Он вновь предложил мне жевательную резинку, и на этот раз я взял пластинку. Он – тоже. Потом забрал у меня бумажную упаковку и фольгу, добавил бумагу и фольгу от своей пластинки, сложил и убрал в нагрудный карман.
Мы уже с минуту жевали «Джуси фрут», продолжая наблюдать за воронами, когда я подумал о медальоне мистера Глака, достал его из кармана и протянул дедушке.
– Какая красота, – восхитился он, покрутил в руке, подставляя солнечному свету, и спросил, где я его взял. Выслушав меня, добавил: – Иона, это классическая городская легенда. Настоящая классическая городская легенда. Ты будешь рассказывать ее детям и внукам.
– Дедушка, как ты думаешь, что там за перышко?
Он покрутил цепочку между пальцев. Осторожно вращая люситовый медальон из стороны в сторону.
– Я не специалист по перышкам, но одно могу сказать со всей определенностью.
– Что именно?
– Это не обычное перышко. Это удивительное перышко. Иначе никому и в голову не пришло бы заливать его люситом, а потом обтачивать люсит в форме сердца. – Он нахмурился, но тут же лицо осветила улыбка. – Я даже готов предположить, что это амулет джуджу.
– Что такое джуджу?
– Религия в Западной Африке с чарами, проклятьями и множеством богов, хороших и плохих. На Карибах она смешалась с некоторыми положениями католицизма и превратилась в вуду.
– Я видел старый фильм про вуду по телику. Он так меня напугал, что телик мне пришлось выключить.
– Напугался ты зря, потому что там все – выдумка.
– В кино вуду занимались не на каком-то острове, а прямо в большом городе.
– Не думай об этом, Иона. Этот медальон таксист дал тебе с самыми добрыми намерениями, поэтому нет в нем ничего темного или опасного. Что бы ни означало это перышко, ты должен понимать, что для кого-то оно настолько важное, что его решили сохранить. И ты должен беречь этот медальон.
– Обязательно, дедушка.
– Я знаю, что сбережешь. – И он вернул мне медальон.
Затем поднялся, напугав ворон, разлетевшихся в разные стороны, и мы направились к дому, где нас ждал ланч.
– Этот разговор насчет твоего отца, он должен остаться между нами, – предупредил дедушка.
– Конечно. Не надо нам волновать маму.
– Ты хороший мальчик.
– Ну, не знаю.
– Я знаю. И если ты будешь держаться скромно и помнить, что талант – это не заработанный тобой дар свыше, тогда ты точно станешь великим пианистом. Если, конечно, ты хочешь им стать.
– Это все, чего я хочу.
Под кленами черно-белые движущиеся рисунки на асфальте больше не напоминали мне рыб в пруду, как на пути туда. Теперь я видел в них фортепьянные клавиши, только не выстроившиеся в привычном порядке, а пересекающиеся под немыслимыми углами и мерцающие той музыкой, которая заставляет воздух искриться. Малколм называет ее музыкой, отгоняющей дьявола.
12
В двадцать два года Малколм от горя сбился с пути истинного. Начал тайком принимать наркотики. Ушел в себя и исчез, никому не сказав, где его искать. Только потом я узнал, что он покинул город, и для молодого человека, привыкшего к улицам, это было ошибкой. Денег ему хватало на год такой жизни, и он арендовал коттедж на озере в северной части штата.
Он курил травку, нюхал – редко – кокаин и, сидя на крыльце, часами смотрел на озеро. Еще он пил – виски и пиво, – а питался, главным образом, полуфабрикатами, которые требовалось только разогреть. Он читал книги о революционной политике и самоубийстве. Читал романы, но только полные насилия, мести и отчаяния. Иногда вырывался из состояния ступора, чтобы горько клясть день своего рождения и жизнь, до которой докатился.
Однажды, проснувшись во втором часу ночи, он сразу понял, что разговаривал во сне, злобно и с проклятиями. А в следующее мгновение до него дошло, что он не один. Дурной, пусть и слабый, запах наполнял его отвращением, и он слышал, как скрипят половицы: кто-то или что-то без устали ходило по ним.
Заснул он пьяным и оставил зажженной лампу на прикроватном столике. Когда перекатился на спину, а потом сел, увидел какую-то тень в дальней части комнаты, существо, которое до сих пор не хочет описывать, ограничиваясь только желтыми глазами. Не творение природы и точно не галлюцинацию.
Хотя Малколм суеверный, и невротик, милый, но невротик, и эксцентричный, о том происшествии он рассказывал с такой серьезностью, в такой тревоге, что я никогда не сомневался, что это чистая правда. И, конечно, окажись я на его месте, никогда бы не смог проявить такого хладнокровия.
В любом случае он понимал, что гость этот – демон и он сам привлек его собственными злостью и отчаянием. Он осознал, что над ним нависла серьезная опасность, настолько серьезная, что смерть тянула лишь на малую ее часть. Он отбросил одеяло, поднялся с кровати в одних трусах и, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, шагнул к ближайшему креслу и взял саксофон, оставленный там прошлым вечером. Он говорит, что его сестра обратилась к нему, пусть в этом коттедже ее и не было. Ее голос раздался у него в голове. Он не смог вспомнить слов. Помнит только, что она призвала его играть мелодии, поднимающие настроение, и играть со всей страстью, которую он еще сохранил в себе, чтобы музыка заставила воздух искриться.
И Малколм играл два часа, в течение которых незваный гость кружил вокруг него, сначала ду-воп, а потом множество мелодий, написанных задолго до появления рок-н-ролла. Таких, как «Это должна быть ты» и «Свинг на аллее» Айшема Джонса, «Сердце и душа» Лоссера и Кармайкла, «Наперегонки с луной» Уотсона и Монро, «Все тебе» Маркса и Саймонса, «В настроении» Гленна Миллера. Он только искоса посматривал на желтоглазое чудовище, опасаясь, что прямой взгляд оно сочтет за приглашение перейти к более решительным действиям, но через час музыки оно начало медленно таять. К концу второго часа исчезло, но Малколм продолжал играть, страстно и вдохновенно, хотя потрескались губы, челюсти начало сводить, а пот заливал глаза, из которых катились слезы.
Отгоняющая дьявола музыка. Если бы она действовала на моего отца – и тех, с кем он в итоге связался, – так же хорошо, как на желтоглазую тварь в коттедже у озера!
13
Мы услышали сирену, но в городе сирены звучали постоянно, копы всегда куда-то спешили, лавируя на своих патрульных автомобилях в транспортном потоке, и сирен с каждым годом только прибавлялось – так говорила моя мама, – словно что-то со страной шло не так, хотя со многим все было как раз хорошо. Самое худшее, что ты можешь сделать, услышав сирену, так это остановиться и посмотреть, в чем причина, потому что в следующее мгновение может оказаться, что причина эта краем зацепит и тебя.
Случилось все вечером понедельника, через восемь дней после нашего с дедушкой разговора. В понедельники мама в клубе не работала, поэтому мы играли в шашки за кухонным столом, когда сирена взвыла особенно громко и смолкла где-то в нашем квартале. Мы продолжали играть, говорили о том и о сем, и я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем в дверь постучали, возможно, минут двадцать. Про сирену мы и думать забыли. У нас был и звонок, но в дверь постучали, да так тихо, что стук этот мы едва расслышали. Мама подошла к двери, посмотрела в глазок и сказала: «Это Доната».
Миссис Лоренцо застыла на пороге, красивая, словно Анна-Мария Альбергетти, побелевшая, как чудо-хлеб[23], с растрепанными волосами. Лицо блестело от пота, хотя вечер был не такой уж теплый для второй половины июня. Руки, сжатые в кулаки, она скрестила на груди, стояла, застыв, как памятник, словно, успев постучать в дверь, окаменела. Не вызывало сомнений, что она только что пережила сильнейшее потрясение.
– Я не знаю, куда мне идти, – в голосе слышалось крайнее недоумение.
– Что такое, Доната? Что случилось? – спросила мама.
– Я не знаю, куда мне идти. Мне некуда идти.
Мама взяла ее за руку.
– Дорогая, ты вся заледенела.
Лицо женщины блестело от пота, но ледяного.
Мама затащила ее в квартиру, и когда миссис Лоренцо заговорила, в голосе еще не слышалось горя, только крайнее удивление:
– Тони мертв. Он поднялся из-за стола после обеда, замер, лицо ужасно исказилось, и он мертвым упал на кухне. – Когда мама обняла миссис Лоренцо, женщина навалилась на нее, но голос не изменился. – Теперь они забирают его, они говорят, забирают, чтобы сделать вскрытие, я не знаю куда. Ему только тридцать шесть, поэтому они должны… они должны… они должны разрезать его и узнать, это инфаркт или что-то еще. Мне некуда идти, он – все, что у меня было, и я не знаю, куда мне теперь идти.
Возможно, до этого она не плакала, возможно, от шока и ужаса внутри у ее все превратилось в камень, но теперь слезы потекли ручьем, и миссис Лоренцо разрыдалась. Ужас случившегося смешался с болью утраты, и жалостные звуки, исторгавшиеся из ее груди, вызывали у меня чувство абсолютной беспомощности и бесполезности, отличное от всего того, что я испытывал раньше.
Как бывало обычно, мама взяла ситуацию под контроль. Отвела миссис Лоренцо на нашу кухню, усадила за стол, отодвинула в сторону доску с шашками. По ее настоянию миссис Лоренцо выпила чай, который мама тут же и заварила, а потом как-то успокоила правильными словами, я бы никогда их не нашел, и еще – своими слезами.
Я не мог смотреть, как миссис Лоренцо, такую мягкую и добрую, раздавливает беда, свалившаяся на нее. Естественно, она не могла свыкнуться с мыслью, что овдовела столь молодой. Я подошел к окну гостиной. «Скорая» со включенной мигалкой еще стояла у подъезда.
Я знал, что мне надо покинуть квартиру. Не понимал почему, но чувствовал: если останусь, тоже начну плакать, жалея не только миссис Лоренцо или мистера Лоренцо, но и своего отца – кто бы мог подумать – из-за огромной пустоты, которая образовалась у него внутри, и себя, потому что мой отец так и не сумел стать отцом. Бабушка Анита еще жила, и мистер Лоренцо стал первым умершим из знакомых мне людей. Он работал официантом и часто приходил домой поздно, иногда относил меня в нашу квартиру, когда я засыпал до того, как мама возвращалась из клуба, а теперь он умер. Я радовался, что мой отец уехал из нашей квартиры, но все равно получалось, что две смерти чуть ли не наложились одна на другую: смерть соседа и смерть мечты о теплых отношениях отца и сына. Если бы меня спросили, я бы ответил, что ни о чем таком никогда и не мечтал, но только тут осознал, что все-таки цеплялся за эту мечту. Я сбежал по лестнице в вестибюль, выскочил на крыльцо, спустился по ступенькам на тротуар.
Фельдшеры загружали тело в «Скорую». Мистера Лоренцо закрывала простыня, или его уже уложили в мешок, но я видел только силуэт тела. На другой стороне улицы собралась толпа из двадцати или тридцати человек, возможно, жителей соседних домов, и все они наблюдали, как увозят мистера Лоренцо. Хватало тут и детей, моего возраста и моложе. Они бегали, танцевали, дурачились, словно принимали мигалку «Скорой» за праздничный фейерверк. Может, если бы смерть случилась на другой стороне улицы, я бы вел себя так же, как эти дети. Может, разница между ужасом и праздником составляла ширину обычной улицы.
В девять лет я, разумеется, знал о смерти, но представлял себе, что она может случиться где-то еще, далеко, так что волноваться о ней мне еще долго не придется. Но теперь навсегда ушли знакомые мне люди. И если двое ушли за две недели, то оставшиеся трое – дедушка, бабушка и мама – могли уйти в следующие три, и тогда я бы остался, как миссис Лоренцо, одиноким и неприкаянным. Бред, конечно, паника маленького ребенка, но она только нарастала от осознания, что все мы такие хрупкие и незащищенные.
Я подумал, что должен что-нибудь сделать для мистера Лоренцо. Бог это увидит и одобрит, и уже никого у меня не заберет, пока я не вырасту. Думаю, если бы не охвативший меня безумный страх, я мог бы побежать в церковь, поставить свечку мистеру Лоренцо и помолиться за упокой его души. Вместо этого я подумал, что могу сыграть ему на пианино одну из его любимых песен, которые он слушал на стереопроигрывателе.
Общественный центр в понедельник работал до половины одиннадцатого, потому что в этот день там играли в бинго. И как только один фельдшер закрыл задние дверцы, а второй завел двигатель, я повернулся и направился в зал Эбигейл Луизы Томас.
Краем глаза я увидел, что он идет параллельно мне. Сколько буду жив, буду благодарить за это удачу и медальон с перышком, который лежал у меня в кармане, потому что пребывал в расстроенных чувствах и, конечно же, иначе не заметил бы его. Наверное, мой отец чуть раньше прятался в толпе, а вот теперь двинулся за мной. Когда понял, что я заметил его, не крикнул, не помахал рукой, чем мог бы успокоить меня. Только прибавил шагу, так же, как я, а стоило мне побежать, ответил тем же. Если бы я продолжил путь к общественному центру, он мог зайти следом. Никто не знал, что моя мать выгнала его и дело шло к разводу. Сильвия никогда не стирала свое грязное белье на публике. Меня в центре знали, его – нет, и если бы я поднял шум, они бы наверняка позвонили моей маме.
Но потом я увидел, что на бегу он оглядывает улицу, выискивая возможность пересечь разделяющие нас три полосы движения. До общественного центра оставалось больше квартала. Его ноги длиной намного превосходили мои. Он бы перехватил меня до того, как я успел бы добраться до двери центра. Он бы не причинил мне вреда. Я был его сыном. Дедушка Тедди сказал, что Тилтон не причинит мне вреда. Мог схватить меня и увести с собой. Но вреда бы не причинил. Чтобы схватить меня и увести с собой, ему требовался автомобиль, определенно требовался автомобиль. Но в городе он прекрасно обходился без автомобиля, и раньше у Тилтона его не было. Может, теперь он им и обзавелся, но ему пришлось бы тащить меня до автомобиля. А я бы сопротивлялся, а он этого не хотел. И получалось, что он все-таки собирался причинить мне вред.
На углу, пройдя только треть пути к общественному центру, я повернул налево, чтобы добраться до проулка, который проходил за нашим домом. Оглянувшись, успел увидеть, как Тилтон пересекает улицу, лавируя между автомобилями. Водители жали на клаксоны, визжали тормоза. Выглядел он обезумевшим. Я уже понимал, что успею добежать до проулка, но никак до двери черного входа в наш дом, прежде чем он догонит меня.
Если на улицах только сгущались сумерки, расцвеченные светом многочисленных окон, то в узком проулке уже господствовала ночь. Не во всех домах были двери черного хода, в некоторых все ограничивалось пожарной лестницей, а лампочки над дверьми, по большей части, разбили. Зато в проулке хватало мусорных контейнеров. Я забрался на стенку одного, с откинутой крышкой, прыгнул вниз, на пластиковые мешки с мусором, в вонь гниющих овощей и еще Бог знает чего.
Встал на колени, прижавшись спиной к металлической стенке, закрыл руками рот и нос, не для того, чтобы отсечь вонь, а чтобы приглушить дыхание. Его шаги затопали по асфальту, потом по брусчатке, там, где асфальт закончился. Он пробежал мимо меня, тяжело дыша, остановился, как я понял, у двери черного хода нашего дома. Я прислушался к его раздраженному бормотанию и каким-то звукам, смысл которых понять не мог.
Я задался вопросом, а правильно ли поступил, удирая от него. Он, в конце концов, был мне отцом, не таким уж хорошим, но, тем не менее, отцом. Может, я неправильно оценил его настроение, ошибся по части намерений.
Но я перестал волноваться из-за того, что, возможно, отнесся к нему несправедливо, когда он начал ругаться в голос, честя меня на все лады. Он тряс рукоятку, пинал дверь. Я не понимал, что происходит. Техник-смотритель врезал новые замки в дверь нашей квартиры, но у Тилтона оставался ключ от двери черного хода, поскольку там замок никто менять не собирался. Однако открыть его не удавалось. И мой отец злился все сильнее, сыпал ругательствами, пинал дверь, а потом – от избытка чувств, пнул еще и мусорный контейнер – не мой, стоявший ближе к двери. Тут я догадался, что Тилтон пьян. Контейнер аж загудел, и звук этот – бум-бум-бум – разнесся по проулку. Какой-то мужчина с верхнего этажа крикнул: «А ну прекрати!» Тилтон в ответ его обругал. Мужчина предупредил, с такими интонациями, будто собирался это сделать: «Тогда я спускаюсь, ублюдок». Мой отец поспешил ретироваться, но никто, конечно, не спустился. В проулке воцарилась относительная тишина, нарушаемая только шумом транспорта, доносящимся с улицы, да музыкой и голосами из телевизора, который смотрели в комнате с открытым окном.
Я еще несколько минут просидел в контейнере. Но всю ночь оставаться в нем не мог, поэтому вылез. Подсознательно ожидал, что из теней выскочит фигура и набросится на меня, но из живого в проулке компанию мне составляли только крысы, природные вредители, ничего больше.
Над дверью черного хода в наш дом горела лампа, защищенная проволочным кожухом, и при ее свете я увидел, что из замка торчит согнутый ключ. В стремлении перехватить меня до того, как я успею подняться в квартиру, мой отец вставил в замочную скважину не тот ключ, а потом повернул с такой силой, что погнул. Я подергал его, пытаясь вытащить, но ключ не только погнулся, но, похоже, зацепился бороздкой за пазы замка. Так что утром технику-смотрителю предстояло разбирать замок, чтобы выправить ситуацию. А мне не оставалось ничего другого, как возвращаться домой через парадный вход.
Предзакатные сумерки заметно померкли, но уличные фонари еще не зажглись. Свет фар проезжавших автомобилей отражался от припаркованных, выхватывая в кабинах какие-то гротескные тени. Не представлялось возможным определить, где просто тень, а где человек. Мимо каждой машины я проходил с замирающим сердцем, ожидая, что сейчас раскроется дверца и мой отец набросится на меня. Мог он выскочить и из зазора между припаркованными автомобилями. Тем не менее до подъезда я добрался целым и невредимым, взбежал по ступенькам, метнулся в вестибюль и чуть не сшиб с ног мистера Иошиоку.
– Это правда, этот бедный человек умер? – спросил он. – Это не может быть правдой, такой молодой.
Сначала я подумал, что он говорит о моем отце, но потом вспомнил и заверил его, что мистер Лоренцо умер.
– Я безмерно сожалею. Такой милый человек. Премного тебе благодарен.
Я ответил, что всегда рад помочь, хотя и не понял, за что он меня благодарил, а потом осторожно поднялся по лестнице на четвертый этаж. Бежать не решался, опасаясь, что мой отец затаился, поджидая меня, но и не медлил: он мог внезапно появиться у меня за спиной.
14
Войдя в квартиру и закрыв за собой дверь, я запер ее на оба врезных замка. Отсутствовал я совсем недолго. Миссис Лоренцо по-прежнему сидела за кухонным столом с моей мамой, по-прежнему плакала, но уже не рыдала. Похоже, обе они и не заметили мой уход и приход.
Устроившись у одного из окон гостиной, я смотрел на шумную улицу внизу, когда свет вспыхнул в матовых шарах фонарей, и они превратились в маленькие луны, плывущие в ранней темноте. Каждый пешеход привлекал мое внимание, водитель каждого автомобиля, и хотя ни в одном из них я не распознал моего отца, мне нравилось нести эту вахту. Если он вернулся один раз, то мог вернуться вновь, потому что знал, как будет горевать моя мама, если потеряет меня.
Через какое-то время мама подошла ко мне, положила руку мне на плечо.
– У тебя все в порядке, Иона?
Я понимал, что сейчас ей рассказывать о Тилтоне нельзя: миссис Лоренцо нуждалась в ее помощи.
– Да, все хорошо. Хотя это ужасно. Как миссис Лоренцо?
– Не так чтобы очень. Тони был эмигрантом. Родственников у него в Америке нет. Отец Донаты умер, когда она была маленькой, и ее мать, как я понимаю… не в себе. Ей некуда идти, кроме как в свою квартиру, но сейчас она не может об этом и слышать. Разве что завтра. Я предложила ей провести ночь у нас. Она ляжет в твоей комнате, а ты можешь спать со мной.
Я посмотрел на улицу, на диван, указал на него.
– Можно я лягу здесь?
– Кровать гораздо удобнее.
– Знаешь, спать с родителями, с кем-то из родителей, это для испуганных маленьких детей, детские штучки.
– И с каких пор это стало детскими штучками?
Я пожал плечами:
– Не знаю. Несколько недель тому назад, наверное. Когда мне исполнилось девять лет.
Иногда создавалось впечатление, что мама может заглянуть мне в голову и прочитать мои мысли, словно лоб у меня из прозрачного стекла, а разум – аккуратно отпечатанный на машинке текст.
– Ты уверен, что с тобой все в порядке, сладенький?
Она мне никогда не лгала, и я с ней в этом сравниться не мог. Лгать – не лгал, но тут собирался придержать правду несколько часов, до утра, когда миссис Лоренцо соберет волю в кулак и уйдет в свою квартиру.
– Слушай, диван – это… круто. Не детские штучки. – Убедительности не хватало, и я чувствовал, как горят щеки, но таковы преимущества темной кожи: румянец может не заметить даже твоя все так тонко чувствующая мать. – Диван – это приключение. Ты понимаешь? Диван – это здорово.
– Хорошо, мистер Иона Керк. Ты можешь спать на диване, а я буду всю ночь волноваться, думая, как скоро ты захочешь водить автомобиль, встречаться со взрослыми женщинами и пойти на войну.
Я ее обнял.
– Никогда не захочу уйти от тебя.
– Убери свое белье и постели чистые простыни для Донаты. Я схожу вниз, чтобы принести ее пижаму и необходимые мелочи. Ее начинает трясти при мысли о том, что надо идти к себе, даже если вместе со мной.
В квартире на четвертом этаже, с окнами, выходившими на улицу, они не могли слышать, как в проулке Тилтон пинал мусорный бак и громко ругался.
– Не надо бы тебе идти одной. – Она удивленно на меня посмотрела. – Да еще так поздно.
– Поздно? Сейчас двадцать минут десятого, и идти мне всего-то на два этажа ниже. Если я работаю в клубе, сладенький, то прихожу домой гораздо позже, одна и лишь притворяясь, что в сумке у меня пистолет.
– Но мистер Лоренцо умер в той квартире.
Хотя мы и так говорили шепотом, она бросила короткий взгляд в сторону кухни и еще понизила голос:
– Он умер не от заразной болезни или чего-то такого, Иона. И в нашей семье мы верим, что по эту сторону небес есть только один призрак, и это Святой Дух.
Решив не сообщать матери о возвращении отца, пока миссис Лоренцо не ушла домой, я полагал, что поступаю, как мужчина, и усложняю ситуацию, перекладывая свои страхи на маму, когда она помогала миссис Лоренцо пережить свалившуюся на нее беду. Тогда это решение представлялось мне логичным. Но многое, представляющееся логичным в девять лет, годами позже выглядит бессмысленным. В оправдание могу только сказать, что в 1966 году я впервые озаботился стремлением вести себя, как мужчина, несомненно, из страха, что я, если не взять себя в руки, могу последовать примеру своего отца и останусь вечным подростком.
– Теперь перестилай кровать, – велела мама, – а я вернусь через несколько минут.
Она оставила входную дверь приоткрытой. Я подбежал к двери и слушал, как мама спускается по лестнице. Когда понял, что она на площадке между пролетами, я тихонько закрыл и запер дверь, чтобы Тилтон не ворвался в квартиру, если он затаился рядом, метнулся в свою спальню, сдернул с кровати простыни, отнес их в стенной шкаф, где мы держали корзину с грязным бельем, взял чистые простыни, бегом вернулся с ними в спальню, застелил постель. Затем поспешил ко входной двери, поднялся на цыпочки, сумел заглянуть в глазок – с той стороны никого, – открыл дверь и встал на пороге, дожидаясь мамы.
Но она никак не приходила. Я не верил, что в квартире Лоренцо обитает призрак. И тело они увезли, так что там не могло быть и зомби, как в вуду-фильме, который я выключил. Но миссис Лоренцо, ничего не соображающая и потрясенная, могла оставить входную дверь открытой, мой отец мог зайти в квартиру, уж не знаю, по какой причине, а потом туда пришла моя мать. Остальное представить себе не составляло труда: такое показывали в любом фильме ужасов.
Может, мужчина схватил бы мясницкий нож и спустился на второй этаж, чтобы узнать, как там мама, но я понятия не имел, что скажу миссис Лоренцо, которая опять плакала на кухне, когда буду выдвигать ящик и доставать оттуда мясницкий нож. Она бы наверняка подумала, что я сошел с ума и собираюсь ее убить, и этот шок стал бы последней каплей, ее хватил бы удар, а меня увезли в тюрьму, или в дурдом, или куда-то еще, короче, в то место, куда увозят рехнувшихся и опасных мальчишек.
Я услышал приближающиеся шаги. Вроде бы по лестнице поднимался один человек, а не двое, причем второй – приставив пистолет к голове первого или нож – к его шее. Я отступил в квартиру, прикрыл дверь, оставив щелку, как это сделала, уходя, моя мама, и отошел в сторонку.
Мама вошла в квартиру с небольшой дорожной сумкой, в которую упаковала вещи миссис Лоренцо. Закрыла за собой дверь, заперла на оба замка.
– Сладенький, тебе пора надевать пижаму и чистить зубы, – сказала она мне. – Уже поздно.
– Хорошо, мама.
– И тебе нужно одеяло.
– Сегодня тепло.
– Чтобы не протирать обивку.
Через несколько минут я уже лежал на одеяле, в пижаме, положив голову на подушку с маминой кровати. Окна в гостиной оставались открытыми, потому что кондиционера у нас не было, и с улицы доносился шум проезжающих автомобилей. Я слышал, как на кухне разговаривают мама и миссис Лоренцо, но слова разбирал далеко не все и не понимал, о чем они толкуют. Разговаривали они долго, дольше, чем я ожидал, и я тревожился из-за того, что не могу следить за улицей. Потом я узнал, что мама дала миссис Лоренцо несколько таблеток бенедрила и настояла на том, чтобы они выпили по большому стакану красного вина, и я подумал, что лишь так она могла хоть немного успокоить итальянку, только что ставшую вдовой. Когда они наконец-то покинули кухню, я притворился, будто сплю, и притворялся все время, пока они пользовались ванной и переодевались ко сну. Когда мама подошла к дивану, прошептала: «Спокойной ночи», – и поцеловала в щеку, я лежал на спине с приоткрытым ртом, дышал через него и тихонько похрапывал. Прежде чем повернуться и отойти, она прошептала: «Мой ангел», – отчего я почувствовал себя низким обманщиком, прямым потомком Тилтона, хотя и знал, что мотивы мои чистые, а сердце искреннее.
Лежа в темноте, глядя, как в отблеске сияния города знакомые вещи в гостиной обретают чудовищные формы, я ждал, пока мама и вдова не заснут. Потом поднялся с дивана и на цыпочках добрался до ближайшего окна. Транспортный поток заметно уменьшился, убавилось и пешеходов. Я не увидел своего отца, но, чем дольше стоял на коленях у окна, положив руки на подоконник, тем более подозрительными казались мне люди, которые проходили и проезжали мимо нашего дома. Даже больше, чем подозрительными. За окном разворачивался еще один старый фильм, вроде того, который я выключил, не досмотрев до конца. Только вместо зомби плохишами были пришельцы из другого мира, подменившие настоящих людей и занявшие их место. И не было никакой возможности отличить их от землян, за исключением того, что они не могли проявить каких-либо эмоций по причине полного их отсутствия.
15
В конце концов я вернулся к дивану, слишком вымотанный, чтобы отстоять всю ночную вахту. Провалился в глубокий колодец сна и плавал там какое-то время, прежде чем в этом чернильно-черном месте на меня со всех сторон не навалился звук бегущей воды: словно я находился на маленькой лодке и плыл по реке под сильным дождем.
Я лежал на левом боку в позе зародыша на чем-то жестком и что-то сжимал в правом кулаке, так крепко, что болели пальцы. Страх охватывал меня, но я не мог сказать, чего именно боюсь, просто слепой ужас перед чернильной тьмой кошмара, и сердце билось сильно и громко: каждый удар отдавался в ушах. В руке я сжимал ручку-фонарик.
Позднее до меня дошло, что ни в одном из прежних снов я не ощущал ни вкуса, ни запаха, но в этом во рту чувствовалась кровь. Нижняя губа распухла, пульсировала. Когда я ее облизнул, она отозвалась болью в тех местах, где ее разбили в кровь.
Не знаю, почему я сжимал в кулаке ручку-фонарик, поскольку в реальной жизни у меня такого никогда не было. Все еще лежа на боку, я его включил и вскрикнул от изумления, потому что луч высветил лицо девушки лет двадцати с небольшим, которое находилось менее чем в футе от моего лица. Ее темные, мокрые от дождя волосы прилипли к лицу, глаза вылезали из орбит. Девушку задушили мужским галстуком, все еще врезавшимся в ее шею.
Вырвавшись из темноты сна в не столь уж чернильную темноту гостиной, я вскочил с дивана. Горло перехватило, и не сразу я сумел со всхлипом вдохнуть. По телу пробежала дрожь, я поднес руку ко рту, ожидая найти нижнюю губу разбитой и распухшей, но ошибся. Ноги не держали, поэтому я вновь плюхнулся на диван, радуясь, что не закричал, как в кошмаре, и не разбудил маму и вдову Лоренцо.
Мысленным взором я все еще видел мертвую девушку, так же ясно, как не так давно – в другом сне – Лукаса Дрэкмена. Не была она воображаемым фантомом, скорее напоминала детально прорисованный портрет Нормана Рокуэлла. Блестевшие густые мокрые волосы. Синие с оттенком лилового глаза. Широкие в смерти зрачки. Тонкие черты лица, аккуратный носик, сделавший бы честь фарфоровой фигурке, красивый рот, гладкая кремовая кожа с маленькой родинкой на левой скуле.
Пробудившись ото сна о Лукасе Дрэкмене, я знал, что он убил родителей в прошлом, то есть я видел не пророческий сон, а уже свершившееся деяние. В этот раз я подозревал, что во сне мне довелось увидеть будущее, и может прийти день, когда я окажусь в кромешной тьме рядом с трупом, в окружении бурлящей воды.
Сидя на диване, я уловил слабый запах роз и поднялся. Повернувшись, разглядел женский силуэт у одного из окон, подсвеченный сзади уличными фонарями. Ростом женщина значительно превосходила и мою маму, и миссис Лоренцо. «Фиона Кэссиди», – прошептала она, и я понял, что мне назвали имя мертвой девушки из моего сна.
Женщина отошла от окна, растворившись в тенях. Включив торшер, я обнаружил, что в гостиной, кроме меня, никого нет. Если она действительно была здесь, то не смогла бы уйти так быстро. И однако я видел ее силуэт, слышал голос. Я не сомневался, что она побывала в нашей гостиной, только не мог понять, каким образом и в каком виде. Я точно знал, что она не призрак, но при этом она не была и обычной женщиной, за которую я ее принял в тот день, когда она впервые появилась передо мной, вся в розовом, и пообещала пианино.
16
Мне следовало рассказать маме о преследовавшем меня Тилтоне, но следующие два дня она занималась миссис Лоренцо, помогая вдове организовать похороны, связаться со страховой компанией по части небольшой выплаты за Тони, которая могла обеспечить вдове лишь несколько лет спокойной жизни, и собрала вещи Тони, чтобы отдать их Армии спасения, потому что сама миссис Лоренцо этого делать не могла. В конце каждого дня я смотрел на уставшую и печальную маму и не хотел грузить ее еще и своими проблемами.
К тому времени, когда жизнь вернулась в нормальное русло, я вновь заколебался: а надо ли мне говорить ей о том, что сделал Тилтон? Скрывая это происшествие, я в каком-то смысле обманывал ее, чего никогда не делал раньше, во всяком случае, в чем-то серьезном. И хотя молчал я по уважительной причине, меня тревожило, а не задастся ли она вопросом: что еще я от нее скрывал, и это могло кардинальным образом изменить наши отношения.
Разумеется, я хранил и другой секрет: мисс Перл, мою проводницу в снах ужасов, как в прошлом, так и будущем. Эта женщина велела мне никому ничего не говорить о Лукасе Дрэкмене, и я интуитивно понимал, что ее наказ в полной мере касается и Фионы Кэссиди. Выполнение инструкций мисс Перл означало, что нельзя мне быть полностью откровенным с мамой, и пусть я ее не обманывал, своим поведением я попирал нормы, которым меня учили в церкви. Мисс Перл дала мне пианино, это так, но мама дала мне жизнь.
Я обожал маму и надеялся, что она будет всегда мне доверять. А потому, сначала отложив рассказ о том, как меня преследовал отец, потом я допустил еще одну ошибку, решив молчать об этом и дальше. Большинство девятилетних мальчишек хотят казаться старше своего возраста. Учитывая, что в доме я оставался единственным мужчиной, я убедил себя в следующем – я сам смогу разобраться с ним, если он предпримет еще одну попытку, а при таком раскладе, учитывая сложный период времени, мне лучше поберечь маму от лишних тревог.
Страна, похоже, скользила от одного кризиса к другому. Возрастающие потери во Вьетнаме вызывали многочисленные демонстрации протеста. Семидесятидвухлетняя Алиса Херц[24] сожгла себя, требуя остановить войну. В прошлом году, во время марша, организованного и возглавляемого Мартином Лютером Кингом из Сельмы в Монтгомери, штат Алабама, участников били и топтали лошадьми национальные гвардейцы, а потрясенная страна наблюдала за этим по телевизору. Малколма Икс убили не белые расисты, а негры, возможно, черные мусульмане, и, куда ни посмотри, везде нарастали недовольство и злость, зависть и презрение. Уважение к власти падало, преступность разрасталась, наркотиками торговали, как никогда раньше. Не в нашем районе, но в других частях города вспыхивали расовые бунты, такие же, как в Уоттсе, негритянском районе Лос-Анджелеса. Тридцать четыре человека погибли, целые кварталы выгорели дотла. И этим летом волна насилия не уступала предыдущему. Пару раз я подслушал разговоры мамы и дедушки о будущем. Не о ее перспективах как певицы, а о войне, моей безопасности и о том, что нас всех ожидает. По сравнению с этим, мой отец не тянул на угрозу.
Лето продолжалось, жаркое, душное, полное событий. Военные операции в дельте Меконга приводили ко все новым потерям, о которых сообщалось в вечерних выпусках новостей. В июле в Чикаго Ричард Спек заколол и задушил в общежитии восемь студенток, которые собирались стать медсестрами. Первого августа бывший студент Чарльз Уитмен поднялся на крышу двадцатисемиэтажного здания Техасского университета и из винтовки застрелил шестнадцать человек и ранил тридцать. Это беспрецедентное убийство встревожило страну, потому что воспринималось не как чудовищное исключение, а как зарождение новой тенденции.
Как-то днем мама вернулась после смены в «Вулвортсе» и обнаружила, что я, словно зачарованный, смотрю новостной выпуск о войне и расовых бунтах. Мне только-только исполнилось девять лет, но думаю, еще до того, как я начал узнавать о бурлящем мире, ко мне пришло осознание нестабильности нашей жизни. Причиной стало не только поведение отца, но и тот факт, что у моей мамы, несмотря на бесспорный талант и трудолюбие, с карьерой певицы ничего не получалось. Пожары в Лос-Анджелесе, взрывы во Вьетнаме, стрельба в обоих местах, трупы на улицах, в Штатах и других странах, преступление Лукаса Дрэкмена, грядущая насильственная смерть Фионы Кэссиди, мистер Лоренцо, вставший из-за кухонного стола и рухнувший замертво, два хулигана с грязными ртами, преследовавшие маму и меня в парке, Спек, Уитмен. Все это слилось воедино, превратилось в торнадо, и, сидя перед телевизором, я внезапно понял: все, что я знаю и люблю, может разнести в клочья, оставив меня одиноким и уязвимым перед тысячью угроз.
– Все убивают всех, – изрек я, завороженный происходящим на экране.
Мама несколько мгновений постояла в дверях гостиной, а потом выключила телевизор. Села рядом со мной на диван.
– Ты в порядке?
– Да, конечно.
– Ты уверен?
– Просто… ты понимаешь. Все это.
– Плохие новости.
– Очень плохие.
– Тогда не смотри.
– Да, но это все равно происходит.
– И что ты можешь с этим поделать?
– В каком смысле?
– С войной, с бунтами, со всем остальным.
– Я ведь ребенок.
– Я – не ребенок, – ответила она, – но тоже ничего с этим поделать не могу, остается только сидеть здесь и смотреть.
– Но ты выключила телик.
– Потому что есть и другое, на что я как-то могу повлиять.
– На что?
– Миссис Лоренцо совсем одна, и я пригласила ее на обед.
Я пожал плечами:
– Это хорошо.
Мама включила телевизор, но убрала звук. Люди грабили магазин электроники. Выносили телевизоры и стереосистемы.
– Ты должен кое-что понимать, Иона. На каждого человека, который ворует, поджигает, переворачивает полицейские автомобили, в том же районе есть три или четыре других, которые не хотят в этом участвовать, которые боятся нарушителей закона точно так же, как его слуг.
– Что-то не похоже.
– Потому что телевидение показывает только тех, кто это делает, Иона. Сиюминутные новости – это не все новости. Есть еще и перспектива. А это лишь то, что репортеры хотят тебе показать. Бунты приходят и уходят, войны приходят и уходят, но при любых неурядицах люди помогают друг другу, идут на жертвы, проявляют доброту, и именно это удерживает цивилизацию единым целым, те самые люди, которые живут спокойно и не попадают в новости.
На безмолвном экране мародеров сменил ведущий.
– Я ничего об этом не знаю, – признал я.
Ведущий уступил место залитому дождем, разрываемому ветром городу, над которым возник гигантский смерч. В мгновение ока он разворотил дом и всосал обломки в себя.
– Если погода попадает в новости, – продолжила мама, – это ураган, торнадо, приливная волна. Но девяносто девять процентов времени природа ничего не разрушает, она кормит нас, но это не повышает рейтинги и не увеличивает тиражи. – Она вновь выключила телевизор. – Чего ты хочешь, Иона, попасть в новости или быть хорошим?
– Думаю, быть хорошим.
Она улыбнулась, притянула к себе, поцеловала в макушку.
– Тогда помоги мне приготовить обед для миссис Лоренцо. Можешь начать накрывать на стол.
Несколько минут спустя, ставя тарелки на стол, я не удержался и спросил:
– Как ты думаешь, рано или поздно мой отец попадет в новости?
Она поняла вопрос: я признавал, что не отношу отца к хорошим.
– Где уважение, Иона?
Я решил, что она знала ответ, так же, как знал и я.
17
На следующее утро, после того, как мама ушла на работу в «Вулвортс», я взял на кухне мешок с мусором и спустился по черной лестнице в проулок. Небо повисло низко, серое и гладкое, словно бетон, как будто весь город накрыли крышей фантастических размеров. Из двери я шагнул в застывший воздух, но, едва бросил мешок с мусором в контейнер и отвернулся от него, легкий порыв ветра пронесся по проулку. Не шевельнул даже лежащий на земле мусор, за исключением сферы размером с мяч для гольфа. Она покатилась и замерла передо мной в тот самый момент, когда порыв ветра иссяк. Я увидел, что это глазное яблоко. Не настоящее, конечно, а из тех, какие вшивают в набивные игрушки.
Глазное яблоко, казалось, смотрело на меня с мостовой. Я не помню, как наклонялся, чтобы поднять его, но в следующее мгновение уже держал в руке. С ворсистой поверхностью, набитое чем-то упругим, коричневое, за исключением белого кольца и синего круга по центру. За глазным яблоком волочились бежевые нити, которыми оно, вероятно, крепилось к плюшевой игрушке.
Возможно, причиной послужили недавние события и странные, тревожащие сны, но я воспринял глазное яблоко не как совершенно обычный мусор, а посчитал неким зловещим посланием. Глазное яблоко смотрело на меня с ладони моей правой руки, а я не замечал, как затихают звуки города, пока до меня вдруг не дошло, что в проулке стоит мертвая тишина. На мгновение подумал, что оглох, но потом услышал собственный вопрос: «Что происходит?» Тишина была настоящей, не связанной с моим слухом, как будто из метрополиса исчезли все люди, как будто его часовой механизм, исправно служивший многие сотни лет, вдруг встал: пружина лопнула.
Я посмотрел на один конец проулка, потом на другой, гадая, куда подевался транспорт. Теплым августовским утром во многих квартирах окна держали открытыми, но из них не доносилось ни голосов, ни музыки, ни каких-либо домашних звуков. Как, впрочем, и с неба: ни тебе рева реактивных самолетов, ни стрекота полицейских геликоптеров.
Когда же я вновь посмотрел на фальшивый глаз, лежащий на моей ладони, то не сумел отделаться от нелепой мысли, что он видит меня. Человеческие руки изготовили его из инертных материалов: материи, нитей, кусочка цветного пластика, и все-таки я чувствовал, что он наблюдает за мной – не просто наблюдает, но накапливает информацию, анализирует, делает выводы, – словно каждый элемент этого глаза передавал все, что впитывал в себя, какому-то далекому и любопытному существу, и, не считая меня, только оно и жило в этом молчаливом городе, где больше не раскачивались маятники и не вращались шестерни.
Вспоминая этот эпизод теперь, в возрасте пятидесяти семи лет, я все еще переполнен детским изумлением, когда входил в каждый день, ожидая столкнуться с тайнами и чудесами. В девять лет я не был таким безудержным романтиком и восторженным верующим, каким стал сейчас, но тот ребенок обладал способностью удивляться и трепетать, благодаря чему, возможно, время и опыт превратили его в меня.
Клянусь, сомкнув пальцы вокруг этого фабричного глаза, я почувствовал, как он перекатывается из стороны в сторону, словно ищет щель между пальцами, чтобы видеть меня. Спинальную жидкость словно заменили хладагентом, и теперь холод медленно поднимался по моим позвонкам, от поясницы к основанию черепа.
Направившись к ближайшему мусорному контейнеру, помня, что дедушка говорил о джуджу, я намеревался бросить глаз туда, но, прежде чем разжал пальцы, понял, что целесообразнее оставить эту странную вещицу у себя, чтобы всегда знать, где она находится, но при этом держать в чем-то закрытом, чтобы она не могла подсматривать за мной. Если память мне не изменяет, я это придумал не сам: идею подсказал смутно знакомый женский голос, едва слышный в неестественной тишине застывшего города.
Среди мусора на земле лежала пинтовая бутылка, горлышко которой торчало из плотного бумажного пакета. Бутылку я оставил на земле, сунул глаз в пакет и скрутил горловину.
Звук быстро вернулся в этот мир, сначала тихий, но за несколько секунд усилившийся до обычного шумового уровня мегаполиса, населенного трудолюбивыми – при этом не знающими покоя и шумными – горожанами. С минуту я постоял, прислушиваясь, изумляясь, но холода в спине уже не чувствовал. Просто не понимал, как такое могло произойти, и на всякий случай настороженно огляделся.
Воспользовавшись ключом, я вошел в дом через дверь черного хода, но подниматься по лестнице не стал. Подумал вдруг, что Тилтон ждет меня на лестничной площадке между четвертым и пятом этажами, на которой в июне мама оставила его чемоданы. Представил себе, что он уже смочил тряпку хлороформом, чтобы вырубить меня, а потом навсегда увезти в багажнике автомобиля.
Коридором первого этажа я прошел к парадной лестнице, напугав себя до полусмерти, пулей проскочил два пролета и уже на втором этаже заметил, что какая-то женщина поднимается по лестнице на третий этаж. Одетая в черное, черноволосая. Рука с белоснежной кожей, которой женщина держалась за перила, казалась хрупкой, как хрусталь.
Она услышала мои торопливые шаги, остановилась, оглянулась. Синие с оттенком лилового глаза. Тонкие черты лица, аккуратный носик, сделавший бы честь фарфоровой фигурке, красивый рот, гладкая кремовая кожа с маленькой родинкой на левой скуле. Передо мной стояла мертвая девушка из моего сна, еще живая, не удушенная мужским галстуком. Фиона Кэссиди.
Потрясенный, я просто таращился на нее, зажав в руке скрученную горловину пакета, словно собирался предложить ей его содержимое, и, несомненно, выглядел слабоумным. Она не улыбнулась, не нахмурилась, не произнесла ни слова. Отвернулась и двинулась дальше.
Я же свернул в коридор второго этажа, надеясь, что она не почувствовала моего особого к ней интереса. Дверь не закрыл, стоял, прислушиваясь к ее шагам. И как только понял, что она миновала третий этаж и продолжает подъем, вернулся на лестницу и, крадучись, двинулся следом.
18
Фиона Кэссиди миновала четвертый этаж, на котором жили мы с мамой, потом пятый, где мисс Делвейн писала журнальные статьи и подбирала материал для романа о родео, а также в полном одиночестве проживал тихий – и, возможно, с трагический судьбой, – мистер Иошиока, занимавший квартиру 5-В. Путь ее лежал на шестой, и последний, этаж.
Каждый этаж нашего дома предлагал три квартиры. Две – такие же, как та, что занимали мы с мамой. Третья – примерно в два раза больше и предназначалась для семьи с двумя или более детьми, хотя я бы не назвал ее просторной. Техник-смотритель, мистер Реджинальд Смоллер, занимал квартиру на первом этаже, поэтому арендаторам предлагались остававшиеся семнадцать.
Поскольку лифт и красивый вид из окон отсутствовали, аренда квартиры на четвертом этаже стоила меньше, чем на первых трех, на пятом – меньше, чем на четвертом, на шестом – меньше, чем на пятом. В те дни субсидии по арендной плате для бедняков напоминали тонкий ручеек по сравнению с нынешним полноводным потоком. Моя мама не получала субсидию, да и не хотела. Если бы государство покрывало всю или почти всю стоимость аренды, квартиры шестого этажа быстро нашли бы жильцов, но пока они платили из своего кармана, и далеко не всем хотелось оплачивать подъем по десяти пролетам и ванну с едва теплой водой, поскольку она сильно остывала, поднимаясь из бойлерной в подвале. Соответственно, обычно одна квартира на шестом этаже пустовала всегда, а бывало, что все три оставались свободными.
Некоторые из наших соседей держались особняком, но, даже если они что-то бурчали, когда я с ними здоровался, и избегали встречаться взглядом, я знал их лица и имена. Не страдал отсутствием любознательности и воображения. В тот август в доме снимали только четырнадцать квартир и все на шестом этаже пустовали.
На каждом этаже в двери на лестницу было квадратное стеклянное окошко, и, подходя к двери, ты видел, есть ли кто в коридоре. Встав на цыпочки, я смог заглянуть в окошко и успел заметить, как Фиона Кэссиди входит в квартиру 6-В.
Возможно, она намеревалась арендовать квартиру и мистер Смоллер выдал ей ключ, чтобы она могла ознакомиться с местом будущего проживания, но эта версия не выдерживала никакой критики. При осмотре квартиры техник-смотритель всегда сопровождал жильца, а ключ выдавал, лишь получив плату за первый месяц и залоговый депозит.
Мистер Смоллер был мастером на все руки, чинил все, что только могло сломаться, но при этом отличался невероятной подозрительностью, во всем искал заговоры и чьи-то происки. Однажды он сказал мне, что никому не доверяет, «даже Богу, особенно Богу, потому что Он не дал бы нам жизнь и не создал бы мир, если бы не хотел получить взамен что-то большое и ужасное».
С глазом джуджу в пакете я осторожно прошел к коридор, направился к квартире 6-В. Увидел, что дверь приоткрыта.
Я знал, что мне следует соблюдать осторожность, что самое мудрое решение – немедленно уйти, вернуться в свою квартиру и запереть дверь на оба замка. Я видел Фиону Кэссиди мертвой, пусть и во сне, но женщина, которую я встретил сегодня, ничем не напоминала призрака. Я чувствовал, что должен ее предупредить, хотя и сомневался, что она поверит чернокожему мальчишке, который при нашей первой встрече вытаращился на нее, как слабоумный.
Через щель я видел обшарпанную прихожую с пожелтевшими и отклеившимися обоими. За ней находилась лишенная мебели комната, застеленная потрескавшимся линолеумом, со ржавыми потеками на серых стенах.
Город не смолк: старый дом издавал разные звуки, а через окна проникал уличный шум. Но я не слышал ни единого звука, источник которого находился бы в квартире: ни шагов, ни закрывающейся или открывающейся двери, ни голоса.
И хотя меня не отличала бесшабашность, я переступил порог, в ужасе от собственной смелости, но ведомый непреодолимым любопытством. Низкое небо заметно потемнело за те несколько минут, которые прошли после того, как я вернулся из проулка в дом. Войдя в гостиную, по свету за окнами я понял, что надвигается гроза. Справа дверь вела на кухню. Слева кутался в тенях коридор без единого окна.
Поскольку окна в квартире давно не открывались, воздух нагрелся и пропитался затхлостью, смешанной с запахами давнишней готовки, кошачьей мочи, сигаретного дыма. Последний тоненькой желтой пленкой сконденсировался на многих открытых поверхностях.
Линолеум выглядел таким хрупким, что мог треснуть даже под моим весом. На самом деле он мягко подавался под ногами, словно покрытый плесенью, и я бесшумно подошел к двери на кухню и решился за нее заглянуть. Никого.
Коридор, уходящий из гостиной, вел к ванной и четырем маленьким спальням, тоже без мебели. Лишь в одной я нашел спальник, рядом с которым стояла большая брезентовая дорожная сумка.
Во всех стенных шкафах распахнули двери, возможно, для того, чтобы избежать плесени, которая прекрасно бы себя чувствовала в тепле и темноте. Я не верил, что пропустил какой-нибудь тайный уголок, где укрылась Фиона Кэссиди.
В окне одной спальни я обнаружил поднятую нижнюю раму. Слабый ветерок колыхал грязные, изношенные занавески.
Конечно, эта молодая женщина провела здесь ночь не для того, чтобы утром выпрыгнуть из окна. Тем не менее не без ужаса я подошел к окну и посмотрел вниз. Никакого трупа на земле не обнаружил.
Если бы выяснилось, что мой сон все-таки пророческий, судьба уготовила Фионе Кэссиди насильственную смерть, так что не могла она покинуть этот мир, покончив с собой.
Отвернувшись от окна, я ожидал увидеть ее у себя за спиной, но никто ко мне не подкрадывался. С гулко бьющимся сердцем, пересохшим ртом, удивляясь столь нехарактерной для меня прыти, я вернулся к полуоткрытой двери и вышел в коридор шестого этажа, ни с кем не столкнувшись, хотя подозревал – не пройди мое вторжение в чужую квартиру незамеченным, мне пришлось бы заплатить немалую цену за то, что, преследуя девушку, я переступил порог чужой квартиры.
Я направился к двери на лестницу, но, прежде чем успел ее закрыть, услышал, как захлопнулась дверь в квартиру 6-В. Оглянулся. Никого. Или дверь закрылась от сквозняка, или… что? Фиона Кэссиди вылетела из открытого окна – не упала, – чтобы избежать встречи со мной, и залетела обратно, едва я ушел? Даже мое богатое воображение не принимало такой версии. Но и сквозняка не было.
19
Вернувшись в нашу квартиру, я достал ворсистый глаз из бумажного пакета и положил на недавно застеленную кровать, направив зрачок на подушку. Перешел с одной стороны кровати на другую, вернулся обратно, следя за глазом, но он и не собирался поворачиваться следом за мной.
– Идиот, – охарактеризовал я себя за проявленный столь очевидный детский страх.
На кухне я достал из холодильника кувшин с «кул-эйдом», наполнил стакан, сел за стол.
Я подумал о том, чтобы пойти в общественный центр и провести четыре часа за пианино. Занятия в школе начинались через две недели, и тогда я мог бы играть не больше двух часов в день, да и то ближе к вечеру. Обычно мне не терпелось добраться до пианино и увидеть миссис О’Тул, но в этот день что-то невероятное случилось прямо у меня под носом, что-то чудесное, совсем как на Рождество, когда я еще верил в Санту. Да только теперь никакой радости, надежды и веселья не ощущалось. Куда больше случившееся напоминало старый фильм про вуду в городе.
И происходило все наяву, этот «фильм» выключить я не мог. Стакан, стоящий на кухонном столе, покрывали капельки конденсата. В верхней части, прозрачные, они сверкали, как бриллианты, в нижней, где еще оставался напиток из лайма, зеленели изумрудами. Разумеется, стакан облепляли не бриллианты и изумруды, а капельки воды, но я не мог оторвать от них глаз и думал о драгоценных камнях, о том, что забыли бы мы про все проблемы, будь я богатым. Маме не пришлось бы работать в кафетерии «Вулвортса». Мы приобрели бы ночной клуб, и мама пела бы там что хотела. Мы купили бы звукозаписывающую компанию, и мама стала бы знаменитой и счастливой, как того заслуживала. Нам не пришлось бы тревожиться, что Тилтон украдет меня у нее: мы обзавелись бы телохранителями. Жили бы в большом доме на холме по центру огромного участка, окруженного высоким забором, в полной безопасности от всех и от всего, включая бунты, и войну, и молодых панков, которые позволяли себе непристойные слова в присутствии незнакомых женщин.
После всех прожитых лет я прекрасно помню этот стакан с «кул-эйдом», не отпускавшую меня тревогу, с которой, конечно, не мог совладать девятилетний мальчик, и ложные мечты о богатстве, которые, даже реализовавшись, ничего бы не решили.
Когда растешь и учишься на собственном опыте, ты можешь прийти к очень важному выводу: есть правда с маленькой буквы и Правда – с большой. Ты должен говорить правду, требовать правду от других, узнавать ложь и отметать ее; должен видеть мир, какой он есть, а не каким он должен быть, согласно твоим желаниям, не каким его рисуют те, кто хочет этим миром повелевать. Верность правде освобождает тебя от ложных ожиданий, беспочвенных надежд, разочарований, бессмысленной злости, зависти, отчаяния. А Правда состоит в том, что жизнь имеет значение, и благодаря этому ты можешь осознать свою истинную ценность, свой потенциал и поощрять скромность, которая приносит мир. Что еще более важно, Правда предоставляет тебе возможность любить других, какие они есть, не задумываясь над тем, что они могут для тебя сделать, и именно такие взаимоотношения способны подарить редкие моменты чистой радости, которые так ярко сияют в памяти.
Прожив только два месяца после моего девятого дня рождения, я отстоял на многие годы от понимания всего этого. В нашей арендованной кухне грезил о бриллиантах и изумрудах, в мыслях отгонял все проблемы и угрозы. Допив «кул-эйд», я вымыл стакан, вытер его, убрал. Потом вытер влажное пятно на столе, пошел в гостиную, посмотрел на телик. Включать не стал, сделав шажок к далекой зрелости.
В спальне фабричный глаз лежал на кровати, по-прежнему глядя на подушку. Я удивлялся себе: как я только мог подумать, что джуджу может оживить этот глаз. Ничего сверхъестественного в нем не было. Обычный мусор.
Я не вернул глаз в бумажный пакет, который лежал на полу, где я сам его и оставил. Но и не выбросил глаз. После короткого колебания взял в руку, обошел кровать, выдвинул ящик ночного столика, из которого достал металлическую коробку с откидывающейся крышкой.
В этой жестянке когда-то лежали сладости, ее подарили мне на прошлое Рождество мистер и миссис Лоренцо. На крышке изобразили итальянку в старинной одежде. Под ней красивыми красно-золотистыми буквами написали два слова на итальянском: «Флоренция» и «Торрони». В коробке тогда лежало полтора фунта миндальной нуги, произведенной в Италии, трех сортов: с лимонным, апельсиновым и ванильным вкусом. Нуга мне очень понравилась, но при сравнении сладостей и раскрашенной металлической коробки вторая представлялась мне более ценным сокровищем.
В коробке я держал вещи, которыми дорожил или которые заинтересовали меня по причинам, понятным только мальчику моего возраста. Их набралось с дюжину, в том числе: золотисто-синий шарик из «кошачьего глаза», цент, расплющенный колесами поезда до диаметра полудоллара, копия чека из ресторана, где мы с мамой съели ланч на следующий день после того, как мама выгнала Тилтона, серебряный доллар, который дала мне бабушка Анита, когда я прочитал наизусть «Отче наш», и велела потратить только в день конфирмации.
Медальон с перышком в коробке не лежал: я по-прежнему носил его в брючном кармане.
Я замялся перед тем, как добавить ворсистый глаз в мою сокровищницу. Вдруг в нем таилась черная магия и она каким-то непонятным образом заразит все остальное?
– Идиот, – дал я себе не самую лестную характеристику, бросил глаз в жестянку и закрыл крышку.
Поставил коробку на ночной столик, поднялся с кровати, повернулся и увидел стоящую в дверях Фиону Кэссиди.
20
Я точно помнил, что запер дверь на врезной замок. Одно или два окна оставались открытыми, но молодая женщина не могла попасть в квартиру через них ни с шестого этажа, ни с улицы.
Она не произнесла ни слова. Смотрела на меня ничего не выражающими глазами, красивое, но неподвижное лицо больше соответствовало роботу, электронный мозг которого сейчас определялся с последующими действиями. Сине-лиловые глаза казались стеклянными.
Мне бы хотелось сказать, что я тревожился, но не боялся, хотя, по правде, она испугала меня, потому что материализовалась, как призрак, а теперь просто стояла и смотрела.
Интуитивно я чувствовал, что и мне не следует заговаривать первым, отвечать взглядом на взгляд, молчанием – на молчание, и этим заставить ее нервничать. Но сдержаться не смог.
– Что вы тут делаете?
С порога она шагнула в мою спальню.
– Как вы сюда попали?
Игнорируя мои вопросы, она оглядела маленькую комнату, уделив особое внимание постеру с Дюком Эллингтоном во фраке – его запечатлели в клубе «Коттон» в конце 1920-х годов, на фоне знаменитых фресок, – фотографии в рамке дедушки Тедди и Бенни Гудмена и постеру моего любимого телевизионного комика Реда Скелтона, в наряде Фредди Шаромыжника, потому что я не смог найти его постер в образе Клема Кадиддлхоппера, самого смешного, по моему разумению, персонажа Скелтона.
Фиона закрыла за собой дверь, чем еще больше перепугала меня, и я вновь раскрыл рот.
– Вам бы лучше уйти отсюда.
Тут она вновь удостоила меня взглядом – лицо оставалось бесстрастным – и наконец-то заговорила:
– А то что?
– Что «что»?
В мягком голосе эмоции отсутствовали напрочь.
– Мне бы лучше уйти отсюда… а то что?
– У вас нет права здесь находиться.
– А то что? – настаивала она.
– У вас будут серьезные неприятности.
Бесстрастность ее голоса пугала меня больше, чем любая угроза.
– И что ты собираешься делать? Закричишь, как маленькая девочка?
– У меня нет необходимости кричать.
– Потому что ты такой крутой?
– Нет. Потому что через минуту придет мама.
– Я так не думаю.
– Тем не менее придет. Вы увидите.
– Врун.
– Вы увидите.
Тут я подумал, что бесстрастная внешность – всего лишь ширма, под которой скрывается вулкан.
– Ты знаешь, что случается с мальчиками, которые суют нос в чужие дела?
– Я никуда нос не сую.
– С ними случается всякое плохое.
В пепельном дне за окном полыхнула яркая вспышка, потом другая, соседний дом, находившийся в каких-то шести футах, вдруг приблизился, словно подпрыгнул к нашему, и тут же по небу прокатился громовой раскат.
Женщина уже обходила кровать, и я собрался упасть на пол, проползти под кроватью на другую ее сторону и рвануть к двери, но чувствовал, что она успеет меня перехватить.
– Вам меня не испугать, – заявил я.
– Тогда ты глупый. Глупый и лживый маленький проныра.
Отступая в угол, чувствуя свою уязвимость, я прибегнул к последнему средству:
– Я буду кусаться.
– Тогда укусят и тебя.
Ее рост составлял пять футов и, наверное, дюймов семь. Я дышал ей в пупок. Если хотите знать, чувствовал себя пигмеем.
Она обходила изножье, когда вновь полыхнула молния.
– Дело в том, что я видел вас во сне, – признался я.
За молнией последовал оглушительный гром, и я подумал, что это Фиона Кэссиди навлекла на город грозу, начавшуюся практически сразу после ее появления в нашей квартире.
– Сколько тебе лет, проныра?
– А вам-то что?
– Ты лучше отвечай.
Я пожал плечами:
– Будет десять.
– Значит, только что исполнилось девять.
– Не только что.
Она остановилась, посмотрела на меня сверху вниз, приблизившись на расстояние вытянутой руки.
– Тебе снятся девочки, так?
– Только вы. Однажды.
– Слишком ты мал для «мокрого сна»[25].
– Откуда вы знаете, что мне снилась вода? – в удивлении спросил я. – По крайней мере, со всех сторон доносился шум бурлящей воды.
Вместо того чтобы ответить на мой вопрос, она сама спросила:
– Почему ты пошел за мной на шестой этаж, врун?
– Как я и говорил, я узнал в вас девушку из моего сна. И это чистая правда.
Наконец-то в ее голосе появился некий намек на эмоции.
– Ты мне не нравишься, проныра. Мне хочется разбить твою обезьянью физиономию. Больше не пытайся шпионить за мной.
– Не буду. С какой стати? Вы не такая уж интересная.
– Я могу очень быстро стать интересной, проныра, более интересной, чем ты можешь себе представить. Держись подальше от шестого этажа.
– Мне нет нужды подниматься туда.
– И желания тоже быть не должно, если только ты не глупее, чем я думаю. И поговорить обо мне желания у тебя тоже нет. Ни с кем. Ты никогда меня не видел. Мы с тобой никогда не разговаривали. Идея понятна, проныра?
– Да. Хорошо. Ладно. Как скажете. Нет проблем.
Она еще долго смотрела на меня, а потом перевела взгляд на флорентийскую жестянку, стоявшую на ночном столике.
– Что ты туда сейчас положил?
– Ничего. Ерунду.
– Какую ерунду?
– Одну мою вещицу.
– Эту вещицу ты взял из моей дорожной сумки или из моего спальника?
– Я не прикасался к вашим вещам. Только заглянул в комнату.
– Это ты так говоришь, врун. Открывай.
Я взял металлическую коробку и прижал к груди.
Она хотела еще одного поединка взглядами, и я пошел ей навстречу, хотя ее дикие глаза если не пугали, то вызывали тревогу.
– Что такое черное снаружи – красное внутри? – спросила она.
Я не знал, о чем она, чего хочет. Покачал головой.
Из кармана ветровки она достала выкидной нож. Нажатие на кнопку, и из ручки выскочили семь дюймов стали с острым как бритва лезвием.
– Я настроена очень серьезно, мальчик.
Я кивнул.
– И я люблю резать. Ты веришь, что я люблю резать?
– Да.
– Открывай жестянку.
21
Лезвием ножа она переворошила содержимое коробки, которую я держал на вытянутых руках.
– Просто барахло.
– Это все – мои вещи.
– Готовишь себя в коллекционеры мусора? А что ты положил в коробку, когда я смотрела на тебя от двери?
– Глаз.
– Какой еще глаз?
– Я нашел его в проулке. От плюшевого медведя или чего-то такого.
Она подняла глаз, зажав между большим и указательным пальцами.
– Что это?
– Не знаю. Интересная штуковина.
– Интересная? Чем?
– Не знаю. Просто.
Она нашла взглядом мои глаза, потом уперлась острием лезвия мне в нос.
– Почему?
Я прижимался спиной к стене, отступать было некуда. Страх перед ножом лишил меня дара речи.
Она сунула лезвие в мою левую ноздрю.
– Не шевелись, проныра. Если дернешься, порежешься. Почему тебя заинтересовал этот глаз плюшевого медведя?
– Я думал, что он заколдован джуджу. Джуджу – это…
– Я знаю, что это такое. Глаз с джуджу. Похоже, из тебя вырастет тот еще чудик.
Она бросила фабричный глаз обратно в жестянку. Вытащив лезвие из моей ноздри, вновь пошевелила им содержимое коробки, но быстро потеряла интерес к моим сокровищам.
– Убери.
Я поставил коробку на ночной столик, не отрывая глаз от блестящего лезвия ножа.
Примерно с полминуты она молчала, я тоже, а потом она убрала нож.
– Хорошо, что ты соврал мне насчет мамы. Если бы она пришла и увидела меня с ножом в руке, мне бы пришлось прирезать ее, а потом тебя. Любишь свою маму, проныра?
– Конечно.
– Не все любят. Моя была эгоистичной сукой.
Я повернулся, чтобы посмотреть, не полил ли за окном дождь, хотя еще больше мне не хотелось смотреть на нее.
– Если ты любишь свою маму, то хорошенько подумаешь над моими словами. Я люблю резать. За полминуты могу сделать ей новое лицо. Посмотри на меня, мальчик.
Дождь еще не полил.
– Не серди меня, мальчик.
Я посмотрел на нее.
– Ты понимаешь меня, как все складывается, как должно быть?
– Да. Понимаю. Большого ума для этого не нужно.
Она отвернулась от меня, пересекла комнату, открыла дверь.
Не знаю, кто дернул меня за язык, да только, когда тебе девять лет и ты напуган, мысли путаются.
– В кошмарном сне я видел вас мертвой и очень жалел, что с вами такое случилось.
На пороге она остановилась и всмотрелась в меня, как было и чуть раньше: не с безразличием механического автомата, но с пренебрежением машины с электронным мозгом, которая презирает существа из плоти и крови.
– И чего ты добиваешься, рассказывая все это дерьмо обо мне-в-кошмарном-сне?
– Ничего. Я вас жалел, вот и все.
– Мне бояться? Это угроза или как?
– Нет. Просто… так было. Я хочу сказать, в кошмаре.
– Тогда тебе, может, лучше не видеть сны.
Я чуть не произнес ее имя и фамилию, чтобы она поверила мне насчет кошмара, но что-то остановило меня, интуиция или ангел-хранитель, сказать не могу.
– Что? Что такое? – спросила она, словно прочитав мои мысли.
– Ничего.
Лицо ее было одновременно прекрасным и жестоким, со временем я узнал, что жестокость у Фионы Кэссиди в крови. Она смотрела на меня, а я держал ее взгляд, поскольку боялся, что она вновь обойдет кровать, если я отведу глаза, и пустит в ход нож. Наконец она вышла в коридор, оставив дверь открытой, и скрылась из виду, направившись ко входной двери.
В этот самый момент, словно Фиона захотела добавить драматичности в свой уход, небо выпустило целый сноп молний, и от грома задребезжали оконные стекла и завибрировали стены, и тут же хлынул ливень.
Я стоял, трясущийся, униженный, не оправдавший собственный образ, который создал и лелеял. Мужчина в доме. Смех, да и только. Я был мальчишкой – не мужчиной, да еще таким худеньким, что не сильно отличался от тростинки.
Дедушка Тедди часто говорил, что музыкальный талант – незаслуженный дар, поэтому я должен каждый день благодарить за него Бога, и моя обязанность и дело чести – максимально его использовать. Но сейчас я бы с радостью променял талант на крепкие мышцы, отрочество – на возраст: очень мне хотелось стать мужчиной с бычьей шеей, широкой грудью, накачанными бицепсами.
Хотя я намеревался дать Фионе Кэссиди достаточно времени, чтобы покинуть нашу с мамой квартиру, стыд и стремление искупить свою вину погнали меня следом раньше, чем я намечал. Я выскочил в коридор, потом в гостиную, но не увидел незваную гостью. Дверь в квартиру оставалась закрытой, не просто закрытой – запертой на врезной замок, то есть Фиона Кэссиди все еще находилась в наших немногочисленных комнатах.
Летний дождь бил в подоконники окон, выходящих на улицу, и капли летели в квартиру: нижние рамы, поднятые из-за жары, никто, кроме меня, опустить не мог. Я их опустил, а потом, не без страха, обыскал все комнаты и стенные шкафы, заглянул под кровать, на которой спала мама, потом под свою. Облегченно вздохнул, выяснив, что в квартире я один, но при этом пребывая в полном недоумении. Более того, по спине побежали мурашки. Тем не менее, пока ничего серьезного не произошло.
22
Когда мистер Смоллер, техник-смотритель и теоретик заговоров, не откликнулся на звонок в дверь, я принялся искать его по всему дому. Он мог быть в любой квартире, занимаясь мелким ремонтом, но прежде всего я спустился в подвал, где он обычно проводил большую часть времени. Я воспользовался внутренней лестницей, вместо того чтобы выйти в проулок, из которого в подвал вела своя дверь. Спускаясь по крутым деревянным ступеням, я услышал, как мистер Смоллер разговаривает сам с собой в лабиринте техники, которая обеспечивала дом всем необходимым для проживания.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
Все имена Ионы – фамилии знаменитых афроамериканских джазистов, многие из которых, будучи виртуозами, еще и руководили большими оркестрами: Дюк Эллингтон (1899–1974), Каунт Бейси (1904–1984), Эрл Хайнс (1903–1983), Рой Элдридж (1911–1989), Тедди Уилсон (1912–1986), Лайонел Хэмптон (1908–2002), Луи Армстронг (1901–1971).
2
Оберлинская консерватория / Oberlin Conservatory of Music – составная часть Оберлинского колледжа (г. Оберлин, штат Огайо), одна из старейших в США. Основана в 1865 г.
3
Великие белые американские джазисты.
4
Мартин, Фредди / Martin, Freddy (полное имя Фредерик Альфред / Frederick Alfred, 1906–1983) – белый американец. Руководитель джазового оркестра и тенор-саксофонист.
5
Джеки Робинсон / Jacky Robinson (полное имя Джек Рузвельт Робинсон / Jack Roosevelt Robinson, 1919–1972) – первый негритянский бейсболист, выступавший в высшей лиге.
6
«Маргарита» / Margarita – коктейль, содержащий текилу с добавлением сока лайма или лимона, цитрусового ликера – трипл-сек и льда.
7
От английского Pearl – жемчуг, жемчужина. (Упомянутая выше Маргарита – тоже жемчужина, только от древнегреческого μαργαρίτης/маргаритис.)
8
Хоаги Кармайкл / Hoagy Carmichael (полное имя Говард Хоагленд Кармайкл / Howard Hoagland Carmichael; 1899–1981) – американский пианист, композитор, певец, актер и руководитель джазового оркестра. «Звездная пыль» – популярнейшая американская песня и классический джазовый стандарт. Мелодия впервые записана в 1927 г. Песня появилась в 1929 г.
9
«Карнавал» / Carnival – бродвейский мюзикл 1961 г., в котором Анна-Мария сыграла главную роль.
10
Кэй Дэвис / Kay Davis (настоящее имя Кэтрин Макдональд Уимп / Katherine McDonald Wimp, 1920–2012) – американская певица, выступавшая с оркестром Дюка Эллингтона.
11
Мария Эллингтон / Maria Ellington (настоящее имя Мария Хокинс Коул / Maria Hawkins Cole, Ellington по мужу, 1922–2012) – американская певица, выступавшая с оркестрами Дюка Эллингтона и Каунта Бейси.
12
Форрест, Хелен / Forrest, Helen (1917–1999) – американская певица, выступавшая с оркестрами Арти Шоу, Бенни Гудмена и Гарри Джеймса.
13
Тилтон, Марта / Tilton, Martha (1915–2006) – американская певица, выступавшая с оркестром Бенни Гудмена, киноактриса.
14
Дейл Эванс / Dale Evans (настоящее имя Люсиль Вуд Смит / Lucille Wood Smith, 1912–2001) – американская певица, писательница, киноактриса.
15
Скэт / scat – специфический способ джазовой вокальной импровизации, при котором голос используется для имитации музыкального инструмента, а пение не несет лексической смысловой нагрузки.
16
Шеп Филдс / Shep Fields (настоящее имя Сол Фельдман / Saul Feldman, 1910–1981) – американский музыкант, руководитель оркестра.
17
Норво, Ред / Norvo, Red (1908–1999) – американский джазист, руководитель оркестра, одним из первых использовал в джазе такие инструменты, как ксилофон, маримба, виброфон. Третий муж Милдред Бейли.
18
Если Джеки Глисон / Jackie Gleason (1916–1987) и Эрнест Боргнайн / Ernest Borgnine (1917–2012) – реальные люди, то Фред Флинтстоун – персонаж мультипликационного сериала «Флинтстоуны», которого озвучивал (1960–1977) Алан Рид / Alan Reed (1907–1977).
19
Люсит / Lucite – прозрачный акриловый пластит. Изобретен в 1930 г. Часто используется для изготовления различной бижутерии.
20
Началом внедрения «плавникового стиля», воплощающего в себе квинтэссенцию американского автомобиля – огромного, мощного и роскошного, считается 1948 г., когда на крыльях «Кадиллака» появились маленькие декоративные «плавники».
21
Уилл Хадсон / Will Hudson (1908–1981) и Эдди Деланж / Eddie DeLange (1904–1949) – американские музыканты и композиторы, возглавлявшие оркестр в 1936–1938 гг.
22
Песню «Лунное сияние» / Moonglow впервые записал в 1933 г. оркестр под управлением Джо Венути / Joe Venuti (1903–1978).
23
Чудо-хлеб / Wonder Bread – марка белого хлеба, появившаяся на прилавках в 1921 г. Впервые хлеб предварительно нарезался на ломти и продавался в упаковке.
24
Херц, Алиса / Herz, Alice (1882–1965) – первая активистка борьбы против войны во Вьетнаме, покончившая с собой самосожжением в Детройте, штат Мичиган.
25
На английском ночное семяизвержение – wet dream / мокрый сон. Учитывая время действия романа и возраст Ионы, значения этого термина он знать не может и воспринимает буквально.