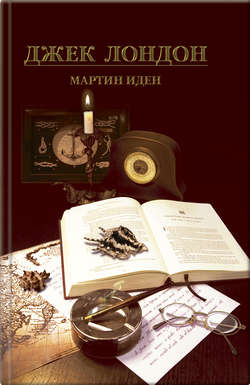Читать книгу Мартин Иден - Джек Лондон - Страница 8
Глава VII
ОглавлениеСо дня первой встречи Мартина с Рут Морз прошла целая неделя, во время которой он запоем читал. Пойти к ней он все еще не решался. Несколько раз собирался с духом, но затем его охватывали сомнения, и вся решимость исчезала. Он не знал, когда ему лучше всего явиться к ней, посоветоваться было не с кем, а он боялся совершить непоправимую ошибку. Теперь, когда он разошелся со своими старыми товарищами и отказался от прежнего образа жизни, ему не оставалось другого занятия, кроме чтения: новых знакомств он не завел. Он читал целыми днями и вконец испортил бы себе зрение, не будь у него таких хороших глаз и такого здорового организма, а ум его представлял собой девственную, не истощенную отвлеченным мышлением и книжной премудростью почву, благодатную для посева. Свежий мозг с жадностью впитывал из книг знания и уже не выпускал их.
К концу недели Мартину показалось, что он прожил за это время несколько веков – так далеко он ушел от прежней жизни, от прежнего мировоззрения. Но ему существенно мешал недостаток элементарных знаний. Подчас он брался за книги, требовавшие продолжительной специальной подготовки. Иногда он начинал читать какое-нибудь устаревшее философское сочинение, а через день хватался за ультрасовременные философские системы. В результате у него в голове был сплошной сумбур и хаос. То же вышло и с политической экономией. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля. Отвлеченные формулы одного противоречили взглядам другого. Мартин был сбит с толку, но все же хотел во что бы то ни стало узнать истину. Он сразу заинтересовался и политической экономией, и вопросами промышленности, и политикой. Как-то раз, проходя через парк городской ратуши, он заметил группу людей, среди них стояло человек шесть. Лица у них раскраснелись и они, сильно повышая голос, о чем-то переговаривались. Он присоединился к слушателям и услыхал из уст этих народных философов новый, чуждый ему язык. Из них один был бродяга, второй – рабочий-агитатор, третий – студент-юрист, а трое остальных были ораторы из рабочих. Здесь впервые Мартин услыхал о социализме, об анархизме, о едином народе и узнал, что существуют враждующие между собой социальные теории. Он услышал кучу новых для него социальных терминов из области, которой не касались немногие прочитанные им книги. Он не мог полностью следить за спором, а только строил предположения, догадывался об идеях, облеченных в столь странные выражения. Выступил черноглазый лакей из ресторана – теософ, затем пекарь, член профсоюза, агностик, какой-то старик, озадачивший всех собеседников проповедью странной философии, гласившей, что «все существующее – справедливо», и второй старик, произнесший длинную речь о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.
Простояв там несколько часов, Мартин Иден с полным сумбуром в голове отправился в библиотеку. Там он отыскал значения дюжины непонятных ему слов. Уходя, он унес под мышкой четыре книги: «Тайная доктрина Блаватской», «Прогресс и нищета», «Квинтэссенция социализма» и «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». На каждой строчке встречались многосложные, непонятные слова. Он читал, сидя на кровати, и заглядывал в словарь чаще, чем в книгу. Новых слов было такое множество, что он постоянно забывал их значение, и вынужден был по нескольку раз прибегать к словарю, когда одно и то же слово встречалось еще и еще. Он решил записывать слова в записную книжку и исписывал страницу за страницей. И все-таки ничего не понимал. Он читал до трех часов ночи, в голове у него все перемешалось, но он так и не уловил ни одной существенной мысли. Он поднял глаза; ему показалось, что комната шатается, качается и ныряет, точно корабль в море. Тогда он швырнул «Тайную доктрину» через всю комнату, крепко выругался, потушил газ и улегся спать. Не повезло ему и с остальными тремя сочинениями. Происходило это вовсе не потому, что мозг его был чересчур слабым или неспособным к отвлеченному мышлению; будь у Мартина соответствующая подготовка и побогаче словарный запас, он бы свободно усвоил все мысли автора. Он сам об этом догадывался и даже решил было некоторое время ничего, кроме словаря, не читать, пока не выучит его наизусть.
Утешением ему служила поэзия; он прочел за это время множество стихов. Больше других ему нравились поэты простые, которых он легче понимал. Он любил красоту – и здесь он находил ее. Поэзия, как и музыка, сильно действовала на него; хотя он сам этого не сознавал, но он подготавливал свой мозг для будущей, более сложной работы. Ум его был подобен белому листу бумаги, и потому многие стихи из понравившихся ему поэтов запечатлевались, строка за строкой, в его мозгу. Вскоре он с наслаждением начал декламировать вслух или вполголоса прекрасные, музыкальные стихотворения, которые он заучил. Как-то раз он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Мифический век» Булфинча, стоявшие рядом на полке. Книги эти пролили яркий свет на темноту его невежества, и он продолжал с еще большей жадностью поглощать стихи.
Мартин так часто приходил в библиотеку, что сидевший за конторкой человек стал очень приветлив с ним и всегда кивал ему, улыбаясь, когда он уходил. Это придало Мартину духу решиться на смелый шаг. Однажды, взяв несколько книг на дом, когда библиотекарь ставил штемпель на его карточки, он пробормотал:
– Мне очень хотелось бы спросить у вас одну вещь.
Библиотекарь улыбнулся и приготовился слушать.
– Если вы познакомились с молодой леди и она пригласила вас зайти, то через сколько времени вы можете это сделать?
Мартин почувствовал, что его прошиб пот от напряжения: рубашка прилипла к телу.
– Я думаю, в любое время, – ответил тот.
– Да тут, видите, другое дело, – возразил Мартин. – Она… Я… понимаете, я могу не застать ее. Она учится в университете.
– Тогда зайдите в другой раз.
– Да я не то хотел сказать, – запинаясь, произнес Мартин и решил объясниться начистую. – Я человек простой и в обществе бывать не привычный. А эта девушка совсем не то, что я… Вы меня, наверное, большим дураком считаете, – вдруг добавил он.
– Да нет, уверяю вас, нисколько, – запротестовал тот. – Правда, ваш вопрос несколько вне сферы компетенции справочного отдела, но я очень рад быть вам полезным.
Мартин с восхищением взглянул на него.
– Эх, кабы я умел так шпарить – вот было бы здорово!
– Виноват?..
– Я хочу сказать, что если бы я мог говорить, как вы – так свободно и вежливо и все такое…
– А! – воскликнул библиотекарь, наконец поняв.
– В какое время лучше всего прийти? Днем – пораньше, до обеда? Или вечером? Или в воскресенье?
– Вот что, – сказал с улыбкой библиотекарь, – позвоните ей по телефону и спросите ее.
– Я так и сделаю, – сказал Мартин, собирая книги и поворачиваясь, чтобы уходить. Вдруг он остановился и спросил: – Когда вы разговариваете с леди, ну, положим, с какой-нибудь мисс Лиззи Смит, как следует ее называть – мисс Лиззи или мисс Смит?
– Называйте ее «мисс Смит», – авторитетно заявил библиотекарь, – всегда говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней ближе.
Так Мартин решил свой сложный вопрос.
– Приходите, когда хотите, я весь день буду дома, – ответила Рут по телефону, когда Мартин, запинаясь, спросил ее, когда он может принести ей взятые у нее книги.
Она сама встретила его у входа. Ее женский взгляд сразу подметил выутюженные брюки и общую, правда, незначительную, но все же заметную, перемену к лучшему в его внешности. Ее поразило его лицо, – пышащее здоровьем лицо, от которого веяло силой и мощью. Она вновь почувствовала желание прижаться к нему, чтобы почувствовать теплоту, и вновь удивилась тому, что его присутствие так действовало на нее. И он в свою очередь вновь испытал прежнее ощущение блаженства от прикосновения к ее руке. Но между ними была разница: она внешне оставалась холодной и вполне владела собой, он же покраснел до корней волос. Он вошел вслед за ней, спотыкаясь, с прежней неловкостью, опять раскачиваясь из стороны в сторону.
Однако, когда они уселись в гостиной, дело пошло лучше – куда лучше, чем он вообще надеялся. Она старалась облегчить их беседу и делала это так деликатно, что он почувствовал еще более безумный прилив любви к ней. Сначала они поговорили о взятых им книгах, о Суинберне, полностью захватившем его, и о Броунинге, которого он не понимал; она переходила от одной темы к другой, а сама, между тем, думала, как бы помочь ему. Эта мысль уже несколько раз приходила ей в голову со времени их первой встречи. Ей хотелось помочь ему. Ни один человек еще не вызывал в ней подобной нежности и жалости, но жалости не обидной, а смешанной с каким-то материнским чувством. Жалость, которую он ей внушал, была не обычной: для этого в нем было слишком много чисто мужского, и оно так резко в нем проявлялось, что ее подчас охватывал страх и сердце от странных мыслей и чувств начинало биться сильнее. Ее не покидало давнишнее желание обнять его за шею, и эта мысль доставляла ей какое-то странное удовольствие. Она все еще сознавала неприличие такого желания, но теперь уже как-то привыкала к нему. Ей в голову не приходило, что зарождающаяся любовь проявляется подобным образом; ей не снилось, что чувство, которое ей внушает этот человек, – не что иное, как любовь. Ей казалось, что он интересует ее только как необычный человек, обладающий многими скрытыми способностями, что все это просто ее филантропство.
Она не понимала, что физически желает его; он же, напротив, знал, что любит ее и что никогда в жизни ничего не желал так, как ее. Раньше он любил поэзию как проявление красоты; но с тех пор, как он встретился с ней, перед ним широко раскрылась другая область – область поэтической любви. Эта любовь открыла ему глаза еще больше, чем Булфинч или Гэйли. Он помнил одну строфу из стихотворения:
И, объятый страстью божественной,
В поцелуе любовник безумный
Отдал жизнь – и с ней душу свою…
строфу, на которую он раньше не обратил бы ни малейшего внимания; теперь же эти слова не выходили у него из головы. Его поражала необычайная точность этой мысли: он глядел на Рут и думал, что с радостью умер бы за ее поцелуй. Он чувствовал, что сам принадлежит к породе «любовников безумных», готовых с радостью отдать жизнь за поцелуй, и гордился этим, как древний рыцарь – принадлежностью к своему ордену. Наконец-то он узнал смысл жизни, узнал, ради чего он появился на свет.
Он смотрел на нее, слушал ее слова, и понемногу его начали охватывать все более и более смелые мысли. Он вспоминал безумный восторг, который испытал от прикосновения ее руки там, у двери, и жаждал вновь ощутить его. Порой его взгляд останавливается на ее губах, и у него появлялось страстное желание коснуться их; но в этом желании не было ничего грубого, земного. Ему доставляло наслаждение наблюдать за движением этих губ, когда они произносили какие-нибудь слова; вместе с тем ему казалось, что они не такие, как у прочих мужчин и женщин. Эти губы не могли быть созданы из обыкновенной человеческой плоти, это были губы бесплотного духа; он жаждал их совершенно не так, как жаждал когда-то губ других женщин. Если бы он поцеловал их, коснулся их своими губами, то лишь с тем чувством благоговения, с которым припал бы к краю одежды Господа. Он сам не сознавал, какая в нем произошла переоценка ценностей, не чувствовал, что в глазах его, когда он смотрит на нее, светится тот же огонь, что у каждого охваченного страстью мужчины. Он и не подозревал, как пылко и страстно он глядит на нее, не подозревал, что зажег и ее своим огнем. Под влиянием ее девственной чистоты его чувство смягчалось, становилось возвышеннее, а мысли уносились в звездные, непорочно-бесстрастные выси. Он удивился бы, если бы ему сказали, что взгляд его горит огнем, от которого ее словно окатывает горячая волна, воспламеняющая ее. Рут ощущала какую-то неуловимую, сладкую тревогу, нарушавшую подчас ход ее мыслей, и тогда она мучительно искала, что бы еще сказать. Она вообще прекрасно умела вести разговор, и ее не могла не удивить ее собственная рассеянность; но она решила, что он – редкий тип и лишь потому его присутствие так на нее действует. Она всегда чутко реагировала на новые впечатления, и потому не было ничего удивительного в том, что появление этого жителя из другого мира так повлияло на нее.
Во время разговора ее не покидала мысль о том, как бы помочь ему, и она старалась направить беседу в нужное русло, но Мартин первый прямо коснулся этого вопроса.
– Не дадите ли вы мне совет? – начал он. Она охотно согласилась, и сердце его сильнее забилось от восторга. – Помните ли, в прошлый раз я сказал вам, что не умею говорить о книгах и тому подобное? Ну, так вот, с тех пор я много размышлял. Я исправно хожу в библиотеку, но почти все книги, за которые я брался, оказались мне не под силу. Может быть, мне надо начать сначала. Ведь у меня не было возможности учиться. С детства мне приходилось много работать. А с тех пор, как я стал ходить в библиотеку и увидел там кучу новых книг, я стал смотреть на них другими глазами. Я решил, что до сих пор читал не то, что следует. Знаете сами, какие книжки попадают к ковбоям в лагерь или к матросам на бак, – это совсем не то, что у вас, например. Ну, так я только такие книжки и читал. А все-таки – я вовсе не хочу хвастаться – я не такой, как другие, с кем мне приходилось иметь дело. Не то, чтобы я был лучше своих товарищей, матросов или ковбоев. Я и ковбоем был, хотя недолго, но всегда любил книги; я читал все, что мне попадалось… одним словом, я думаю совсем не так, как большинство из них. Так вот в чем дело. Я никогда раньше не бывал в таком доме, как ваш. Когда я пришел к вам неделю тому назад и увидел все это, и вас, и вашу матушку, и ваших братьев, и все – мне это… ну, понравилось. Я слыхал, что бывают такие дома и читал про это в книгах, а когда познакомился с вами, то понял, что в книгах все написано правильно. Но главное то, что это мне нравится. Я сам хочу этого. Хочу теперь же, сейчас. Я хочу дышать таким воздухом, как здесь, чтобы меня окружали книги, картины, красивые вещи, чтобы люди не кричали, были сами чистые и мысли чтоб у них были чистые. До сих пор я только и слышал что разговоры о еде, да как бы за квартиру заплатить, или денег накопить, или напиться. Когда вы пошли навстречу вашей матери и поцеловали ее, то мне показалось, что я никогда не видал ничего прекраснее. Я хорошо знаю жизнь, я как-то лучше ее знаю, чем люди, которые меня окружают. Я люблю смотреть вокруг; мне хочется все видеть и вижу я по-своему.
Но я все-таки еще не сказал вам главного. Вот в чем дело: я хочу подняться до той жизни, которой живете вы все здесь. Ведь в жизни есть еще нечто, кроме пьянства, тяжелой работы и шатания по свету. Но как мне этого достигнуть? С чего начать? Я знаю, что это даром не дается, а там, где дело касается работы, я любому дам сто очков вперед. Если уж я возьмусь за что-нибудь, то буду работать день и ночь. Может быть, вы будете смеяться надо мной за то, что я к вам обратился. Я сам знаю, что не следовало бы вас об этом спрашивать, но мне не к кому больше пойти, кроме разве Артура. Может быть, и надо было к нему обратиться. Будь я…
Голос его оборвался. Твердое решение спросить у нее совета вдруг пропало от внезапной мысли, что он напрасно не пошел к Артуру, а вместо этого опять оказался в дураках. Рут заговорила не сразу. Она слишком была поглощена вопросом, как примирить его нескладную, запинающуюся речь и простые мысли с тем, что она прочла у него на лице. Никогда еще она не видела глаз, в которых светилась бы такая сила. Они убеждали ее, что этот человек может совершить все, что угодно, но это чувство как-то плохо вязалось с беспомощностью выраженного. Ее собственный ум отличался такой сложностью и сообразительностью, что она не сумела понять и оценить эту беспомощную простоту и непосредственность. И все же в самой его неуверенности заключалась сила. Он казался ей великаном, старающимся разорвать связывающие его путы. Наконец она заговорила. Лицо ее выражало глубокое сочувствие к нему.
– Вы сами отлично сознаете, чего вам не хватает, – образования. Вам нужно начать сначала: окончить школу, а затем – поступить в университет.
– Но ведь на это нужны деньги, – перебил он ее.
– Ах! – воскликнула она. – А я об этом и не подумала. Но у вас, наверное, есть кто-то из родных, кто мог бы помочь вам?
Он отрицательно покачал головой.
– Отец и мать мои умерли. У меня две сестры, – одна замужем, а другая, наверное, скоро выйдет, у меня целая куча братьев – я самый младший, но они никогда никому не помогали. Они разбрелись по миру в поисках счастья. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, четвертый – матрос на китобойном судне, он теперь в плавании, а пятый – акробат в странствующем цирке. И я – такой же, как они. Я сам зарабатываю себе на хлеб с одиннадцати лет, с тех пор как умерла моя мать. Учиться мне придется самому, и мне хочется знать, с чего начать.
– Первое, что вам, по-моему, следует сделать, это приняться за язык. Вы говорите… – она чуть было не сказала «ужасно», но остановилась и добавила: – не вполне правильно.
Он вспыхнул и почувствовал, как на лбу у него выступил пот.
– Да, я часто говорю на жаргоне и употребляю непонятные вам слова. Но ведь… я только эти слова и знаю. В голове у меня есть и другие слова, которые я вычитал из книжек, но я не знаю, как нужно их произносить, и потому я их не употребляю.
– Дело не столько в словах, сколько в неумении выражаться. Вы не сердитесь, что я говорю так откровенно? Мне не хотелось бы обидеть вас.
– Нет-нет! – воскликнул он, почувствовав к ней признательность за ее доброту. – Выкладывайте все. Знать мне нужно – так уж лучше узнать от вас, чем от кого-нибудь другого.
– В таком случае начнем.
И Рут указала ему на целый ряд ошибок, которые он постоянно допускал в произношении слов и построении фраз, и была поражена, как быстро и хорошо он усваивал ее замечания.
– Вам необходимо изучить грамматику, – сказала она. – Я сейчас схожу за книжкой и покажу, с чего начать.
Вернувшись с учебником грамматики, она придвинула свой стул поближе – он подумал, что ему, наверное, следовало бы помочь ей, – и села рядом с ним. Она стала перелистывать страницы; наклоненные головы их почти касались друг друга. Эта близость так волновала его, что он с трудом следил за ее словами. Но когда она начала объяснять ему правила спряжения глаголов, он даже забыл о ней. Он раньше и понятия не имел о спряжениях, и его поразило это раскрытие законов речи. Он наклонился над страницей, и волосы ее коснулись его щеки. Ему только раз в жизни случилось потерять сознание, но он почувствовал, что на этот раз близок к обмороку. Он не дышал, и сердце у него билось так сильно, что вся кровь, казалось, подступила к горлу и едва не задушила его. Никогда еще она не казалась ему столь достижимой. На один миг исчезла пропасть, разделявшая их. Но его чувство к ней оставалось таким же возвышенным. Не она опустилась до него, а он вознесся ввысь к ней. В это мгновение он испытывал к ней лишь благоговение, как к чему-то священному. Ему казалось, что он проник в святая святых, – медленно, осторожно он отвел голову в сторону, избегая прикосновения ее волос, от которого по всему телу его словно пробегал электрический ток. Но она ничего не заметила.