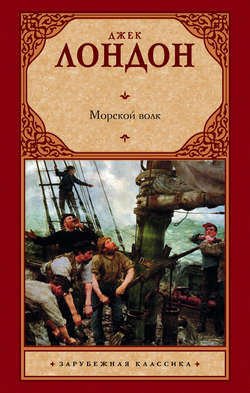Читать книгу Морской волк - Джек Лондон, William Hootkins - Страница 6
Глава VI
ОглавлениеНа следующее утро буря стихла, и «Призрак» слегка покачивался на спокойной глади, при полном отсутствии ветра. Однако временами ощущалось слабое движение воздуха, и Волк Ларсен стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный пассат.
Команда была вся на палубе, приготовляя лодки к сезонной охоте. Всего было семь лодок – капитанский баркас и шесть промысловых. Команда каждой состояла из трех человек: охотника, гребца и рулевого. Из этих же гребцов и рулевых состояла команда шхуны. Впрочем, и охотники могли стоять на вахте, находясь всегда в распоряжении капитана.
Все это и многое другое узнавал я постепенно. «Призрак» считался самой быстроходной шхуной среди парусных судов Сан-Франциско и Виктории. Когда-то она была частной яхтой и построена с расчетом на особую скорость. Ее размеры и оснастка – хотя я и не смыслю в таких вещах – говорят сами за себя. Во время вчерашней дневной вахты Джонсон кое-что порассказал мне о ней. Он говорил с энтузиазмом, с такой же любовью к великолепному судну, какую некоторые люди проявляют к лошадям. Но во всем остальном он был разочарован, и дал мне понять, что Волк Ларсен среди капитанов пользовался очень сомнительной репутацией. Джонсона привлекла сама шхуна «Призрак», и он записался в ее команду, а теперь начинал уже раскаиваться.
От него я узнал, что «Призрак» – восьмидесятитонная шхуна чрезвычайно изящной конструкции. Ее ширина двадцать три фута, а длина немногим больше девяноста. Свинцовый киль сказочной, неслыханной тяжести делает ее очень устойчивой, позволяя нести огромное количество парусов. От палубы до вымпела грот-мачты несколько больше ста футов, в то время как бизань-мачта со своей стеньгой на восемь или десять футов ниже. Я привожу эти данные для того, чтобы можно было себе представить размеры нашего маленького мирка, вмещавшего в себе команду из двадцати двух человек. Это был действительно очень маленький мирок, точка или атом среди безбрежного моря, и я часто изумлялся, как люди смели выходить в море на таких утлых и ничтожных скорлупках.
Волк Ларсен был известен еще и тем, что беззаботно играл парусами. Я подслушал, как об этом разговаривали Гендерсон и другой охотник, по имени Стэндиш, калифорниец. Два года назад во льдах Берингова моря бурей сорвало с «Призрака» все три мачты; теперешние мачты, поставленные после катастрофы, были более прочные и тяжелые. Говорили, что, ставя их, Ларсен хвалился, что скорее перевернет шхуну, чем потеряет новые мачты.
По-видимому, все здесь, кроме Иогансена, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсена и старались оправдаться в том, что согласились поступить на «Призрак». Половина команды – моряки дальнего плавания, и они уверяли, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане Ларсене. А те, кто знал, сообщали шепотом, что наши охотники, хотя и отличные стрелки, были до такой степени известны своим задорным характером и жульничеством, что не смогли бы подписать контракта ни с какой другой приличной шхуной.
Я познакомился еще с одним матросом из команды, круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда повар спал, а я чистил свой вечный картофель, Луис зашел поболтать в кухню. В оправдание своей службы на «Призраке» он говорил, что был пьян, когда подписывал контракт. В трезвом виде он ни за что на свете не сделал бы этого. По-видимому, он уже много сезонов подряд бил котиков и в течение двенадцати лет числился среди тех двух-трех гребцов, лучше которых нет во всей флотилии Сан-Франциско и Виктории.
– Ах, дружище, – говорил он, зловеще покачивая головой, – это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать, и притом вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков – это просто рай. У нас первым скапутился штурман, но запомните мои слова: к концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть это останется между нами и этим столом, – Волк Ларсен сущий дьявол, а «Призрак» покажет себя чертовой посудиной, какой он всегда и был с тех пор, как Ларсен стал командовать им. Разве я не знаю этого? Знаю, и даже очень хорошо. Разве я не помню, как два года назад, в Хакодате[16], у него на шхуне случилась драка и он застрелил четырех матросов! Разве я не был тогда на «Эмме» всего в каких-нибудь трехстах ярдах[17] от него! И в том же году он ударом кулака убил человека. Да, сэр, он убил его наповал. Его голова разлетелась как яичная скорлупа. А разве не было такого случая, когда губернатор острова Куры и начальник полиции – два японских джентльмена – явились на «Призрак» в гости, да притом еще и с женами – маленькими такими бабеночками, каких рисуют на японских веерах! Разве не вышло так, что когда Ларсен отплывал, то любящие мужья оказались вдруг высаженными в свои джонки[18] по какому-то странному недоразумению, а их бедные маленькие жены через неделю оказались вдруг на противоположном берегу острова, и им не оставалось ничего другого, как идти домой через горы пешком, в своих крошечных соломенных сандалиях, которые сейчас же с них и свалились! Разве я всего этого не знаю? Он-то и есть настоящий зверь. Волк Ларсен – это тот самый Великий Зверь из Апокалипсиса. И, поверьте мне, все это к добру не приведет. Но имейте в виду, я ничего вам не говорил. Я ни словечка вам не шепнул ни о чем, потому что старый, жирный парнюга Луис желает выскочить из этого плавания живым, если даже все остальные маменькины сынки отправятся на съедение рыбам.
– Волк Ларсен! – воскликнул он через минуту. – Вслушайтесь хорошенько в это имечко! «Волк» – вот он кто! Волк это значит! Он не жесток, как некоторые. Нет, но у него вовсе нет сердца. Волк, сущий волк! Хорошее имечко ему дали, а?
– Но если всем известно, что он за человек, – спросил я, – то как же он набирает себе команду?
– А как вообще находят людей, готовых сделать все, что угодно, на земле и на море? – спросил Луис с ирландской запальчивостью. – Как бы я, например, оказался здесь, если бы не был пьян, как свинья, когда подмахивал контракт? Всегда найдутся такие, которые все равно не могли бы попасть на лучшее судно, а другие ровно ничего не знали, как, например, вон те бедняги на носу. Но они поймут, да, они поймут и проклянут тот день, когда явились на свет. Право, я поплакал бы о них, если бы не беспокоила меня больше всего судьба старого толстяка Луиса. Но смотрите – я вам ничего не говорил. Ни-ни! Ни единого звука!
– Жуткие ребята эти охотники, – снова разразился он, увлекаемый страстью к болтовне. – Но обождите, пусть только они начнут выкидывать свои штуки! Волк Ларсен сумеет скрутить их. Он вложит страх Божий в их гнилые черные сердца. Посмотрите на милейшего охотника Хорнера, – тихоня, ходит легонько, говорит сладенько, как барышня. Можно подумать даже, что масло не растает у него во рту! А не он ли в прошлом году убил своего рулевого? Тогда признали это «несчастным случаем», но я встретил его гребца в Иокогаме, и он мне прямиком расписал, как было дело. А Смок, этот черномазый чертенок, – вы ведь не знаете, что русские приговорили его к трем годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном острове, право охоты на котором принадлежит русским. Его сковали рука с рукой и нога с ногой с его товарищем. А там, в рудниках, они перессорились из-за чего-то. И Смок прикончил своего близнеца и отправил его наверх в бадье с солью: но посылал его по частям – сегодня ногу, завтра – руку, послезавтра – голову.
– Что вы говорите! – воскликнул я, пораженный ужасом.
– Что я говорю? – вспыхнул он, точно огонь. – Я не говорил вам ровно ничего. Я глух и нем, чего и вам желаю, ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсене, пусть черт скрючит его душу, пусть он гниет в чистилище десять тысяч лет и пусть низвергнется потом в самую глубину преисподней.
Джонсон, тот самый матрос, который чуть не содрал мне кожу, когда я впервые попал на борт, казался наименее подозрительным из всей этой братии. Он, по-видимому, не был двуличным. Он с самого начала поражал своими прямотой и достоинством, смягчавшимися скромностью, которую можно было ошибочно принять за робость. Но робким он не был. Он храбро высказывал свои взгляды, в нем было упрямое мужество. Сознание своего достоинства заставило его в начале нашего знакомства протестовать против того, чтобы его называли Ионсоном. И вот насчет этой щепетильности начал Луис чесать свой длинный язык и пророчествовать.
– Славный парень этот самый головастый Джонсон. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в лодке. Но запомните мое слово, будет у него беда с Волком Ларсеном. Уж я это знаю. Уж я вижу; надвигается и подходит она, как грозовая туча. Я хотел поговорить с ним по-братски, но он ничего не хочет слушать, все ему надо разбирать, где правильные огни, а где фальшивые сигналы. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом Волку. Волк силен, но Волк ненавидит чужую силу, а он видит силу в Джонсоне. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил: «Да, сэр!» или: «Очень благодарен, сэр!» Ох, быть беде, быть беде! И где я достану тогда другого гребца? До чего дошел упрямый дурак! Когда старик назвал его Ионсоном, он отрезал ему: «Мое имя Джонсон, сэр, а не Ионсон!» И повторяет свою фамилию по складам, буква за буквой. Посмотрели бы вы на лицо капитана! Я думал, что он тут же уложит его на месте. Он этого не сделал, но сделает, сломает ему гордыню! Или уже я ровно ничего не понимаю в людях на судах дальнего плавания!
Томас Магридж становится все невыносимее. Я принужден называть его «мистер» и «сэр» при каждом слове. Одна из причин его заносчивости та, что Волк Ларсен как будто благоволит к нему. Капитану быть запанибрата с поваром, мне кажется, совсем недопустимо, но именно так и повел себя Волк Ларсен. Два или три раза он просовывал голову в кухню и добродушно зубоскалил с Магриджем, а сегодня днем он проболтал с ним на корме целых пятнадцать минут. Когда разговор кончился и Магридж вернулся в кухню, лицо его сияло как медный грош, и он продолжал работу, напевая уличные песни душераздирающим и фальшивым фальцетом[19].
– Я умею ладить со старшими, – сказал он мне конфиденциальным тоном. – Я знаю, как мне держать себя, чтобы меня ценили. Вот, к примеру, мой последний шкипер… Мне ничего не стоило зайти к нему запросто в каюту для дружеской беседы и выпить с ним стаканчик вина. «Магридж, – говорил он мне, – Магридж, ты упустил свое истинное призвание!» «А какое?» – спрашиваю я. «Ты должен был родиться джентльменом и никогда не работать». Разрази меня гром на этом самом месте, если он не говорил мне этого! И я сидел в его каюте веселый и довольный, курил его сигары и пил его ром.
Эта болтовня доводила меня до сумасшествия. Никогда раньше не слышал я голоса, который был бы мне так противен. Его масляный, вкрадчивый тон, расплывчатая улыбка и безудержное самомнение действовали мне на нервы до такой степени, что меня иногда просто трясло. Положительно, он был самой отталкивающей личностью, какую я когда-либо встречал. Он был неописуемо грязен, и так как он один готовил всю пищу на судне, то мне поневоле приходилось есть с большой осторожностью, выбирая то, к чему он меньше прикасался.
Меня очень беспокоило состояние моих рук, не привыкших к грубой работе. Ногти стали черными, а кожа до такой степени пропиталась грязью, что даже жесткая щетка не могла ее оттереть. Потом появились волдыри, крайне мучительные. На плече у меня был большой ожог: во время качки я упал на кухонную плиту. Не поправлялось и разбитое колено. Опухоль не уменьшалась, и коленная чашка все еще находилась не на месте. Постоянное движение с утра до вечера мешало выздоровлению. Чтобы поправиться, мне нужен был покой, самое главное – покой.
Отдых! Я ранее не понимал значения этого слова. Я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь, если бы я мог спокойно посидеть полчасика, ничего не делая, даже не думая, то это было бы для меня приятнее всего на свете. Но, с другой стороны, моя теперешняя жизнь была для меня откровением. Только теперь я понял, как приходится жить рабочему люду. Мне раньше и не снилось, что работа может быть так ужасна. С половины шестого утра и до десяти часов вечера я был рабом для всех, не имея при этом ни одной минуты для себя, кроме тех редких моментов, которые я уворовывал в конце второй утренней вахты. Но стоило только мне заглядеться на море, сверкающее на солнце, или на матроса, взбирающегося вверх на реи или на бушприт, как уж раздавался ненавистный голос: «Эй, Сутулый, нечего лодырничать, идите сюда!»
Среди охотников, по-видимому, нарастает раздражение, и говорят, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон, кажется, лучший охотник – это медлительный человек, которого трудно раздражить, но, очевидно, все-таки его разозлили, потому что у Смока оказался подбитым глаз, и когда он явился к ужину, то вид у него был злобный и мрачный.
Перед ужином произошел неприятный случай, показавший всю притупленность и грубость этих людей. В команде был один новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, увлеченный, как я предполагаю, духом искания приключений и совершавший свое первое плавание. При слабом, переменчивом ветре шхуна быстро лавировала, причем паруса перекидывались с одной стороны на другую, и нужно было послать матроса наверх что-то там прикрепить. Каким-то образом в то время, как Гаррисон был наверху, парус защемился в блок, по которому ходит снасть. Как мне объяснили, было два способа освободить парус: спустить фок[20], что сравнительно легко и безопасно, или заставить кого-нибудь влезть на конец реи[21], что весьма рискованно.
Иогансен приказал Гаррисону лезть наверх. Ясно было для всех, что парень боится. И трудно не испугаться, если надо повиснуть на тонких раскачивающихся канатах, на восьмидесятифутовой высоте над палубой. Если бы еще был попутный ветер, дело не обстояло бы так плохо, но «Призрак» выдерживал в это время боковую качку, и с каждым его креном паруса с шумом полоскали в воздухе, а снасти то ослаблялись, то вновь натягивались. Они могли столкнуть оттуда человека, как муху. Гаррисон расслышал приказание и понял, что от него требовалось, но колебался. По-видимому, он влезал на снасти первый раз в жизни. Иогансен, который уже успел заразиться от Волка Ларсена властолюбием, разразился потоком брани и проклятий.
– Довольно, Иогансен, – резко сказал Волк Ларсен. – На этом судне ругаюсь я один. Если мне нужна будет помощь, я вас позову.
– Слушаю, сэр, – покорно ответил штурман.
Гаррисон тем временем уже отправился наверх. Я смотрел через кухонную дверь и видел, как он дрожал всем телом, точно в лихорадке. Он продвигался очень медленно и осторожно. Выделяясь на ясном голубом фоне неба, он был похож на огромного паука, который полз по своей паутине.
Надо было карабкаться очень осмотрительно, так как фок был высоко закреплен, а фалы, проходя через различные блоки на гафеле[22] и мачте, давали только отдельные точки опоры для рук и ног. Но главная трудность заключалась в том, что ветер не был ни довольно сильным, ни довольно ровным, чтобы держать паруса вполне надутыми. Когда Гаррисон был уже на полдороге, «Призрак» сильно накренился в одну сторону, а затем в другую, во впадину между волнами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за снасти. Стоя в восьмидесяти футах под ним, я видел мучительное напряжение его мускулов, когда жизнь его висела на ниточке. Парус захлопал, и гафель стремительно повернулся. Фалы, на которых висел Гаррисон, ослабли, и хотя это случилось очень быстро, я все-таки успел заметить, что они осели под тяжестью его тела. Затем гафель с резкой стремительностью качнулся в сторону, огромный парус хлопнул как пушечный выстрел, а три ряда сезней ударились о парус с шумом, подобным треску залпа из ружей. Крепко уцелившись, Гаррисон проделал головокружительный полет. Но ветер внезапно прекратился, и фалы сразу натянулись. Это походило на взмах кнута. Гаррисон был смят. Сначала сорвалась одна рука, за ней последовала, после краткого судорожного цепляния, другая. Его тело было сброшено, но ему все-таки удалось зацепиться ногами. Теперь он висел головой вниз. Сделав усилие, он опять дотянулся руками до фалов, но еще долго возился и извивался, пока вернулся в прежнее положение, скрюченный и жалкий.
– Держу пари, что у него не будет аппетита за ужином, – донесся до моего слуха голос Волка Ларсена, вышедшего из-за угла кухни. – Отойдите, эй вы, Иогансен! Смотрите! С ним начинается!
Гаррисону было действительно дурно, как бывает при морской болезни; и в течение долгого времени он висел на своем сомнительном нашесте без попытки пошевелиться. Тем не менее Иогансен продолжал свирепо понукать его, заставляя выполнить работу.
– Стыд какой! – услышал я ворчанье Джонсона, говорившего, как всегда, медленно, но на правильном английском языке. Он стоял под грот-мачтой, в нескольких шагах от меня. – Ведь малый старается! Он научится, если как следует учить его. А это простое… – Он остановился, потому что с его языка уже готово было сорваться слово «убийство».
– Тсс, с ума сошел! Ради своей матери попридержи язык! – зашептал ему Луис.
Но Джонсон продолжал ворчать.
– Послушайте, – обратился охотник Стэндиш к Волку Ларсену, – он мой гребец, и мне не хочется остаться без него.
– Правильно, Стэндиш, – ответил капитан, – он ваш гребец, пока он у вас на лодке, но он мой матрос, пока он здесь, и, черт возьми, я могу делать с ним все, что хочу.
– Но это не отговорка… – начал было Стэндиш.
– Довольно. Отойдите-ка лучше, – посоветовал Волк Ларсен, – я вам сказал, и кончено дело. Парень мой, и я велю сварить суп из него и съем, если мне захочется.
В глазах у охотника мелькнул сердитый огонь, он повернулся на каблуках и ушел в свое помещение, где и оставался, поглядывая оттуда наверх. Вся команда была теперь на палубе, и все глаза смотрели вверх, где человеческая жизнь боролась со смертью. Тупость и бессердечие этих людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других людей, ужасали меня. Мне, жившему вне житейского водоворота, никогда и на ум не приходило, что могла быть работа такого сорта. Жизнь казалась мне святыней, а здесь она не ценилась ни во что, была цифрой в коммерческих расчетах. Я должен, однако, сказать, что матросы все же проявляли некоторое сострадание, чему примером мог служить Джонсон, но «начальство» (охотники и капитан) было бессердечно равнодушно. Даже протест Стэндиша объяснялся только тем, что ему не хотелось потерять гребца. Если бы на мачте оказался гребец другого охотника, то и Стэндиш, подобно всем остальным, забавлялся бы этим приключением.
Но вернемся к Гаррисону. Прошло не менее десяти минут, пока Иогансен, все время оскорбляя и браня беднягу, не добился, наконец, того, что тот решился двинуться дальше. Он добрался до конца гафеля, где, сев верхом, почувствовал более прочную точку опоры. Он освободил парус и мог теперь, двигаясь по наклонной плоскости, вдоль по фалам, вернуться к мачте. Но у него окончательно ослабели нервы. Несмотря на всю рискованность своего положения, он боялся переменить его на еще более опасное на фалах.
Он взглянул на воздушный путь, который ему предстояло пройти, и потом вниз на палубу. Его глаза были широко открыты от страха. Я никогда раньше не видел на человеческом лице такого выражения страха. Он весь дрожал. Иогансен напрасно кричал ему, чтобы он спускался вниз. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он оцепенел от страха. Волк Ларсен, прогуливаясь по палубе и разговаривая со Смоком, не обращал на него никакого внимания, хотя раз и крикнул резко рулевому:
– Сбиваешься с курса, любезный! Осторожней, а то влетит!
– Есть, сэр! – ответил рулевой, повернув штурвал на две спицы.
Он был повинен в том, что уклонился на два-три градуса от курса, чтобы дать небольшому ветерку натянуть и держать парус в одном положении. Ему хотелось помочь этим несчастному Гаррисону, даже рискуя навлечь на себя гнев Волка Ларсена.
Время шло, и напряженное ожидание стало для меня невыносимым. А Магридж находил все это очень забавным: он высовывал голову из кухни и делал веселые замечания. Ах, как я ненавидел его! Моя ненависть к нему выросла вдесятеро во время этого ужасного происшествия! В первый раз в моей жизни я ощутил в себе потребность убийства, или, как говорят некоторые писатели, любящие живописные выражения, почувствовал «красный туман в глазах».
Жизнь вообще священна, но в частном случае, у Томаса Магриджа, она была оскверненной. Я ужаснулся, сознав в себе «красный туман», и подумал: «Не заразился ли я жестокостью в этой обстановке, я, который даже в самых ужасных судебных делах отрицал необходимость смертной казни?»
Прошло полчаса, и я заметил, что между Джонсоном и Луисом началось какое-то пререкание. Закончилось оно тем, что Джонсон отбросил от себя руку Луиса и двинулся вперед. Он перешел через палубу, ухватился за фок-ванты[23] и начал карабкаться вверх. Но быстрый взгляд Волка Ларсена заметил его.
– Эй ты, куда лезешь? – закричал он.
Джонсон приостановился. Он взглянул прямо в глаза капитану и медленно ответил:
– Я хочу снять оттуда парня.
– Спускайся с вант, и притом живо, черт возьми! Слышишь? Сползай вниз!
Джонсон поколебался, но долгие годы повиновения командирам на судах сломили его волю, он угрюмо соскользнул на палубу и пошел на бак.
В половине шестого я спустился вниз, чтобы накрыть на стол в каюте, но почти ничего не соображал – мои глаза и мозг были отуманены видом бледного, дрожавшего человека, который смешно, точно клоп, цеплялся за раскачивающуюся снасть. В шесть часов, когда я подавал ужин и бегал через палубу за кушаньями в кухню, я все еще видел Гаррисона в одном и том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Казалось, никто не интересовался жизнью человека, по капризу подвергнутого опасности. Немного позже, пробегая по палубе, я с радостью увидел, что Гаррисон, пошатываясь, пробирался от вант к люку на баке. Он, наконец, набрался мужества и спустился вниз.
Чтобы покончить с этим происшествием, я должен привести отрывок из моего разговора с Волком Ларсеном в каюте, когда я мыл тарелки.
– Сегодня у вас был унылый вид, – начал он. – В чем дело?
Я видел, что он знал, почему мне было почти так же скверно, как Гаррисону, и что он просто хотел втянуть меня в разговор.
– На меня подействовало, – ответил я, – бесчеловечное обращение с матросом.
Он усмехнулся.
– Это нечто вроде морской болезни. Одни выносят ее, другие нет.
– Это не то, – возразил я.
– Именно то, – продолжал он. – Земля полна жестокости, как море движения. Одни болеют от первого, другие от второго. В этом вся штука.
– Вы смеетесь над человеческой жизнью… Неужели вы не признаете за ней никакой цены?
– Цены? Какой цены?
Он посмотрел на меня, и хотя его взгляд был неподвижен и упорен, мне почудилась в нем циничная улыбка.
– Какого рода цены? – продолжал он. – Как вы ее определяете? Кто оценивает?
– Я оцениваю, – был мой ответ.
– Так чему же она для вас равняется? Жизнь другого человека, я подразумеваю. Ну-ка, чего она стоит?
Ценность жизни! Как определить ее? Обычно находчивый в разговоре, я с Волком Ларсеном терялся. Впоследствии я решил, что это происходило отчасти от личных свойств этого человека, но больше всего от полного различия наших взглядов. С другими материалистами я находил общее, с ним же никакого общего пункта не было. Может быть, меня сбивала элементарная простота его ума. Он так прямо подходил к сути дела, отбрасывая ненужные подробности и высказывая окончательные суждения, что мне казалось, будто я барахтаюсь в глубокой воде, потеряв почву под ногами.
Ценность жизни! Как мог я сразу ответить на этот вопрос? Жизнь священна – это было для меня аксиомой. Что жизнь имела внутреннюю ценность, было для меня общим местом, которое я никогда не подвергал сомнению. Но когда он потребовал от меня защитить это общее место, я онемел.
– Мы говорили об этом вчера, – сказал он. – Я утверждал, что жизнь – фермент[24], нечто вроде дрожжей, нечто пожирающее другую жизнь, чтобы жить самой. Торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения жизнь – самая дешевая вещь на свете. Количество земли, воздуха, воды ограничено, но жизни, желающей родиться, нет пределов. Природа расточительна. Взгляните на рыб и на мириады их зародышей – икру. Или посмотрите на себя и на меня. В нас лежат возможности миллионов жизней. Если бы мы нашли время и возможность использовать каждую крупицу нерожденной жизни, которая живет в нас, мы могли бы заселить материки и сделаться отцами народов. Жизнь? Ха-ха! В ней нет никакой ценности. Из всех дешевых вещей она – самая дешевая. Она бродит везде с мольбой о рождении. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Там, где место для одной жизни, природа сеет их тысячи, и жизнь пожирает жизнь, пока не останутся самые сильные и самые свинские жизни.
– Вы читали Дарвина, – сказал я. – Но вы неправильно поняли, если сделали вывод, что борьба за существование оправдывает ваше своевольное разрушение жизни.
Он пожал плечами.
– Вы, видимо, разумеете только человеческую жизнь, – сказал он. – Что же касается четвероногих, птиц и рыб, то вы истребляете их так же, как и я или всякий другой. Но человеческая жизнь ничем не отличается от жизни прочих животных, хотя вы в чем-то находите различие и думаете, что можете его доказать. Почему я должен беречь эту дешевую, ничего не стоящую вещь? На свете больше матросов, чем судов для них, и больше рабочих, чем фабрик и машин. Вы, живущие на суше, знаете, что хотя вы и размещаете бедноту на окраинах, обрекая ее на болезни и голод, все-таки остается множество бедняков, умирающих за неимением корки хлеба или куска мяса (то есть чьей-то разрушенной жизни), и вы не знаете, как с ними быть. Видели ли вы когда-нибудь доковых рабочих в Лондоне, как они, точно звери, дерутся из-за работы?
Он направился к трапу, но повернул голову для последнего замечания.
– Единственной оценкой жизни, знаете ли, будет та, которую она сама себе дает. И, конечно, всегда бывает переоценка, так как кто же ценит себя дешево? Возьмем этого человека, которого я послал наверх. Он цеплялся там, как будто он драгоценнейшая вещь, сокровище превыше бриллиантов и рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Еще меньше. Для себя? Да. Но я не согласен с его оценкой. Он чрезмерно преувеличивает свою стоимость. Есть огромный запас жизней, желающих родиться. Если бы он свалился и его мозг разбрызгался по палубе как мед из сотов, то свет не ощутил бы никакой потери. Для мира он не представляет ни малейшей ценности. Он был ценен только самому себе, и насколько обманчива его собственная оценка видно из того, что, потеряв жизнь, он не мог бы осознать, что потерял самого себя. Лишь он один ценил себя превыше бриллиантов и рубинов. Бриллианты и рубины разбрызганы по палубе, и достаточно ведра воды, чтобы смыть их, а он даже и не почувствует, что бриллиантов и рубинов больше нет. Он ничего не теряет, потому что, потеряв себя, он утрачивает понятие о потере. Видите? Что вы можете на это сказать?
– Что вы, по крайней мере, последовательны. – Это было все, что я смог ответить, и продолжал мыть посуду.
16
Хакодате – город и порт в Японии на о. Иессо.
17
Ярд – английская мера длины, равная трем английским футам, равна 0,9144 м.
18
Джонка – китайское судно с широкой и высоко поднятой кормой.
19
Фальцет – высокий голосовой звук особого тембра.
20
Фок – нижний парус на фок-мачте.
21
Рея – горизонтальный брус, укрепленный поперек мачт.
22
Гафель – наклонный брус, упирающийся нижним концом в мачту. Фалы – снасти, поднимающие паруса.
23
Ванты – снасти для бокового укрепления мачт. Фок-ванты – снасти, укрепляющие фок-мачту.
24
Ферменты – ускорители реакций, протекающих в клетках организмов.