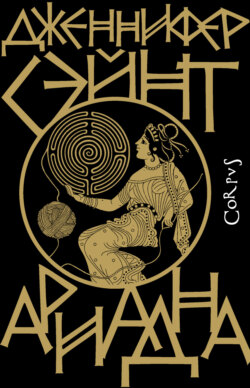Читать книгу Ариадна - Дженнифер Сэйнт - Страница 5
Часть первая
Глава 2
ОглавлениеМне было десять, когда родился мой устрашающий брат, и случилось это вскоре после той истории, рассказанной Эйреной. Я и раньше ухаживала за матерью после родов – когда появились на свет мой брат Девкалион и сестра Федра – и думала, что знаю уже, к чему готовиться. Но с Астерием все вышло иначе. Мать страдала несоизмеримо глубже, страдала всем существом. В ее жилах текла божественная кровь Гелиоса и не давала ей умереть в муках, но от боли не защищала – боли, которую я страшилась и вообразить, но глубокой ночью мои блуждающие мысли невольно возвращались к ней. Царапались копыта и рожки, пробивавшиеся на уродливой голове, покрытой скользкой шерстью, суматошно молотили конечности – я содрогалась, представляя в подробностях, как он прорывался на волю из утробы матери – зыбкого солнечного луча. Отлитый в горниле страдания, он сокрушил нежную Пасифаю, и моя мать, которая и так уже была далеко, а теперь прошла через огонь и муки, больше ко мне не вернулась.
Я думала, что он внушит мне лишь ненависть и страх – этот зверь, само существование которого нарушало все законы. Пробираясь в покои, откуда вышли, пошатываясь, бледные трясущиеся повитухи, я вдыхала солоноватый запах разделанного мяса и еле ноги переставляла – ужас приковывал их к полу.
Но мать сидела, опершись на подоконник, как и с другими своими новорожденными, все у того же окна, облитая уже знакомым мне усталым сиянием. И хоть глаза ее теперь были стеклянны и пусты, а лицо – истерзано, она баюкала ворох покрывал и прижимала к груди, нежно касаясь носом головки младенца. Он засопел, икнул и, открыв черный глаз, пристально посмотрел на меня, осторожно подходившую ближе. Я заметила, что глаз этот окаймляют длинные черные ресницы. У материнской груди трепыхался пухлый кулачок с безупречными розовыми ноготками на всех пяти пальцах. А под покрывалом, у лодыжек, нежно-розовые ножки младенца переходили в твердокаменные копыта, сверху заросшие темной шерстью, но этого я еще не видела.
Младенец этот был чудовищем, а мать – выпотрошенной оболочкой, но я-то оставалась ребенком и потянулась к слабому, затеплившемуся огоньку нежности. Неуверенно приблизилась и молча попросила разрешения – вытянув палец, всмотрелась в материнское лицо: одобрит ли? Мать кивнула.
Я сделала еще шаг. Мать вздохнула, шевельнулась, сменила положение. Тяжелый воздух вяз в горле – не сглотнуть. Круглый черный глаз не отпускал меня по-прежнему, глядел неумолимо.
Не отводя взгляда, я вытянула руку, еще совсем чуть-чуть, и наконец преодолела зиявшую меж нами пропасть. Мой палец коснулся его лба, покрытого скользкой шерстью, пониже того места, где у висков бугрились каменные выступы рогов. Я осторожно погладила мягкую переносицу. Рот его едва заметно приоткрылся и испустил легкий вздох, обдавший теплом мое лицо. Я посмотрела на мать, но взгляд ее, хоть и обращенный к нам, был пуст.
Я снова поглядела на младенца. И он пристально глядел на меня.
Я чуть не подпрыгнула, когда мать заговорила. Скрипучим голосом незнакомки, не своим.
– Астерий, – сказала она. – Это значит: звезда.
Астерий. Далекий свет в бесконечной тьме. А если приблизиться – бушующее пламя. Проводник в бессмертие для моей семьи. Пример божественного отмщения нам всем. Тогда я не знала еще, чем он станет. Но мать держала его на руках, кормила грудью, дала ему имя, и теперь он знал нас обеих. Он не был еще Минотавром. Был просто младенцем. Моим братом.
Федра о нем и слышать не хотела. Затыкала уши, стоило мне начать рассказывать, как быстро он растет, еще родиться не успел, а уже пробует ходить – копыта скользят по полу, нелепая голова, слишком большая и тяжелая, перевешивает, тянет его вперед, он опрокидывается снова и снова, но упрям и не отступается. И уж точно не хотела она знать, чем мы его кормим, ведь Астерий отвернулся от материнской груди, перестал сосать молоко уже через несколько недель, и теперь Пасифая, по-прежнему мрачная и молчаливая, раскладывала перед ним скользкое окровавленное мясо, которое он поглощал с горячей благодарностью, а после терся гладкой головой и об нее, и об меня. Я избавила Федру от этих подробностей.
Девкалион, притворившись, что это диковинное и нелепое существо, появившееся в нашей семье, совсем его не пугает и даже вызывает любопытство, пожелал увидеть Астерия, но хоть и выдвинул челюсть вперед, подражая мужественной повадке отца, и даже проронил несколько прохладных слов, выразив интерес, на самом-то деле трясся от страха, я видела.
А Минос к нему и близко не подходил. Что он думал, я не знала.
Словом, ухаживать за младенцем Пасифае помогала я одна. Не позволяя себе забредать мысленно в будущее и задаваться вопросом: к чему мы его готовим? Я надеялась – и Пасифая, скорее всего, тоже – взлелеять в нем человека. Хотя она-то, может, так далеко и не заглядывала, а просто поступала, как велит матери природа, – не знаю. Я твердо решила сосредоточиться на насущных делах: как научить его ходить на двух ногах, вести себя прилично за едой, спокойно отзываться на чужие слова и прикосновения. Для чего? Не знаю, о чем я думала. Представляла, что удастся воспитать его хотя бы отчасти и он будет, появляясь при дворе, принужденно расшаркиваться и, склоняя огромную бычью голову, учтиво приветствовать собравшуюся знать? Всеми уважаемый и чтимый критский царевич? Не так я была глупа, чтобы об этом мечтать. Может, я вообразила, что наши старания впечатлят Посейдона и он, восхитившись собственным божественным творением, потребует его себе.
И может, так оно и случилось. Вот только я не учла, что боги ценят на самом деле. Не нужен был Посейдону неуклюжий человекобык, шатающийся под достойной людской личиной. Свирепая дикость, звериный рык, острые зубы и страх – вот что нравилось богам. Страх, всегда страх, его обнаженное лезвие за дымом, курящимся над алтарями, его резкие нотки в невнятных молитвах и хвалах, которые мы посылаем небесам, его насыщенный, первобытный вкус, когда мы заносим нож над жертвой.
Наш страх. Через него боги обретали величие. И мой брат к концу первого года жизни быстро превращался в воплощение ужаса. Рабы не приближались к его жилищу даже под угрозой смерти. Он так пронзительно визжал, когда приносили еду, что по спине моей скребла ледяными когтями жуть. И стыли внутренности от рыка, который он издавал, увидев куски сырого окровавленного мяса, уже ему не нужные. Теперь Пасифая, отрешенная и бестрепетная, подходила и, не дрогнув, бросала сыну крыс, хоть те извивались и пищали в ее твердой руке. А тот с наслаждением наблюдал, как крысы эти, обезумев от страха, мечутся и бегают кругами по стойлу, где мы теперь его держали, скрывался в тени, готовясь наброситься и разорвать на части живое тельце, попавшееся к нему в логово.
Он вырос гораздо быстрее человеческого детеныша, и, когда охотился на своих крыс, я замечала, как по туловищу его перекатываются мускулы. Бедра его розовели, поблескивая под темной шерстью, грудь вылепилась, как у мраморных статуй, украшавших внутренний двор царского дворца, мускулы на плечах поигрывали, крепкие кулаки сжимались, и все это венчала тяжелая косматая голова с рогами и измазанная кровью морда.
Я боялась его, ведь лишь глупец не боялся бы. Или безумец вроде Пасифаи. Но не только ужас внушал он мне. Я, конечно, с омерзением, гадливостью наблюдала, как он фыркает, пыхтит и бьет копытом, предвкушая корчившееся от ужаса угощение, но в глубине саднила жалость, такая мучительная, что у меня порой дыхание перехватывало и слезы наворачивались от неизъяснимой боли, когда он визжал, требуя новой крови, зрелища новых страданий. Он не виноват, не по своей воле стал таким, думала я с яростью и жалела несчастное, безумное существо с бычьими мозгами, втиснутыми кое-как в не то тело. Так жестоко и унизительно пошутил Посейдон, вознамерившись опозорить человека, который и взглянуть не соизволил на это создание. Астерий не должен был появиться на свет, но появился, и заботиться о его благополучии выпало нам с Пасифаей. И хоть ужас мой становился все сильней, он так неразрывно свивался с жалостью – а в глубине шевелился, медленно закипая, гнев, – что я не решалась покончить со всем этим, пока могла. Размозжить его тупую голову камнем, когда он ест, воткнуть копье в бок, в беззащитную человеческую плоть даже у девчонки вроде меня наверняка хватило бы сил, пока он еще не вырос. Но я не могла заставить себя, а когда со временем вполне осознала, кто он такой и как его задумал использовать Минос, осознавший это тоже, мне с Астерием было уже не справиться.
Астерий рос, сдерживать его становилось все трудней. Месяц шел за месяцем, и теперь лишь Пасифая осмеливалась заходить в конюшни, двери которых укрепили тяжелыми железными засовами. Я оставалась снаружи и беспокойно слонялась вокруг, не зная, куда деваться. С тех пор как он родился, я больше не танцевала. В яме нутра шевелился клубок тревоги, и я, хоть двигалась беспрестанно, не могла отыскать внутри себя свободного места. Я ждала и уверяла себя, что и не понимаю, чего жду. А на самом-то деле понимала.
Уверена, что Эйрена и близко бы не подошла к тем конюшням по собственной воле. Об Астерии она со мной не говорила, а с тех пор, как я стала ближайшей помощницей матери в заботах о проклятом звере, и вовсе говорила со мной мало. Расчесывала мне волосы, застегивала одежду, но историй больше не рассказывала. Я никогда не узнаю, что заставило ее возвращаться в свою комнату именно этой дорогой в тот вечер – тот самый, когда он, нагнув голову, бросился на запертые двери, как делал уже много раз, но прежде доски не поддавались. Он таранил их устрашающими рогами, и все скорей спешили мимо, съежившись от страха, однако мы думали, что Астерий заперт надежно. Я запрещала себе представлять, как он все же выломал двери и как бежала от него Эйрена, хоть и была обречена. С застывшим лицом и застрявшими в горле слезами я подбирала лоскутья одежды, порхавшие по двору в порыве беспокойного ветра, который поднялся, когда мы подошли к разломанным дверям конюшни, уже поспешно загороженным конюхами – именно им не посчастливилось в то раннее осеннее утро застать картину кровавой расправы.
Федра уткнулась в мой подол, я погладила ее по голове и пробормотала, еле шевеля онемевшими губами:
– Не смотри.
Помню, какой злостью полыхали глаза, в которые мы посмотрели обернувшись, – глаза собравшихся слуг, ставших свидетелями произошедшего. Помню, как перед лицом молчаливых обвинителей, стоявших полукругом, неподвижность сковала меня, а за спиной раздавалось однообразное – бум, бум, бум! – это рога моего кровожадного брата бились о железные листы, еле державшие двери.
Сколько длилась эта вечность, не знаю, но внезапно оглушительную тишину нарушило появление Миноса. Шелестя шелковыми одеждами, он прошествовал сквозь толпу собравшихся, и те подались в стороны, как стайка рыб перед акулой, а за его спиной бросились врассыпную.
Мать рядом со мной вся сжалась.
Однако удара не последовало, как и резких слов или нотаций. Отважившись быстро глянуть вверх, я увидела, что лицо отца безмятежно и тучи на горизонте не сгущаются. А когда подхваченный прохладным ветерком клочок одежды закружил у его ног, на губах Миноса заиграла улыбка, стала расползаться по лицу.
– Жена! – воскликнул он.
И я почувствовала, как содрогнулась мать, хоть глаза ее и оставались пустыми стеклами.
Он размашисто повел рукой, заговорил восторженно и ласково.
– День за днем я слышу рассказы о том, как силен наш сын, как растет его сила. Он прекрасная особь, хоть и молод еще, и молва о мощи его расходится далеко, повсюду вселяя в сердца трепет и благоговение.
Он покивал одобрительно, рассматривая окровавленные лоскутки ткани и прислушиваясь к глухим ударам – бум! бум! бум! – раздававшимся снова и снова.
Наш сын? Я удивилась, не понимая еще, о чем он говорит. Но до меня постепенно доходило, хоть и трудно было в это поверить, что суровые черты отцовского лица оживляет гордость. Минос гордился чудовищем, выращенным нами в недрах дворца, ведь чудовище это его прославило. Вместо того чтобы сделать рогатого Миноса предметом насмешек, Посейдон вручил ему грозное оружие – зверя, посланного свыше, который, и отец осознал это, лишь укрепит его положение.
– Нужно дать ему имя, – заявил Минос, но я не открыла рот, не сказала “Астерий”, ведь отцу, конечно, было все равно, как мы с Пасифаей звали моего брата.
Минос подошел к дверям, и от звука его близких шагов удары – бум! бум! бум! – усилились: брата переполняло возбуждение. Отец приложил ладонь к деревянной створке, и когда та запрыгала под его ладонью, едва выдерживая натиск хищной силы, улыбнулся только шире.
– Минотавр, – сказал отец, заявив свои права на моего брата. – Вот подходящее имя для зверя.
Так Астерий превратился в Минотавра. Он не был больше принадлежностью моей матери, средоточием разнообразных чувств – стыда, перемешанного с любовью и отчаянием, а стал свидетельством превосходства отца перед всем миром. Я поняла, почему Минос провозгласил брата Минотавром: заклеймив посланное богами чудовище своим именем, отец признал его рождение и сам стал легендарным вместе с ним. Понимая, что ни в одной конюшне на свете Минотавра уже не запрешь, Минос вынудил Дедала создать самое грандиозное и впечатляющее его творение. Огромный лабиринт в подземельях дворца – такой только в кошмарном сне и увидишь: извилистые проходы, тупики, петлистые ответвления вели неминуемо, все до одного, к мрачной сердцевине. Логову Минотавра.
После того как дитя Пасифаи заточили в зловонной тьме запутанных подземных ходов, где на рев его откликалось лишь одинокое эхо да гремели под копытами истлевающие кости, я вновь начала замечать на ее лице проблески каких-то чувств. Раньше она сияла от радости, любви и веселья, а теперь помрачнела от горечи и затаенного, тлеющего гнева. Некогда излучавшая золотой свет, дочь солнца потускнела – проступавшая наружу угрюмая обида замарала ее.
Я лишилась матери в тот день, когда проклятие Посейдона загнало Пасифаю на пастбище, где поджидал священный зверь, но все еще искала ее, хоть и знала, что поиски эти бесплодны. Раз за разом встречая отпор, я вновь, беспомощно и безнадежно, стремилась в покои матери, чтобы попытаться вывести ее опять на белый свет. Чаще всего двери были замкнуты и Пасифая, хоть находилась совсем рядом, никак не откликалась на мой зов.
Но однажды я пришла и хотела уже приналечь – как всегда, безуспешно – на запертую дверь, а она вдруг подалась, распахнулась беззвучно и плавно – так открывались все двери работы Дедала.
Мать не заградила вход в свое убежище и не слышала, как я зашла. В комнате царил полумрак; куски плотной ткани, кое-как развешанные на окнах, не давали проникнуть сюда золотистому, теплому свету дня. От едкого запаха трав заслезились глаза. Я растерянно огляделась, силясь рассмотреть Пасифаю в темноте.
Безмолвная и неподвижная, она сидела на полу, прямо посреди просторной комнаты. В статуях Дедала было больше жизни, чем в ней. За прядями волос, упавших Пасифае на лицо, я видела ее глаза – вернее, белки глаз.
– Мама? – шепнула я.
Она не показала, что слышит меня. В комнате было нечем дышать, и я попятилась, нащупывая дверь. Необъяснимый ужас стал разрастаться в моей груди в этом замкнутом пространстве, я не могла понять, почему происходящее до того мне не нравится, что дрожь пробирает даже в духоте знойного дня. Понимала только одно: надо выбраться отсюда, вернуться на свежий воздух, где пахнет лавандой и пчелы гудят вокруг танцевальной площадки, где все обыкновенно, невинно и приятно.
Отпрянув, я успела, однако, заметить фигурку, распластанную на полу перед матерью. Не поняла, восковая она или глиняная. Не поняла даже, человеческая ли – так перекручены и изломаны были ее конечности. Вялая рука матери застыла над фигуркой, на ее бледном запястье висело незнакомое украшение – обломок кости, кажется, – раньше она такого не носила.
Ужасов с меня хватало – наелась досыта после рождения брата. И ни минуты не хотела здесь задерживаться. Может, это просто кукла, просто браслет и ничего больше. Оставаться и выяснять я не стала. Развернулась, выбежала прочь и никогда ничего у матери не спрашивала. Старалась даже не вспоминать об этом, но не властна была над чужими мыслями и языками.
По Кноссу, вздуваясь и нарастая, ходили волнами слухи. Обрывки сплетен доносились до меня со всех сторон. Богиня-колдунья замыслила отомстить мужу – так говорили друг другу прачки, топча грязное белье у реки, торговцы, встречаясь на рынках, служанки, хихикая по дворцовым покоям, аристократы, попивая вино из огромных бронзовых чаш, – и хохот их раскатывался по парадному залу нашего же дворца. Они давились смехом, слушая рассказы о том, как девушек, которых Минос укладывал в свою постель, вдруг, в самый миг его наслаждения, пронзала сильнейшая боль, будто их жгло и жалило изнутри, они кричали и в конце концов умирали в муках, а когда Минос обратился за советом к лекарю и тот вскрыл одну из них, наружу поползли скорпионы. Это Пасифая наложила проклятье, уверяли они, а что царица на такое способна, никто не сомневался. Всюду звучало одно и то же, не было никакого спасения от змеиного шипа, стелившегося по воздуху: она сама хотела – и быка, и чудовище, визжала от удовольствия, спору нет, а этот ублюдок, которого она принесла, такой же урод, как матушка.
Ужасные слова обтекали нас густым, липким маслом. Мерзкая скверна пристала к нашей семье, легла на гладкий мрамор и позолоту, испачкала роскошные гобелены на стенах, от нее кисли сливки, горчил мед, все гнило, отравляло, портилось. Девкалиона, которому повезло родиться мужчиной, отправили в Ликию, где ему предстояло возмужать, имея перед собой не такой жестокий пример: дядя Сарпедон, царствовавший там, был подобрей своего брата Миноса. А мы с Федрой остались – таков удел дочерей. И Дедал, если хотел от всех нас сбежать, утратил такую возможность. Минос заключил его в башне вместе с Икаром и выходить разрешал только под надзором стражников – не мог допустить, чтобы слухи о тайнах Лабиринта просачивались за пределы Крита, способствуя, может быть, укреплению других царств.
Критяне презирали нас. Заискивали перед нами, наперебой добиваясь благосклонности, а наедине рассказывали друг другу о наших извращенных, противоестественных повадках. Они кланялись Миносу при дворе, но, склоняя перед ним голову в знак покорности, насмешливо поглядывали исподлобья. Я их не осуждала. Они знали, куда теперь бросают критских узников и какое наказание за любой проступок ждет их в жутком лабиринте, вырубленном в скале, на которой блистал кносский дворец. Не сомневаюсь, Минос чувствовал этот гнев, смешанный с досадой и презрением, но наслаждался страхом критян, державшим их в узде. Злые слова не впивались в отца градом кинжалов. Напротив, он облачился в чужую ненависть, будто в сияющую броню.
А я танцевала. Выплетала сложный узор на большом деревянном кругу, обвитая красными лентами. Мои босые ноги выстукивали на гладких досках безумный, яростный ритм, а длинные красные полосы перевивались, рассекая воздух, устремляясь вниз и колеблясь вместе со мной. Я двигалась быстрей, еще быстрей, и мой собственный топот все громче звучал в голове, начисто заглушая жестокий смех, повсюду звеневший за спиной. Заглушая даже гортанный рев моего братца и громкие мольбы несчастных, которых затолкали в тяжелые двери на железных засовах под каменной притолокой с высеченным на ней лабрисом. Я танцевала, и вместо тихо закипавшей злобы во мне уже бурлил гнев, гнал меня вперед еще быстрей, еще неистовей, и в конце концов, безнадежно запутавшись в алом мотке, я падала чуть дыша прямо посреди площадки и ждала, пока густой туман, застилавший глаза и мысли, рассеется.
Время шло. Мой старший брат Андрогей, много лет оттачивавший атлетическое мастерство вдали от дома, навестил нас. Ужаснулся, конечно, увидев, что творится в Кноссе, и поспешил уехать снова – на Панафинеи, где завоевал все награды, за что и удостоился смерти в пустынных афинских холмах – его пронзил рогами дикий бык. Мой отец не горевал по-настоящему, но, снарядив флот, отправился воевать – и учинил разгром, оставив после себя отчаяние, скорбь и груды трупов и не забыв, что среди них лежало тело девушки, которая его полюбила, а он ее утопил.
Отец принес критянам радостную весть: больше провинившихся не будут приносить в жертву прожорливому Минотавру, ведь Минос подчинил Афины и принудил их отдавать нам по четырнадцать детей каждый год – в уплату за жизнь моего старшего брата и на прокорм младшему.
Я отказывалась думать о семерых юношах и семерых девушках, которых привозили связанными из-за моря на кораблях под черными парусами. Отказывалась воображать ужасы Лабиринта, сырой, затхлый дух смерти и безысходности, треск разрываемой зубами плоти. Одна жатва минула, за ней другая. Я обращала лицо к сумеречному небосводу и высматривала созвездия, врезанные богами в его огромный купол, – фигуры смертных, ставших для этих богов игрушками, выхваченные из тьмы красивыми огоньками.
Я отказывалась думать. Вместо этого танцевала.