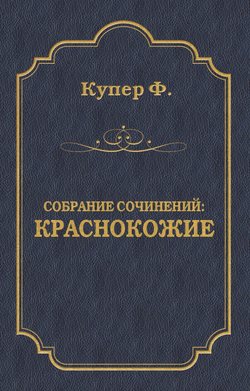Читать книгу Краснокожие - Джеймс Фенимор Купер, James Cooper, James Cooper A. - Страница 4
Глава III
ОглавлениеО, когда увижу я землю, где я родился? Прекраснейшее место на поверхности земли! Когда я пройду по этому театру любви, по нашим лесам, холмам, сквозь деревни и горы, с девушкой, гордостью наших гор, которую я обожаю.
Монгомери
Поистине, для каждого американца, прожившего долгое время вдали от своей родины, узнать о том, что там, в его родной стране, разыгрываются явления и сцены, достойные истории средних веков, было, конечно, немаловажной новостью! И это та самая страна, которая гордилась не только тем, что служит убежищем для всех обиженных и угнетенных, но и тем, что свято охраняет права каждого человека! Все то, что мне теперь пришлось узнать, огорчало меня до крайности. За все время моих скитаний по чужим краям я привык думать, что Америка – страна самой справедливости и передовой, образцовой внутренней политики, и теперь мне жаль было утратить эту иллюзию.
Между тем дядя и я безотлагательно решили вернуться на родину; это решение, кроме того, настоятельно предписывала нам и осторожность. Мне исполнилось недавно двадцать пять лет, тот возраст, когда я мог вступить в бесконтрольное управление и пользование всем своим состоянием. В письмах, полученных моим бывшим опекуном, а также и в некоторых газетах, упоминалось о том, что некоторые из арендаторов поместья Равенснест также примкнули к союзу антирентистов, делали взносы на содержание инджиенсов и становились настолько же опасными и ненадежными людьми, как многие другие в отношении всякого рода насилия, разрушения и уничтожения, хотя и продолжали еще покуда платить ренту за мои земли.
Согласно нашему решению мы тотчас же приняли все необходимые для того меры, чтобы могли выехать как можно скорее из Парижа, с тем, чтобы в последних числах мая быть уже у себя на месте.
– Стоит только подумать, – говорил дядя между разного рода распоряжениями и указаниями Анри и другим служащим, – стоит только подумать, до каких абсурдов могут доходить люди, когда они начинают в чем-либо пересаливать, будь то в политике, в религии или же даже просто в моде! Так, например, существуют журналы «свободного обмена», которые считают за великий грех прогресс в понятиях и взглядах препятствовать землевладельцу и арендатору заключать между собою те условия, какие для них более всего удобны и приятны, и возмущаются как чем-то чудовищным установлением таксы для извозчиков, чтобы оправдать принцип свободы и свободной торговли; по их мнению, несравненно лучше, чтоб нанимающий извозчика так же, как и извозчик, стояли и мокли под дождем, торгуясь относительно цены. Нет, положительно я не могу понять, как могут люди мириться с своею собственной непоследовательностью! Да, кстати о непоследовательности! Я хотел сказать, что тебе следовало бы расстаться с одним странным украшением над твоим местом в церкви.
– Я не совсем вас понимаю, дядя!
– Да разве ты забыл, что над вашим фамильным местом в церкви святого Андрея, в Равенснесте, красуется род деревянного резного балдахина?
– Ах, да, теперь я вспоминаю; действительно, это весьма безобразное украшение; я всегда находил этот навес не только вычурным и ни к чему не нужным, но и лишенным всякого вкуса и смысла.
– По словам мистера Деннинга, в числе других сетований и претензий против тебя одной из причин является и твое место в церкви, украшенное в знак отличия от мест остальных прихожан этим громоздким балдахином. Конечно, если бы эта скамья, украшенная этим же балдахином, принадлежала, например, семье Ньюкем, никто не вздумал бы обращать на нее внимание, а в данном случае он порождает зависть – его считают атрибутом и проявлением твоей кичливости.
– Да ведь не я же его там поставил, мне даже в голову не приходило, что это знак отличия, я принимал его просто за украшение самого здания церкви!
– Но все же надеюсь, что и ты того мнения, Хегс, что в церкви и на кладбище не должно быть никаких светских отличий, так как и перед Богом, и перед смертью все люди равны. Я вообще всегда был против этого и возмущался всякого рода привилегиями в собрании верующих и среди прихожан одной и той же общины.
– Без всякого сомнения, дядя, я согласен с вами и отнюдь не прочь убрать этот старинный балдахин, но, тем не менее, я не могу понять, какое может быть соотношение между этим старым и безобразным украшением и вопросом ренты и нашими законными правами?
– Все дело в том, что когда причины безосновательны, то неизбежно приходится нагромождать аргументы всякого рода с исключительной целью сбить с толку логику. Но довольно об этом! Нам предстоит еще заниматься этим вопросом гораздо более, чем бы мы того желали. Ты знаешь, что в числе множества полученных мною писем есть также по письму от каждой из моих воспитанниц.
– А, это действительно отрадная для меня новость! – шутливо воскликнул я.
– Обе они, благодарение Богу, здоровы и пишут очень мило; право, мне хочется похвастать тебе письмом Генриетты, которое поистине делает ей честь. Я сейчас принесу его тебе сюда; оно осталось в моей комнате на столе. – И с этими словами дядя направился в свой кабинет.
Теперь мне следует посвятить читателя в один секрет, имеющий некоторую связь с последующим. Перед моим отъездом из Америки мне очень настоятельно советовали помолвиться с одной из трех девиц, а именно: Генриеттой Кольдбрук, или Анной Марстон, или же Оппортюнити Ньюкем.
Мисс Генриетта Кольдбрук была дочь гордого, надменного англичанина, хорошей семьи, человека богатого, переселившегося вследствие каких-то политических веяний в Америку, которую он считал землей обетованной для всяких спекуляций. На самом же деле он сильно подорвал свои капиталы этими спекуляциями и, вероятно, разорился бы вконец, если бы только не умер вовремя.
Единственная дочь его наследовала, однако, после его смерти прекрасное поместье, которое, под добросовестной опекой и в руках деятельного опекуна, моего дяди Ро, стало давать не менее восьми тысяч долларов годового дохода. Это значительное состояние делало Генриетту Кольдбрук весьма желанной невестой для большинства молодых людей. Из писем бабушки моей мне стало известно, что вследствие кое-каких деликатных намеков со стороны моего дяди в душе этой молодой девушки зародилось ко мне какое-то еще смутное чувство, которое я всецело приписал простому любопытству.
Мисс Анна Марстон была также не бедная наследница, но, конечно, не могла соперничать в этом отношении с мисс Кольдбрук; у нее было не более трех тысяч долларов ежегодного дохода и маленький, скопленный ею из процентов капитал. Два ее брата были кутилы и без толку мотали отцовское наследство, но мисс Анна была воспитана своей разумной матерью в прекрасных строгих правилах, и все отзывались о ней, как о девушке красивой, умной, скромной и во всех отношениях прекрасной.
Мисс Оппортюнити Ньюкем слыла красавицей Равенснеста, селения, расположенного на моей земле. Это была так называемая сельская красавица, с сельским образованием и воспитанием и сельскими манерами. Оппортюнити была дочь Овида, а Овид был сын Язона Ньюкема. Все они от отца к сыну наследовали небольшой домишко, построенный дедом теперешнего его владельца на моей земле, арендованной ими на долгий срок. Это жилище вот уже восемьдесят лет носило название дома Ньюкем, а его владельцы в течение всего этого времени арендовали у моих предков мельницу, шинок и ферму, ближайшую к селению Равенснест. При этом я прошу заметить, что семья Литтлпедж владела Равенснестом и всеми прилегавшими к нему землями гораздо ранее, чем на одном из их участков поселилась семья Ньюкем. Я преднамеренно о том напоминаю читателю, так как в очень непродолжительном времени он будет иметь случай убедиться в том, что некоторые люди были весьма склонны забыть об этом.
У Оппортюнити был брат по имени Сенека, или Сенеки, как сам он выговаривал свое имя. Так как семья Ньюкем в течение трех поколений была близка нашей семье и так как молодой Сенека выбился в адвокаты и мог считаться до известной степени человеком с некоторым образованием, то мне иногда случалось бывать в обществе брата и сестры Ньюкем. Оппортюнити выказывала чрезвычайную привязанность к моей бабушке и моей, тогда еще маленькой сестренке, и, по-видимому, очень охотно бывала в «Nest», как в обыденном разговоре принято было называть наш дом в поместье Равенснест, от которого и само селение получило свое имя; мне нередко приходилось испытывать на себе чары мисс Оппортюнити, причем я принужден сознаться, что она никогда не упускала случая испробовать на мне свое искусство.
Но возвратимся к дяде и к письму мисс Генриетты.
– Вот оно! – весело воскликнул мой опекун, выходя с письмом в руке в нашу столовую, где я его все время ожидал. – Прелестное письмо, честное слово! Как бы охотно я прочел тебе его все целиком, но обе мои барышни заставили меня перед отъездом обещать им, что я не покажу их писем никому, то есть тебе. Но тем не менее я того мнения, что переписка этих молодых девушек стоит того, чтобы поинтересоваться ею, и мне кажется, что я сумею прочесть тебе небольшой отрывок из этого письма.
– Мне кажется, что лучше было бы этого не делать; ведь это, так сказать, измена, и я не желал бы быть в этом деле соучастником; если мисс Кольдбрук не желает, чтобы я читал ее письма, то она, вероятно, не пожелала бы, чтобы и вы их мне читали.
Дядя взглянул на меня при этом несколько укоризненно. Между тем, он все еще продолжал держать в руках развернутое письмо, пробегая глазами некоторые строки, то улыбаясь, то посмеиваясь себе под нос, то восклицая: «Как это остроумно!» «Как прелестно!» «Какая, в самом деле, милая девушка!» – как бы желая возбудить мое любопытство; но я по-прежнему оставался совершенно безучастен, и потому дяде пришлось волей-неволей умерить свой энтузиазм и отложить в сторону это письмо.
– Да, – сказал он по некотором размышлении, не лишенном известной доли недоумения, как я заметил, – я уверен, что эти барышни будут очень обрадованы нашим возвращением; в последнем письме я извещаю матушку о том, что мы вернемся осенью, приблизительно в октябре, ну а теперь окажется, что мы уже будем дома в начале июня.
– Я уверен, что сестра моя Патт будет в восторге; что же касается других девиц, то полагаю, что у них найдется такое множество знакомых и друзей, которые их теперь интересуют, что им навряд ли есть время думать о нас.
– Ты к ним несправедлив, Хегс; из их писем я вижу, что они относятся к обоим нам с живейшим интересом.
– Понятно! – воскликнул я. – Какая молодая девушка в наше время ожидает без некоторых радостных надежд возвращения пожилого и богатого друга?! – не без иронии уронил я.
Мой дядя возмутился.
– Ну, в таком случае ты, право, не стоишь ни одной из них!
– Благодарю вас, дядя!
– Твои слова не только глупы, но и дерзки, мой милый; кроме того, я думаю, что ни одна из двух тебя в мужья не пожелает, даже и в том случае, если бы ты вздумал завтра же предложить им себя в мужья.
– Я рад этому верить; в их же интересах, мне кажется, что было бы более чем странно, если бы они приняли предложение человека, которого они почти не знают, не видев с тех пор, как ему минуло пятнадцать лет.
Мой дядя рассмеялся, хотя и было видно, что он всем этим разговором сильно огорчен; так как я старика любил сердечно, то поспешил переменить тему разговора и весело стал обсуждать наш близкий отъезд.
– А знаешь, Хегс, какая у меня явилась мысль? – вдруг неожиданно воскликнул дядя; он в некоторых вещах имел нечто такое почти юношеское, что объясняется, быть может, тем, что он свою жизнь прожил беззаботным холостяком. – Мне вздумалось записаться на пароход под чужим именем, а людей наших мы можем отправить через Ливерпуль, не правда ли, это будет забавно?!
– Да, даже очень, – отозвался я, – так пусть же это будет дело решенное.
Два дня спустя наша прислуга, то есть дядин Джекоб и мой Губерт, отправились в Англию, а мы направились прямо в Гавр. У меня с дядей было большое фамильное сходство, и потому нас принимали без труда за сына с отцом, мистера Давидсона старшего и мистера Давидсона младшего из Мэриленда. В пути не произошло решительно ничего такого, о чем бы стоило упоминать, разве что только, перечитывая еще раз свои газеты и письма, дядя пришел к печальному заключению, что антирентическое движение приняло там, у нас на родине, гораздо более серьезные размеры, чем он предполагал вначале. Один из пассажиров, недавно побывавший в Нью-Йорке, сообщил нам, что землевладельцам положительно не безопасно появляться на своей территории, так как всякого рода оскорбления, насмешки, издевательства, личные обиды и даже смерть могли быть следствием подобной смелости со стороны землевладельца. Вне всякого сомнения, дело близится к серьезному и, может быть, кровавому кризису.
Обсудив надлежащим манером эти подробности, мы с дядей решили устроиться таким образом, чтобы согласовать наши материальные расчеты с требуемой данными условиями осторожностью.
Я поясню далее в нескольких словах, в чем именно состоял наш план: дело в том, что нам необходимо было лично побывать в Равенснесте, хотя это, конечно, могло быть опасно для нас, тем более, что сама усадьба наша находилась в самом центре поместья и добраться туда было в данный момент, при столь недоброжелательном настроении наших арендаторов, во всяком случае весьма рискованно.
Но обстоятельства благоприятствовали нам отчасти: нас ожидали не ранее осени, благодаря чему мы могли, быть может, незаметно добраться до нашего родового гнезда.
Путешествие наше с одного континента на другой продолжалось всего девять суток. В конце мая мы увидели однажды под вечер точно выплывшие из моря маяки, и вслед за ними весь красивый берег Нью-Джерси стал выплывать из-за тумана. Но вот навстречу судну выехали лоцманы, и дядя мой тотчас же договорился с одним из них, чтобы он нас немедленно доставил в город. В момент, когда мы сходили на берег, городские часы в Нью-Йорке били восемь. У каждого из нас было по собственному дому в городе, но нам не хотелось останавливаться там, прежде всего потому, что они оба были в настоящее время пусты, за исключением одного или двух слуг, которые, конечно, не приминули бы узнать нас, а этого-то нам и хотелось избежать.
Джек Деннинг, который, в сущности, был скорее нашим другом, чем поверенным, имел на Чембер-стрит небольшую холостую квартиру, а это было именно то, что нам требовалось, и потому мы с дядей направились прямо туда, избегая более шумных и людных улиц из опасения быть встреченными и узнанными кем-либо из своих знакомых.