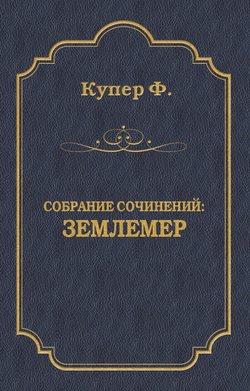Читать книгу Землемер - Джеймс Фенимор Купер, James Cooper, James Cooper A. - Страница 3
Глава II
ОглавлениеЭто благородный плут, сударь, который всякий раз, когда я бываю озабочен или грустен, умеет своими шутками воссоздать меня.
Шекспир
Из предыдущей главы видно, что если я и приобрел какие-нибудь сведения, то, конечно, этому не был обязан последовательному, методическому изучению предметов. Нет сомнения, что образование сильно пострадало во время революции в последующие двадцать лет. Пока мы были колонистами, к нам приезжали хорошие европейские учителя, но с началом волнений приезды эти в основном прекратились и возобновились спустя продолжительное время, после подписания мира.
Отношения, которые я имел с армией, часто отвлекали меня от родительского дома, несмотря на все искушения, бывшие в нем. Не говоря уже о матушке и бабушке, обожавших меня, не говоря о тетушке Мэри, которую я любил почти так же, как матушку и бабушку; у меня были две сестры, одна из них была старше меня, а другая младше. Старшая сестра, которую звали, как и матушку, Аннеке, была на шесть лет старше меня, она вышла замуж за богатого владельца, господина Китлтаса, и жила очень счастливо. У них было несколько детей; они постоянно жили в Детчессе, и поэтому матушка переехала туда на время. Я чувствовал к Аннеке такое расположение, как брат к сестре, гораздо старше его, доброй, внимательной и преданной ему; но маленькая Кэтрин, или Кэт, – была моя любимица. Кэт была на четыре года моложе меня. Мне исполнилось двадцать два года в то время, когда распустили армию, следовательно, Кэт исполнилось в то время восемнадцать лет. Она была очень резвая, когда я расстался с ней в 1781 году, отправляясь в полк в чине прапорщика, она была свежа и прекрасна. Я помню, как часто мы с Эндрю разговаривали целыми часами о наших любимицах: он – о своей племяннице, я – о младшей своей сестренке. Тогда я думал остаться навсегда холостым, поселиться вместе с сестрой, которая была бы моим другом, распоряжалась бы хозяйством, видя во мне своего защитника и руководителя. Великим счастьем в жизни для всех нас были мир и независимость; достигнув их, никто из нас в полку не сомневался в будущем.
Смешно было видеть, с каким жаром, с какой наивной простотой старик землемер мечтал об этих детских планах. Племянница его была сирота. После смерти матери своей, сестры землемера, у нее никого не осталось из родных, кроме дяди. Правда, племянницу приютила подруга ее матери, которая любила ее и дала ей образование гораздо лучшее, чем она могла получить у своего дядюшки, но эта добрая женщина умерла в 1783 году, и поэтому Эндрю вынужден был серьезно подумать о судьбе своей племянницы.
Старик землемер из-за гордости и из-за любви к ней ни за что не соглашался, чтобы она жила трудом своих рук.
– Что бы стал делать этот ребенок? – сказал однажды мне Эндрю. – Носить цепь она не может, хотя и довольно умная, для того, чтобы измерить землю. Если бы вы знали все, что писала мне благодетельница моей племянницы о знаниях своей воспитанницы! Это просто гений. Пишет она в совершенстве. Знаете ли, мне нужно по крайней мере неделю, чтобы прочесть одно из ее писем.
– Неделю? Но если она пишет очень хорошо, то мне кажется, что этим она должна облегчить ваше чтение.
– Напротив. Когда сам в письме бродишь, как курица, то всегда растеряешься, читая прекрасно написанное письмо.
– Так не думаете ли вы сделать из нее землемера? – спросил я шутя.
– Бедный ребенок слишком нежен, чтобы ходить по лесам, а если бы дело касалось только подсчетов, уверяю вас, она заткнула бы за пояс любого математика в провинции.
– Мы не называем теперь Нью-Йорк провинцией, капитан Эндрю, потрудитесь вспомнить.
– Ах да, правда! Тысячу раз извиняюсь перед Нью-Йорком! Как только совсем затихнет война, посмотрите, как все бросятся на земли; тогда занятие землемера будет просто чудом. Знаете ли, мой любезный, поговаривают, что всем офицерам и солдатам дадут по участку земли. Дай-то бог! Тогда я снова сделаюсь помещиком, как был им при появлении на этот свет. Конечно, для вас, наследника многих тысяч долларов, ничего не значат несколько сотен, но что касается меня – признаюсь, что эта мысль меня восхищает.
– Так вы опять хотите предаться занятиям земледельца?
– Нет. Земледелие и я, мы вечно были в разладе. Но если я получу землю, то буду иметь право измерить ее, и тогда посмотрим, что скажут господа ученые. Увидят, узнают тогда, так ли ошибочны мои измерения. Если другие не хотят доверять мне, из этого не следует, что я сам себе не должен доверять.
Я знал, что Эндрю оскорбляло неполное его образование; чтобы отклонить разговор от предмета, который был для него неприятен, я принялся говорить о его племяннице, и в этот раз я узнал некоторые подробности, о которых не слышал раньше.
Племянницу землемера звали Урсула Мальбон. Несмотря на то что Урсула была дочерью сестры Эндрю, она не принадлежала к роду Койемансов. Из этого выходило, что старушка Койеманс была два раза замужем и что второй ее муж был отцом Урсулы. Боб Мальбон, как землемер называл отца Урсулы, принадлежал к хорошей фамилии; любил сорить деньгами, он женился на матери Урсулы из-за приданого, а потом меньше чем за десять лет промотал и свое и жены состояние. Когда они умерли, за короткое время один после другого, у них осталась двухлетняя дочь.
Этот ребенок остался на попечении дяди, проводившего жизнь в лесу, за обычным своим занятием, и госпожи Стреттон, содержательницы пансиона, о которой я уже говорил. У Урсулы был сводный брат, сын Боба Мальбона от первой жены; он находился в армии, получал скудное жалование и должен был помогать близкой свое родственнице, между тем благодаря госпоже Стреттон, землемеру и брату своему, Урсула ни в чем не нуждалась до восемнадцати лет и до смерти своей благодетельницы успела получить хорошее образование. После госпожи Стреттон покровителем ее остался дядя. Брат ее, при всем желании, помогать сестре чем-нибудь уже не мог, потому что, служа капитаном, он получал ограниченное содержание.
Я вскоре заметил, что старик Эндрю любил Урсулу больше всего на свете. Когда он был в хорошем расположении духа, то он не мог нахвалиться своей племянницей; глаза его наполнялись слезами. Однажды он предложил мне жениться на Урсуле.
– Вы созданы друг для друга, – сказал он очень серьезно. – Что же касается приданого, то я знаю, что вы не ищете его, у вас самого всего вдоволь. Клянусь вам, капитан Литтлпейдж, клянусь, умница Урсула смеется с утра до ночи, а такой подруги должен желать для своего развлечения старый воин. Испытаете сами и потом скажете мне.
– Старый воин должен желать этого, не спорю, мой друг, но вы забываете, сколько мне лет, – я ребенок.
– Ребенок! Хорош ребенок, который дерется как лев! Разве я не видел вас в деле?
– Предположим, что так! Но женится не воин, а человек; и согласитесь, что я слишком еще молодой человек.
– Ошибаетесь, любезный мой, ошибаетесь! Урсула – это олицетворенная веселость, я люблю ее и очень часто говорил ей про вас, и этим уже проложил вам довольно свободный путь к ее сердцу.
Я уверял моего друга Эндрю, что совсем не думал о женитьбе и что, во всяком случае, если бы даже и надумал жениться, то, конечно, предпочел бы девушку с меланхолическим характером хохотушке. Мой отказ не рассердил старого землемера; не теряя надежды, он часто начинал говорить со мной об этом. Вскоре наш полк распустили, и я расстался с ним. Если нам не суждено было больше встретиться солдатами, все же я надеялся не терять из виду своего старого друга, и если бы он нигде не нашел для себя работы, то я хотел поручить ему работу у себя.
Выполнить мне это было легко. Мой дядя, Герман Мордаунт, оставил мне большое имение, которым я должен был владеть, достигнув совершеннолетия. Это обширное имение, находившееся там, где сейчас Вашингтон, было разделено и отдано еще при жизни дяди в арендное содержание, но большая часть межевых линий исчезла, и колонисты ждали более спокойного времени, чтобы их возобновить. До тех пор Равенснест (так называлось имение) служил для владельца источником беспокойства и затрат, но земля была хорошая; сделаны были значительные улучшения, и поэтому можно было надеяться, что со временем она вознаградит и вернет все потерянное. Возле этого имения находилось имение Мусридж, пожалованное сначала первому генералу Литтлпейджу и старому полковнику Фоллоку, после смерти же последнего половина имения досталась Дирку Фоллоку, а дедушка передал тогда часть, ему принадлежавшую, единственному своему сыну. Имение это, разделенное раньше на большие части, вследствие несчастных обстоятельств и волнений, возникнувших позже, не сдавалось в аренду, следовательно, и не приносило никаких доходов.
Говоря обо всем этом, я считаю нелишним закончить здесь все предварительные объяснения. Во времена мира мы далеко не были богаты. Мой дедушка всего-то и имел Сатанстое, небольшую ферму, с прекрасной, впрочем, землей, и немного денег, которые приносили ему проценты. Счастливым днем для него был тот, когда он снова вступил во владение своим домом; это случилось в то время, когда Джей Карлтон вывел все свои отряды из Вест-Честера. Но в том же году дедушка умер от оспы, которой заразился в армии. Мой отец возвратился в Лайлаксбуш после выхода войск, последовавшего двадцать пятого ноября 1783 года. Дома и магазины, принадлежавшие нам в Нью-Йорке, были все время заняты неприятелем; это останавливало получение денег с жильцов, а поправить все эти дела стоило труда и не малого.
Тому, кто знает настоящее положение края, не очень легко представить себе прежнее его состояние. Чтобы хоть немного объяснить это, я приведу один случай, лично касающийся меня и который относится к тому времени, когда я уезжал в армию. В то же время этот случай даст мне возможность ближе познакомить читателя с одним человеком, который играл важную роль в разных периодах моей жизни. Я говорил уже про негра Джепа, слугу моего отца. В то время, про которое я говорю, Джеп был человеком средних лет, волосы его были с проседью, в нем были все достоинства и все недостатки людей одного с ним поколения и состояния. Матушка так была уверена в его преданности нам, что неотступно просила папеньку взять его с собой на время войны; негр был этому очень рад, во-первых, из страсти своей к приключениям, во-вторых, из-за ненависти своей к индейцам, против которых отец мой, в первые годы своей молодости, участвовал в нескольких экспедициях.
Но несмотря на то что Джеп выполнял обязанности слуги, он носил ружье и учился вместе с солдатами. Ливрея его была голубого цвета с красными украшениями, и поэтому Джеп казался одетым в мундир. Таким образом, он одновременно был и слугой и солдатом, переходя от одной обязанности к другой; иногда он вооружался даже заступом и становился земледельцем; вообще наши невольники выполняли все работы.
Как и всегда, по желанию матушки, Джеп провожал меня всюду, когда я отправлялся один, без отца. Матушка думала, и не без основания, что для меня необходимо присутствие верного слуги, и поэтому негр со временем сделался неотлучным при мне лицом. Эта перемена должности была ему приятна; со мной он часто отправлялся в дальние путешествия, а следовательно, ему представлялся каждый раз случай увидеть что-нибудь новое. Во время этих поездок он рассказывал мне случаи из своей молодости; эти рассказы давно наскучили моему отцу, слышавшему их по крайней мере сто раз, но для меня они имели большой интерес.
В то время, про которое я начал говорить, мы с Джепом возвращались в лагерь после долгой поездки, предпринятой мной по приказу дивизионного генерала. Тогда континентальная монета, как ее называли, была совершенно в упадке. За сто долларов бумажками едва давали один. Для путевых расходов у меня было немного серебра и от тридцати до сорока тысяч долларов континентальной монетой. Серебро было потрачено, и у меня оставалось две или три тысячи долларов бумажками. Этого было мало заплатить даже за один обед. Содержатели гостиниц делали гримасы, когда им платили такими деньгами. Пустота в моем кошельке тревожила меня, тем более что впереди у меня было еще два путешествия в такие места, где решительно не было никаких знакомых. Между тем нужно было найти убежище для нас и наших лошадей и не умереть с голоду. Конечно, это не могло стоить дорого, но все же выполнить это было для меня тяжело, так как не было денег.
Прибегать же к патриотизму жителей казалось мне тяжелым средством.
– Джеп, – сказал я, увидев деревню, где решили переночевать (потому что холод был нестерпимый и сознание мое начинало чувствовать необходимость иметь хороший горячий ужин, чтобы хоть отогреться немного). – Джеп, много ли у тебя денег?
– У меня, сударь? Странный вопрос!
– Если я тебя спрашиваю, так это потому, что у меня всего один йоркский шиллинг, а здесь он стоит восемнадцать пенни.
– Не много же, сударь, для двух пустых желудков, не говоря уже о лошадях. Маловато!
– Но больше у меня нет. Я должен был отдать тысячу двести долларов за обед и солому в том последнем месте, где мы останавливались.
– А, верно, континентальной монетой. Что ж, вы заплатили недорого.
– Но нам все же нужно есть и пить, лошади тоже проголодались. По крайней мере надеюсь, что бедных лошадей напоят даром.
– Конечно, сударь, конечно! – ответил, засмеявшись, Джеп.
Мне было не смеха.
– Подождите! Мне пришла одна мысль в голову. Не мешайте только Джепу. Он сумеет достать вам ужин, да какой еще ужин! Ступайте только вперед, сударь, распоряжайтесь, приказывайте, как сын генерала Литтлпейджа, а остальное я беру на себя.
Так как не было другого средства, я ударил лошадь обеими шпорами и вскоре потерял из вида негра. Я приехал в гостиницу на целый час раньше его; когда я заканчивал ужинать, Джеп вошел в комнату и, делая вид, будто не знает меня, стал позволять себе разные вольности. Его лошадь была поставлена в конюшне рядом с моей, вскоре я услышал, что он приказывает приготовить себе закуску.
Конечно, я был поселен в лучшей комнате гостиницы. Утолив голод, я принялся перечитывать некоторые бумаги по делам службы. Никто бы не подумал, посмотрев на меня, что в кармане моем был один только шиллинг; я имел вид человека, который в состоянии заплатить все, что скажут. Уверенность, что хозяин ничего не потеряет, подождав немного оплаты, придала мне особую смелость. Я закончил чтение и стал было думать о том, как провести несколько часов, оставшихся до сна, как вдруг услышал, что в общем зале Джеп настраивает скрипку. Как большинство негров, он знал музыку, часто занимался ею и играл довольно хорошо.
Звуки скрипки в деревне в холодный октябрьский вечер должны были произвести эффект. Спустя полчаса хозяйка с улыбающимся лицом пришла пригласить меня пожаловать в зал, прибавив очень грациозно, что за танцовщиками дело не станет, тем более что пришла первая красавица деревни и не имеет кавалера.
У входа в зал я был встречен поклонами и приседаниями, из которых одни были смешнее других, но вместе с тем выражали добродушие и простоту. Джеп тоже поклонился мне очень церемонно, чтобы отклонить всякое подозрение насчет нашего знакомства.
Танцы продолжались довольно долго, наконец, часы возвестили молодым деревенским девушкам, что время возвращаться домой. Когда наступила минута расставания, Джеп почтительно протянул мне свою шляпу, и я с чувством собственного достоинства бросил в нее шиллинг и отошел в сторону. Вслед за моей монетой кто-то положил другой шиллинг, потом посыпались монеты разного достоинства, смотря на то, какими деньгами был наполнен кошелек каждого танцора. Чтобы закончить это дело, хозяйка, любившая танцы, объявила, что скрипач и его лошадь будут угощены даром; выслушав это, Джеп удалился. Благодаря этой гениальной находчивости Джепа, я нашел в своем кошельке на другой день шесть с половиной шиллингов серебром и столько других мелких монет, что в состоянии был бы целый месяц угощать негра сидром.
Я потом часто смеялся, вспоминая хитрость чудака негра, хотя и не позволял ему никогда больше повторять этой шутки. Проезжая мимо одного дома, владелец которого, казалось, принадлежал к высшему разряду общества, я, не будучи с ним знаком, явился к нему и объяснил свое положение. Выслушав меня внимательно и не требуя никаких доказательств в правдивости моих слов, он одолжил мне пять долларов серебром. Эта сумма была достаточна для покрытия предстоящих расходов. Нужно ли говорить о том, что я позже ему возвратил их с благодарностью.
Счастливая для меня минута была та, когда я, получив чин майора, мог считать себя свободным во всех своих действиях и поехать куда только захочется. Война была так однообразна и скучна с того времени как взяли Чарлзтаун и начали переговоры, что я начал скучать с получением своего звания; когда же страна наша вышла из этой борьбы победительницей, я решил уехать оттуда.
Семейство наше, то есть матушка, бабушка, тетушка Мэри и младшая сестра моя, переехали в Сатанстое осенью 1782 года, а в начале зимы, после утверждения договора, хоть англичане и оставались еще в Нью-Йорке, матушка возвратилась в Лайлаксбуш. Когда я приехал с отцом, мы нашли оба имения в гораздо лучшем состоянии, чем могли ожидать. Заступ и грабли прошли по всем местам: разведены были новые плантации, все следы запустения исчезли. Моя матушка была удивительная хозяйка! Казалось, ее аккуратность и вкус присутствовали во всем, что окружало ее. Я никогда не забуду слов полковника Дирка Фоллока, когда мы осматривали однажды Лайлаксбуш:
– Не знаю, как это делается, никогда не увидишь в кухне миссис Литтлпейдж, а между тем присутствие ее в доме ощутимо везде; так везде чисто, все на своем месте!
Если это замечание было справедливо о самых отдаленных частях дома, то можете судить о наших комнатах. Там, где лично присутствовала матушка, все было в поразительном порядке; какой был во всем вкус и красота и в то же время ни малейшего следа роскоши!
Хотя отечество наше и многое вытерпело на протяжении семи лет внутренних беспорядков, но энергия молодой, неистощенной нации вскоре исправила все. Конечно, торговля полностью восстановилась намного позже; но, вообще, во всем улучшение было заметно даже в конце первого года. Купеческие корабли могли уже отправляться в путь с некоторой уверенностью на хороший результат. В конце 1784 года, обращение крови свободно восстановилось в венах нации. И тогда Америка полностью могла оценить свою самостоятельность. Это был большой результат всех наших усилий.