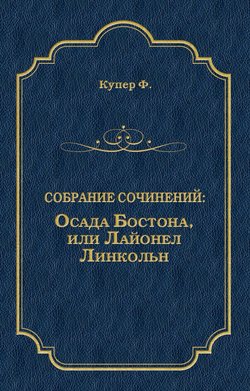Читать книгу Осада Бостона, или Лайонел Линкольн - Джеймс Фенимор Купер - Страница 2
Глава I
ОглавлениеИх юности веселый пыл
Душе усталой возвратил
Ушедшую весну.
Грей[1]
Ни один американец не может пребывать в неведении о том, какие именно события подвигли английский парламент в 1774 году весьма неосмотрительно закрыть порт Бостон, что столь пагубно отразилось на торговле этого главного города западных колоний Великобритании. Совершенно так же ни одному американцу не может не быть известно, с каким благородством и с какой неослабной приверженностью великим принципам борьбы за свои права население близлежащего города Салем не пожелало извлечь для себя какую-либо выгоду из трудного положения, в которое попали их соседи и братья по этой борьбе. В результате столь опрометчивых мер английского правительства, а также похвального единодушия купечества того времени белые паруса в опустевшем заливе Массачусетс стали довольно редким зрелищем; исключение составляли лишь те суда, над которыми развевался королевский вымпел.
Тем не менее как-то на исходе дня в апреле 1775 года сотни глаз были прикованы к далекому парусу, который, возникнув над морским простором, приближался по закрытым водам ко входу в запретную гавань Характерный для той эпохи живейший интерес к политическим событиям заставил довольно большую толпу зевак собраться на Бикон-Хилл, заполнив весь его восточный склон от конической вершины до подножия: все взгляды были прикованы к предмету, возбуждавшему всеобщее любопытство. Впрочем, собравшихся здесь в столь большом количестве людей волновали весьма разнородные чувства и совершенно противоположные желания. В то время как добропорядочные, серьезные, но осторожные горожане старались скрыть переполнявшую их души горечь под маской холодного безразличия, несколько веселых юнцов, одежда которых изобличала в них военных, громко выражали свой восторг и шумно радовались предстоящей возможности получить весть из далекой родины, от близких и друзей. Но вот в вечернем воздухе разнеслась громкая, протяжная дробь барабанов, долетев с близрасположенного плаца, и шумная часть зрителей сразу покинула свой наблюдательный пост, а холм остался в безраздельном владении тех, кому по праву надлежало там быть. Однако в те времена люди опасались свободного, непринужденного обмена мнениями, и, прежде чем вечерний сумрак поглотил длинные тени, отброшенные лучами заходящего солнца, холм совершенно опустел: горожане спустились с возвышенности и побрели каждый своим путем – молчаливые, задумчивые, – туда, где вдоль восточной стороны полуострова протянулись по равнине ряды серых крыш. Но, невзирая на эту видимость равнодушия, молва, которая в периоды большого брожения умов всегда найдет способ шепнуть на ухо то, что не рискнет произнести вслух, уже деятельно распространяла нежеланную весть о том, что приближающееся судно было первым кораблем большой флотилии, привезшей запасы продовольствия и пополнение для армии, и без того слишком многочисленной и слишком уверенной в своей мощи, чтобы уважать закон. Это неприятное известие не повлекло за собой никакого шума или беспорядков, но двери домов угрюмо замкнулись, и в окнах сразу погасли огни, словно этим молчаливым протестом население хотело выразить свое недовольство.
Тем временем корабль достиг скалистого входа в гавань, но, так как был отлив, а ветер совсем утих, ему пришлось лечь в дрейф, словно он предчувствовал не слишком радушный прием, который его ожидал. Впрочем, страхи бостонцев оказались преувеличенными, ибо на борту корабля вы бы напрасно стали искать буйную ватагу солдат – отличительную примету транспортного судна. Пассажиров на корабле было совсем мало, а на палубах царил такой идеальный порядок, что этим немногочисленным пассажирам невозможно было решительно ни на что пожаловаться. Внимательный наблюдатель мог бы по некоторым внешним признакам сделать заключение, что на борту этого судна находятся люди, обладающие таким положением или состоянием, которое заставляет других заботиться об их удобствах. Немногочисленная команда корабля бездействовала, расположившись на разных концах палубы, и поглядывала на неподвижную гладь залива и пустые паруса, лениво свисавшие с мачт, а несколько одетых в ливрею слуг томились вокруг какого-то молодого человека, который засыпал вопросами лоцмана, только что поднявшегося на борт. Костюм молодого человека отличался большой пышностью, и по тому, с каким тщанием были обдуманы и подобраны все его детали, нетрудно было предположить, что, по мысли его обладателя, он являл собой самый последний крик моды. Лоцман и его собеседник стояли неподалеку от грот-мачты; вокруг них палуба была пуста, и только возле штурвала корабля, где неподвижно застыл рулевой, виднелась одинокая фигура какого-то человека, производившего впечатление существа из совершенно иного мира. Его можно было бы назвать глубоким стариком, если бы быстрый, твердый шаг, которым он мерил палубу, и живой горящий взгляд не опровергали всех прочих примет его почтенного возраста. Стан его был сгорблен, и тело поражало своей худобой. Редкие, развеваемые ветром пряди волос были посеребрены инеем по меньшей мере восьмидесяти зим. Время и тяжкие испытания проложили глубокие борозды на его впалых щеках, придав особый отпечаток силы резким и надменным чертам его лица. На нем был простой выцветший кафтан скромного серого цвета, носивший явные следы долгого и не слишком бережного употребления. Порой он отрывал свой пронзительный взгляд от берега и принимался быстро шагать по пустынному юту, погрузившись в свои думы, и губы его шевелились, однако ни единого звука не издавали эти привыкшие к молчанию уста. Он весь был во власти одного из тех внезапных побуждений, когда тело машинально подчиняется велению беспокойного ума.
В эту минуту какой-то молодой человек поднялся из каюты на палубу и присоединился к группе людей, взволнованно и с интересом вглядывавшихся в расстилавшиеся перед ними берега. Молодому человеку с виду было лет двадцать пять. Небрежно наброшенный на плечи военный плащ и видневшийся из-под плаща мундир достаточно убедительно свидетельствовали о военном звании их владельца. Молодой офицер держался непринужденно, как человек светский, но выразительное, подвижное лицо его казалось овеянным меланхолией, а по временам даже глубокой печалью. Поднявшись на палубу, он встретился взглядом с беспокойно шагавшим по юту стариком, учтиво поклонился ему и, повернувшись к берегу, погрузился, в свою очередь, в созерцание красоты умирающего дня.
Округлые холмы Дорчестера горели в лучах опускавшегося за их гряду светила, и нежно-розовые блики играли на поверхности воды, а зеленые островки, разбросанные у входа в гавань, покрылись позолотой. Вдали над серой дымкой, уже окутавшей город, вздымались ввысь высокие шпили колоколен; флюгера на них сверкали в вечерних лучах, и прощальное яркое копье света скользило по черной башне маяка, возвышавшегося на конической вершине холма, названного Бикон-Хиллом после того, как на нем воздвигли это сооружение, призванное предупреждать об опасности. Несколько больших судов стояли на якоре у островов и у городской пристани; их темные корпуса тонули в сгущавшихся сумерках, в то время как верхушки длинных мачт еще были озарены солнцем. И повсюду: и над этими угрюмыми молчаливыми судами, и над небольшим фортом на маленьком островке в глубине гавани, и над некоторыми высокими городскими зданиями – висели широкие шелковые полотнища английского флага, мягко колыхаясь на ветру.
Задумчивость, в которую был погружен молодой человек, внезапно нарушил пушечный залп, возвестивший наступление вечера; взгляд юноши еще был прикован к этим горделивым символам британского могущества, когда он почувствовал, что рука старика пассажира крепко стиснула его локоть.
– Настанет ли день, когда эти флаги будут спущены, чтобы уже никогда не подняться вновь над этим полушарием? – проговорил глухой голос за его плечом.
Молодой офицер быстро повернул голову, взглянул на говорившего и в смущении отвел глаза; опустив их долу, он старался избежать острого, пронзительного взгляда старика. Последовало долгое молчание. Молодой человек испытывал мучительную неловкость. Наконец он произнес, указывая на берег:
– Вы родились в Бостоне и, верно, долго жили здесь. Скажите, как называются все эти красивые места, которые открываются нашему взору?
– А разве вы сами не уроженец Бостона? – спросил старик.
– Да, конечно, я был рожден здесь, но вырос и получил образование в Англии.
– Да будут прокляты такое воспитание и образование, которые заставляют ребенка позабыть родину! – пробормотал старик, быстро повернулся и так поспешно зашагал прочь, что почти мгновенно скрылся из глаз.
Молодой офицер стоял, погруженный в размышление, а затем, словно вспомнив что-то, громко крикнул:
– Меритон!
При звуках его голоса кучка любопытных, окружавшая лоцмана, расступилась, и молодой щеголь, о котором мы уже упоминали выше, направился к офицеру, всем своим видом выражая раболепную угодливость, странным образом сочетавшуюся с развязной фамильярностью. Не обращая ни малейшего внимания на его ужимки, не удостоив его даже взгляда, молодой офицер произнес:
– Вы сообщили на лоцманскую шлюпку, что я хочу отправиться на ней в город? Узнайте, скоро ли она отойдет, мистер Меритон.
Камердинер бросился исполнять поручение и почти тотчас вернулся с сообщением, что все исполнено.
– Однако, сударь, – добавил он, – вы не пожелаете сесть в эту шлюпку. Я в этом совершенно уверен, сударь.
– Ваша всегдашняя уверенность, мистер Меритон, не последнее из ваших неоценимых достоинств. Почему бы мне не сесть в шлюпку?
– Этот противный никому не известный старик уже уселся в ней вместе с узлом своего грязного тряпья и…
– И что еще? Если вы думали испугать меня тем, что единственный истинный джентльмен, находящийся на этом судне, будет моим спутником и в этой шлюпке, то вы ошиблись: вам придется придумать что-нибудь пострашнее, чтобы удержать меня здесь.
– Великий боже, сударь! – воскликнул Меритон в изумлении, возводя глаза к небу. – Разумеется, во всем, что касается тонкостей обхождения, вы самый лучший судья, сударь. Но уж по части тонкого вкуса в костюме…
– Довольно, – раздраженно поморщившись, прервал его хозяин. – Общество этого джентльмена вполне меня удовлетворяет. Если же вы находите его недостойным себя, я разрешаю вам оставаться на корабле до утра – одну ночь я легко могу обойтись без ваших услуг.
Не обращая внимания на кислую мину своего обескураженного лакея, молодой офицер направился к поджидавшей его шлюпке, и все бездельничавшие слуги сразу пришли в движение, а капитан корабля почтительно проводил молодого офицера до трапа. Нетрудно было догадаться, что, невзирая на молодость этого пассажира, именно он и был тем лицом, ради которого на судне поддерживался образцовый порядок. Однако, в то время как все вокруг суетились, усаживая молодого офицера в шлюпку, седовласый незнакомец по-прежнему пребывал в состоянии глубокой задумчивости, если не сказать – глубокого безразличия к окружающему. Намек услужливого Меритона, который, решившись следовать за своим хозяином, дал понять незнакомцу, что ему лучше бы остаться на корабле, был оставлен последним без внимания, и молодой человек уселся возле старика с такой непринужденной простотой, что его слуга был оскорблен этим до глубины души. Но, словно и этого было еще мало, молодой человек, заметив, что, после того как он спустился в лодку, все замерли, будто чего-то ожидая, обратился к своему спутнику и учтиво осведомился у него, можно ли отчаливать. Молчаливый взмах руки послужил ему ответом, и шлюпка начала отдаляться от корабля, который повернул к Нантаскету, чтобы стать там на якорь.
В тишине был слышен только мерный плеск весел; борясь с отливом, гребцы осторожно пробирались среди островков. Но, когда шлюпка уже подходила к форту и сумерки растворились в мягком свете молодого месяца, снявшего темный покров с приближающегося берега, незнакомец заговорил с той особой стремительной горячностью, которая, по-видимому, была свойством его натуры.
Со страстью и нежностью влюбленного он говорил о городе, вырисовывавшемся впереди, и описывал его красоты, как человек, знающий о нем все. Но, когда шлюпка подошла к опустевшей гавани, его быстрая речь оборвалась и он снова замкнулся в угрюмом молчании, словно боясь зайти слишком далеко, заговорив об обидах, чинимых его родине. Предоставленный своим мыслям, молодой человек с жадным интересом рассматривал проплывавшие перед его глазами длинные ряды строений, залитые мягким лунным светом и пронизанные глубокими тенями. Тут и там виднелись лишенные снастей, брошенные на произвол судьбы суда. Ни леса мачт, ни грохота подъезжающих повозок, ни оживленного гула голосов… Ничто не свидетельствовало о том, что перед ними был крупнейший колониальный торговый порт. Временами до них долетали лишь дробь барабанов и голоса бражничавших в портовых кабачках солдат да с военных кораблей доносились унылые оклики дозорных, заметивших одну из лодок, которыми горожане еще пользовались для личных надобностей.
– Перемена поистине велика! – произнес молодой офицер, пока их шлюпка быстро скользила вдоль мертвых пристаней. – Даже мои воспоминания, хоть они и стерлись с годами, воскрешают передо мной другую картину.
Незнакомец ничего не ответил, но залитое лунным светом изможденное лицо его осветила загадочная улыбка, придав что-то неистовое выразительным и странным его чертам. Молодой офицер умолк, и оба не проронили больше ни слова, пока лодка шла вдоль длинного пустынного причала, по которому размеренно шагал часовой, а затем, повернув к берегу, достигла места своего назначения.
Каковы бы ни были чувства, волновавшие двух путешественников, благополучно завершивших наконец свое долгое и нелегкое плавание, они остались невысказанными.
Старик обнажил убеленную сединой голову и, прикрыв лицо шляпой, стоял неподвижно, словно мысленно вознося хвалу Богу за окончание тяжкого пути, а молодой его спутник взволнованно зашагал по пристани; казалось, обуревавшие его чувства были слишком всепоглощающи, чтобы найти выражение в словах.
– Здесь мы должны расстаться, сэр, – произнес наконец молодой офицер, – но я питаю надежду, что теперь, когда пришли к концу наши лишения, это не приведет к концу наше случайно возникшее знакомство.
– Для человека, чьи дни уже сочтены, подобно моим, – отвечал незнакомец, – было бы неуместно испытывать судьбу, давая обещания, для выполнения коих требуется время. Вы, сударь, видите перед собой того, кто возвратился из печального, весьма печального паломничества в другое полушарие, чтобы его кости могли упокоиться здесь, в родной земле. Но, если судьба подарит мне еще несколько дней, вы снова услышите о том, кто считает себя глубоко обязанным вам за вашу любезность и доброту.
Молодой офицер был глубоко тронут задушевными словами своего спутника, их серьезным и торжественным тоном и, горячо пожав его исхудалую руку, ответил:
– Дайте о себе знать! Прошу вас об этом как об особенном одолжении! Не знаю почему, но вы завладели моими чувствами в такой мере, в какой это не удавалось еще никому на свете… в этом есть что-то таинственное… это похоже на сон. Я испытываю к вам не только глубочайшее почтение, но и любовь!
Старик отступил на шаг назад и, положив руку на плечо молодого человека, вперил в него горящий взгляд; затем, величественным жестом подняв руку вверх, сказал:
– Это перст Провидения! Не души зародившееся в тебе чувство! Сохрани его в своем сердце, ибо оно угодно небу.
Внезапно дикие, отчаянные крики грубо нарушили тишину ночи, заглушив ответ офицера. Столько муки и такая жалобная мольба звучали в этих криках, что у тех, кто их слышал, похолодела в жилах кровь. Площадная брань, хриплые проклятия, резкие удары плети и жалобные вопли жертвы звучали где-то неподалеку, сливаясь в единый гул. Движимые одним чувством, все сошедшие со шлюпки на берег торопливо направились в ту сторону, откуда доносились крики. Приблизившись к стоявшим неподалеку строениям, они увидели кучку людей, столпившихся вокруг человека, чьи жалобные стенания нарушили тихое очарование ночи. Бранясь, зеваки подзадоривали мучителей, их грубые голоса заглушали крики истязуемого.
– Пощадите, пощадите! Христа ради, пощадите, не убивайте Джэба! – снова завопил несчастный. – Джэб сбегает, куда прикажете! Бедный Джэб слабоумный дурачок! Пожалейте бедного Джэба! Ой! Вы сдерете с меня шкуру!
– Я вырву сердце из груди этого подлого бунтовщика! – раздался яростный хриплый возглас. – Он отказался пить за здоровье его величества!
– Джэб желает королю доброго здоровья! Джэб любит короля! Джэб только не любит рома!
Молодой офицер, увидев, что творится бесчинство, решительно растолкал толпу хохочущих солдат и проник в самую ее гущу.
1
Стихотворные эпиграфы даются в переводе И. Гуровой. Переводы эпиграфов из Шекспира даются по Полному собранию сочинений в 8 томах, изд. «Искусство», М., 1957–1960.