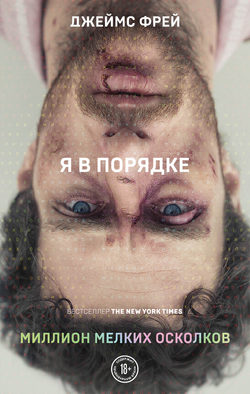Читать книгу Миллион мелких осколков - Джеймс Фрей - Страница 2
ОглавлениеЮноша пришел к Старцу за советом.
Старец, я что-то разбил.
Сильно разбил?
На миллион осколков.
Вряд ли я помогу тебе.
Почему?
С этим ничего нельзя поделать.
Почему?
Целое не восстановишь.
Почему?
Оно навсегда разбито. На миллион осколков.
Я просыпаюсь под жужжание самолетного двигателя, по подбородку сочится что-то теплое. Поднимаю руку, ощупываю лицо. На месте четырех передних зубов дыра, в щеке дыра, нос сломан, глаза заплыли так, что не открываются. Кое-как разлепляю веки, осматриваюсь – сижу в хвосте самолета, рядом никого. Осматриваю одежду – она в разноцветных пятнах слюней, соплей, мочи, блевотины и крови. Пытаюсь нащупать кнопку вызова персонала, нахожу ее, жму, жду, через тридцать секунд появляется стюардесса.
Чем могу вам помочь?
Куда мы летим?
Как, вы не знаете?
Нет.
В Чикаго, сэр.
Как я оказался в самолете?
Вас доставил доктор, с ним еще два джентльмена.
Что они сказали?
Они разговаривали с командиром, сэр. Нам велели не будить вас.
Когда посадка?
Через двадцать минут.
Спасибо.
Даже не глядя на нее, знаю, что она улыбается мне, сочувствует. Напрасно.
Чуть погодя самолет касается земли. Я ищу какие-нибудь вещи, но при мне ничего нет. Ни билета, ни сумки, ни плаща, ни бумажника. Сижу, жду, пытаюсь сообразить, что же произошло. В голове пустота.
Когда все пассажиры вышли, встаю и начинаю продвигаться к выходу. Делаю пять шагов, снова сажусь. Идти нет сил – ясно, как дважды два. Замечаю знакомую стюардессу, поднимаю руку.
У вас все в порядке?
Нет.
Что случилось?
Я вообще не могу идти.
Давайте дойдем до выхода, а туда я подкачу вам кресло.
Это очень далеко.
Вовсе нет.
Встаю. Колени подгибаются. Снова сажусь. Пялюсь в пол, делаю глубокий вдох.
Ничего, все будет хорошо.
Смотрю на нее, она улыбается.
Ну, давайте.
Она протягивает руку, я хватаюсь за нее. Встаю, наваливаюсь на стюардессу, и она тащит меня по проходу. Мы добираемся до выхода.
Подождите, я скоро.
Отпускаю ее руку, сажусь на пол металлического рукава, который соединяет самолет с гейтом.
Идти мне некуда.
Она смеется, я смотрю, как она удаляется, и закрываю глаза. Голова болит, горло болит, глаза болят, руки болят. Болят органы, которым даже не знаю названия.
Хватаюсь за живот. Подкатывает. Стремительный мощный поток обжигающей лавы. Его не удержать. Можно только закрыть глаза и пропустить. Меня выворачивает, я корчусь от боли и смрада. Ничего не могу поделать.
О господи.
Открываю глаза.
Ничего страшного.
Давайте я вызову врача.
Не надо, я в порядке. Мне бы только выбраться отсюда.
Вы можете встать?
Да, могу.
Я встаю, отряхиваюсь, вытираю ладони об пол, сажусь в кресло-каталку, которое она привезла для меня. Она встает мне за спину и толкает кресло.
Вас кто-нибудь встречает?
Надеюсь.
Точно не знаете?
Нет.
А если никто?
И такое возможно. Как-нибудь разберусь.
Мы выходим из рукава в зону прибытия. Не успеваю глазом моргнуть, как передо мной вырастают Отец и Мать.
О господи.
Не надо, Мама.
Боже мой, что с тобой стряслось?
Не надо об этом, Мама.
Боже правый, Джимми. Да что же такое стряслось?
Она наклоняется ко мне, пытается обнять. Я отталкиваю ее.
Давай скорее выберемся отсюда, Мама.
Отец обходит кресло-каталку. Я ищу взглядом стюардессу, но она испарилась. Благослови ее бог.
Ты в порядке, Джимми?
Я смотрю прямо перед собой.
Нет, папа, не в порядке.
Он начинает толкать каталку.
У тебя есть багаж?
Мама плачет.
Нет.
На нас смотрят.
Ты чего-нибудь хочешь?
Я хочу выбраться отсюда, папа. Давай уже, черт подери, рули отсюда.
Меня подвозят к машине. Я перебираюсь на заднее сиденье, снимаю рубашку и ложусь. Отец садится за руль, Мать продолжает плакать, я засыпаю.
Просыпаюсь часа через четыре. Голова ясная, но перед глазами все колышется. Сажусь и смотрю в окно. Мы стоим на заправке где-то в Висконсине. Снега на земле нет, но чувствуется, что холодно. Отец открывает свою дверцу, садится в машину, закрывает. Я дрожу.
Ты проснулся.
Да.
Как себя чувствуешь?
Дерьмово.
Мама пошла помыть руки и купить еды. Тебе взять что-нибудь?
Бутылку воды, пару бутылок вина и пачку сигарет.
Ты серьезно?
Да.
Не стоит, Джеймс.
Мне нужно.
Потерпеть не можешь?
Нет.
Мама расстроится.
И что из того? Мне нужно.
Он открывает дверцу, идет к заправке. Я снова ложусь и смотрю в потолок. Чувствую, как сердце начинает биться чаще, кладу на него руку и пытаюсь затормозить. Надеюсь, родители не застрянут там надолго.
Через двадцать минут бутылки прибывают. Сажусь, закуриваю, делаю глоток воды. Мама оборачивается.
Тебе лучше?
Если тебе так угодно.
Мы едем в наш загородный дом.
Догадался.
Там на месте решим, что делать.
Ладно.
А сам-то ты что думаешь?
Мне сейчас неохота думать.
Но ведь скоро придется.
Вот и подожду до скорого.
Мы едем на север, в загородный дом. По дороге узнаю, что родители, которые вообще-то живут в Токио, прилетели в Штаты на две недели по делам. В четыре утра им позвонил мой приятель, который был со мной в больнице, он разыскал их в гостинице, в Мичигане. Он сказал, что я упал с пожарной лестницы, разбил лицо и, ему кажется, мне требуется помощь. Он не знает, что именно я принимал, но, судя по всему, принял немало и меня хорошо накрыло. После этого звонка они всю ночь ехали до Чикаго.
Так что это было?
В смысле?
Что ты принимал?
Понятия не имею.
Как это понятия не имеешь?
Не помню.
А что ты помнишь?
Так, обрывки и осколки.
Например?
Не помню.
Мы едем еще несколько минут в тяжелом молчании и приезжаем на место. Выходим из машины, заходим в дом, я сразу иду в душ, потому что больше не могу терпеть. Выйдя из душа, нахожу на своей кровати чистую одежду. Одеваюсь и иду в комнату родителей. Они сидят, пьют кофе, но замолкают, едва я вхожу.
Привет.
Мама снова начинает плакать, отводит взгляд. Отец смотрит на меня.
Чувствуешь себя лучше?
Нет.
Тебе нужно поспать.
Я и собираюсь.
Вот и хорошо.
Смотрю на Маму. Она на меня не смотрит. Я вздыхаю.
Я просто.
Отвожу взгляд.
Я просто, в общем.
Смотрю в сторону. Не в состоянии я смотреть им в лицо.
Я просто, в общем, хотел сказать спасибо. За то, что встретили меня.
Папа улыбается. Берет Маму за руку, они поднимаются, подходят ко мне и обнимают. Мне не нравится, когда они прикасаются ко мне, поэтому я отстраняюсь.
Покойной ночи.
Покойной ночи, Джеймс. Мы любим тебя.
Я отворачиваюсь, выхожу из комнаты, закрываю дверь, иду на кухню. Обыскиваю шкафчики, нахожу нераспечатанную бутылку виски. От первого глотка желудок вздрагивает, но следующие идут хорошо. Иду к себе в комнату, пью, выкуриваю несколько сигарет и думаю о ней. Снова пью, курю и думаю о ней, и в какой-то момент наступает темнота и память отключается.
Я снова в машине, опять болит голова, изо рта несет. Мы едем по Миннесоте на северо-запад. Отец с кем-то созвонился, устроил меня в клинику, выбора у меня нет, поэтому я соглашаюсь, пока это меня устраивает. Холодает.
Лицо болит еще сильнее, жутко распухло. Трудно говорить, есть, пить, курить. В зеркало лучше не смотреть.
Заезжаем в Миннеаполис за моим старшим Братом. Он живет в этих краях после развода и знает дорогу до клиники. Он садится рядом со мной на заднее сиденье и берет меня за руку, это успокаивает меня, потому что я боюсь.
Заезжаем на стоянку, паркуемся, я допиваю бутылку, мы выходим из машины и направляемся ко входу в клинику. Я, Брат, Мать и Отец. Все семейство в полном составе. Шествуем в клинику.
Я останавливаюсь, родные тоже. Рассматриваю больничные корпуса. Низкие, длинные, с переходами. Функционально. Дешево. Сердито.
Хочется удрать, или сдохнуть, или обдолбаться. Ослепнуть, оглохнуть, не чувствовать ни хера. Заползти в нору и никогда не вылезать. Стереть следы своего существования с карты мира. С этой гребаной карты. Я делаю глубокий вдох.
Идемте.
Мы входим в маленькую приемную. За столом сидит женщина, читает журнал мод.
Поднимает глаза.
Чем могу помочь?
Отец делает шаг вперед и вступает в разговор, а мы с Братом и Матерью садимся на стулья.
Меня трясет с головы до ног. Ноги, руки, губы, грудь. Дрожат крупной дрожью. Бог его знает, почему.
Мать с Братом подвигаются ближе ко мне, берут каждый меня за руку, сжимают, они видят, что творится со мной. Мы смотрим в пол и молчим. Ждем, держимся за руки, дышим и думаем.
Отец заканчивает разговор с дежурной, отворачивается от нее, подходит к нам. У него довольный вид, дежурная звонит по телефону. Отец опускается на колено.
Тебя примут сегодня.
Ладно.
Все будет отлично. Это хорошая клиника. Самая лучшая.
Ясно.
Ты готов?
Наверное.
Мы встаем и идем в другую комнатку, там за столом перед компьютером сидит мужчина. Он поднимается при виде нас и встречает на пороге.
Простите, но вам следует уехать.
Отец кивает.
Мы обследуем его, а вы позвоните позже и узнаете, как дела.
Мать начинает плакать.
Он в хороших руках. Не волнуйтесь.
Брат отводит глаза в сторону.
Он в хороших руках.
Я поворачиваюсь, они обнимают меня. Каждый по очереди, очень крепко. Сжимают и держат. Как могу, показываю им, что я в порядке. Ни слова не говоря, переступаю порог комнаты, мужчина закрывает за мной дверь, они остаются за дверью.
Мужчина указывает мне на стул и возвращается за свой стол. Улыбается.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как себя чувствуете?
А как выгляжу?
Не очень.
Чувствую еще хуже.
Вас зовут Джеймс. Вам двадцать три года. Вы живете в Северной Каролине. Все правильно?
Пока правильно.
Вам что-нибудь известно о нашем заведении?
Нет.
Хотите что-нибудь узнать?
Все равно.
Он улыбается, пристально смотрит на меня. Потом говорит.
Наша клиника – старейшее в мире заведение по лечению наркотической и алкогольной зависимости. Мы открылись в 1949 году в старом здании, оно находилось на этом участке, а сейчас здесь тридцать два корпуса, которые соединены между собой. Мы вылечили больше двадцати тысяч пациентов. У нас самый высокий процент выздоровления в мире! У нас шесть отделений, три мужских и три женских, в них постоянно пребывают двести – двести пятьдесят пациентов. Мы считаем, что пациенты должны проводить у нас столько времени, сколько необходимо для их выздоровления, мы не выставляем пациентов после двадцативосьмидневного курса. Хотя пребывание здесь стоит дорого, но многим пациентам мы предоставляем финансовую помощь. У нас есть благотворительный фонд, в нем несколько сот миллионов долларов. Мы не только лечим. Мы занимаем ведущие позиции среди научных и учебных центров в области исследования зависимостей. Считайте, вам крупно повезло, что вы попали к нам. Радуйтесь тому, что вы на пороге новой жизни.
Я смотрю на него. Молчу. Он смотрит на меня и ждет, что я что-нибудь скажу. Неловкий момент. Он улыбается мне.
Вы готовы начать?
Я не улыбаюсь ему.
Да.
Он встает, и я встаю, мы выходим в коридор. Он говорит, я молчу.
Двери не запирают, так что всегда можно выйти, если захотите. Наркотики запрещены, если обнаружится, что вы их принимаете или храните, вас отправят домой. С женщинами, кроме врачей, медсестер и персонала, можно только здороваться, разговаривать запрещено. Если нарушите это правило, вас отправят домой. Есть и другие правила, но с ними вы ознакомитесь в свое время.
Мы входим в терапевтическое отделение. Кругом маленькие палаты, врачи, медсестры и лекарства. На шкафах большие металлические замки.
Он заводит меня в палату. Кровать, стол, стул, шкаф и окно. Все белое.
Он стоит у двери, я сажусь на кровать.
Через несколько минут придет медсестра, побеседует с вами.
Хорошо.
Вы хорошо себя чувствуете?
Нет, паршиво.
Скоро станет легче.
Хм.
Уж поверьте мне.
Хм.
Мужчина уходит, закрыв дверь, и я остаюсь один. Ноги дрожат. Дотрагиваюсь до лица, провожу языком по деснам. Мне холодно, все холоднее и холоднее. Слышен скрип.
Дверь открывается, в палату входит медсестра. Вся в белом, с папкой в руке. Садится на стул у стола.
Здравствуй, Джеймс.
Здравствуйте.
Я задам тебе несколько вопросов.
Хорошо.
Еще померяю тебе давление и пульс.
Хорошо.
Какие вещества ты обычно принимаешь?
Алкоголь.
Каждый день?
Да.
В какое время начинаешь пить?
Как проснусь.
Она записывает.
Сколько выпиваешь за день?
Сколько влезет.
Сколько влезает?
Столько, сколько надо, чтобы выглядеть таким красавчиком, как сейчас.
Она смотрит на меня. Записывает.
Еще что-нибудь принимаешь?
Кокаин.
Как часто?
Каждый день.
Она записывает.
В какой форме?
В последнее время крэк. Но за годы перепробовал все возможные формы.
Она записывает.
Еще что-нибудь?
Таблетки, кислоту, грибы, мет, ангельскую пыль и клей.
Записывает.
Как часто?
Как удастся раздобыть.
Как часто удается?
Несколько раз в неделю.
Записывает.
Она наклоняется ко мне со стетоскопом в руке.
Как себя чувствуешь?
Мерзко.
В каком смысле?
Во всех.
Она касается моей рубашки.
Ты не против?
Нет.
Она задирает рубашку и прикладывает стетоскоп к моей груди. Слушает.
Дыши глубоко.
Слушает.
Хорошо. Еще немного.
Она опускает рубашку, отодвигается и записывает.
Спасибо.
Я улыбаюсь.
Тебе холодно?
Да.
Она достает аппарат для измерения давления.
Тебя тошнит?
Да.
Она надевает манжету мне на руку, больно сдавливает.
Когда в последний раз что-нибудь принимал?
Недавно.
Что и сколько?
Выпил бутылку водки.
Это твоя обычная дневная доза?
Нет.
Она смотрит на табло, цифры мелькают, она записывает и снимает манжету.
Я ненадолго отлучусь, но скоро вернусь.
Я смотрю в стену.
Ты должен находиться под пристальным наблюдением. Возможно, мы назначим тебе лекарства для детоксикации.
Краем глаза замечаю тень. Мне кажется, она движется, но я не уверен.
Сейчас все нормально, но, думаю, тебе начнет что-то мерещиться.
Еще одна тень. Ненавижу.
Если я понадоблюсь, просто позвони.
Ненавижу.
Она встает, улыбается, задвигает стул и выходит. Я снимаю ботинки, ложусь поверх одеяла, закрываю глаза и засыпаю.
Просыпаюсь, начинаю дрожать, сворачиваюсь калачиком, сжимаю кулаки. По груди льет пот, и по рукам, и по бедрам. От пота щиплет лицо.
Я сажусь, слышу чей-то стон. Вижу клопа в углу, но знаю, что его там нет. Стены сжимаются и расширяются, сжимаются и расширяются, слышно, как они дышат. Я зажимаю уши, но это не помогает.
Встаю. Оглядываюсь кругом. Ничего не понимаю. Где я, почему, как здесь очутился и как отсюда выбраться. Как меня зовут, кто я.
Корчусь на полу, на меня обрушиваются образы и звуки. Я ничего подобного никогда не видел, не слышал и даже не подозревал, что такое существует. С потолка, из двери, из окна, со стола, со стула, с кровати, из шкафа. Из этого гребаного шкафа. Темные тени, яркие огни и вспышки синего, желтого и красного цвета, такие алые, как кровь. Они надвигаются на меня, визжат, я не знаю, чего они хотят, но догадываюсь, что они заодно с клопами. Они визжат на меня.
Меня начинает трясти. Трясет и трясет без остановки. Тело дрожит, сердце колотится как бешеное, я прямо вижу, как оно скачет в грудной клетке, обливаюсь потом, пот щиплет кожу. Клопы расползаются по моему телу, кусаются, я пытаюсь их давить. Стучу по бокам ладонями, рву волосы, начинаю кусать сам себя. У меня нет передних зубов, но я все равно кусаю себя, а кругом тени, огни, вспышки, визги и клопы, клопы, клопы. Мне конец. Полный пиздец.
Я ору.
Ссу под себя.
Накладываю в штаны.
Медсестра возвращается, зовет на помощь, вбегают мужчины в белом, укладывают меня на кровать и удерживают. Я хочу передавить клопов, но не могу шевельнуться, и клопы ползают. По мне. Во мне. Я чувствую, как ко мне прикасаются стетоскопом, потом измеряют давление, потом вводят иглу в вену и все время крепко держат.
Меня окутывает чернота.
Я отрубаюсь.
Сижу на стуле у окна и смотрю. Понятия не имею куда, и мне плевать. Уже поздно, темно, а спать я не в состоянии. Действие лекарств закончилось.
Входит медсестра.
Не спится?
Она проверяет давление и пульс.
Нет.
У нас есть холл.
Она протягивает мне таблетки.
Там можно посмотреть телевизор.
Она протягивает мне халат и тапки.
Можно покурить.
Я отворачиваюсь и смотрю в окно.
Переоденься и дай мне знать, когда будешь готов.
Хорошо.
Она выходит, я принимаю таблетки, одеваюсь, открываю дверь – она ждет меня. Улыбается и протягивает пачку сигарет.
Все в порядке?
Я улыбаюсь.
Спасибо.
Мы идем в холл. Телевизор, два дивана, стул, несколько торговых автоматов. Телевизор работает.
Хочешь содовой?
Я сажусь на стул.
Нет.
Все в порядке?
Киваю.
Да, спасибо.
Она выходит, а я чувствую, как таблетки растворяются в желудке. Смотрю в телевизор, но ничего не воспринимаю. Курю сигарету. Она обжигает.
Входит какой-то мужчина, идет ко мне и останавливается рядом.
Эй, парень.
Голос у него низкий и глуховатый.
Эй, парень.
Руки от плеч в шрамах.
Я вообще-то к тебе обращаюсь.
Шрамы идут до запястий.
Я вообще-то к тебе обращаюсь.
Я смотрю ему в глаза. Они пустые.
Что?
Он тычет пальцем.
Ты занял мой стул.
Я отворачиваюсь от него к телевизору.
Ты занял мой стул.
Таблетки растворяются в желудке.
Слышь, парень, это мой стул.
Меня не колышет.
Слышь, говнюк, это мой стул, черт тебя подери.
Я смотрю в телевизор, мужик тяжело дышит. Медсестра спешит к нам.
Что у вас случилось?
Этот говнюк сел на мой стул.
Тогда почему бы вам не сесть на диван?
Потому что я не хочу на диван. Хочу на свой стул.
На стуле сидит Джеймс. Можете сесть на диван, на пол или уйти. Выбирайте.
На хер Джеймса. Пусть сваливает со стула.
Вы добиваетесь, чтобы я вызвала охранника?
Нет.
Тогда выбирайте.
Он идет к дивану и садится. Медсестра наблюдает за ним.
Спасибо.
Он ухмыляется, она уходит, мы остаемся вдвоем. Я смотрю в телевизор, курю сигарету. Он смотрит на меня, грызет ногти и сплевывает огрызки в мою сторону, но таблетки растворяются у меня в желудке, клопы уползают, и мне все по барабану. Меня не колышет.
Смотрю в телевизор. Изображение замедляется. Замедляется до неузнаваемости. Картинка расплывается, голоса удаляются. Ни очертаний, ни слов, только вспышки огней и симфония гулов. Всматриваюсь в огни, вслушиваюсь в гул. Хочу, чтобы все исчезло, но оно не исчезает.
Мои веки опускаются. Пытаюсь их приподнять, но они не подчиняются. Тело опускается вслед за веками. Мышцы расслабляются, и я скольжу со стула на пол. Я не хочу на пол, мне не нравится на полу, но ничего не могу поделать. Пока я соскальзываю, халат цепляется за край стула, подол задирается до пояса. Я протягиваю руку, чтобы поправить халат, но она бессильно падает. Хочу приказать руке подняться и одернуть халат, но мой мозг меня не слушается. Мозг не слушается, и рука не слушается. Халат остается задранным.
Мужчина прекращает плеваться в меня огрызками ногтей, встает и идет ко мне. Сквозь щель опущенных век вижу, как он приближается. Понимаю, что он может сделать со мной все, что захочет, и я не в силах помешать ему. Понимаю, что он зол, и по его шрамам, царапинам, глазам ясно, что свою злость он обычно выражает через насилие. Мог бы я встать, уж ответил бы ему, но я не в состоянии даже пошевелиться. С каждым его шагом перспектива вырисовывается все яснее. Он сделает со мной все, что захочет, а я не в силах помешать ему. Не в силах помешать. Не в силах.
Он останавливается рядом и смотрит на меня сверху вниз. Наклоняется, смотрит прямо в лицо и смеется.
Ах ты, мерзкий ублюдок!
Я пытаюсь что-то ответить. Изо рта вырывается мычание.
Я мог бы надрать тебе задницу, если б захотел. Мог бы приготовить из тебя фарш.
Мое тело как вата.
Но все, что мне надо, это мой стул.
Мой мозг меня не слушается.
И я возьму его, черт подери.
Он берет меня за руки и волочит по полу. Оттаскивает подальше от стула, в угол, и там бросает лицом в пол. Наклоняется надо мной и приближает губы к моему уху.
Я мог бы надрать твою гребаную задницу. Запомни это.
Он удаляется. Я слышу, как он садится на стул перед телевизором и начинает переключать каналы. Сводка спортивных новостей, реклама средства для роста волос, вечернее ток-шоу. Он выбирает ток-шоу, смеется там, где велит звуковая дорожка с записанным смехом, бормочет себе под нос, что одной участнице охотно бы вдул. Я лежу мордой в пол.
Я в полном сознании, но пошевелиться не могу.
Сердце стучит, очень громко, и я вижу его стук.
Складки ковра впиваются мне в лицо, и я слышу их.
По телевизору звучит звуковая дорожка с записью смеха, и я чувствую его прикосновение.
Я в полном сознании, но пошевелиться не могу.
Отключаюсь.
Отключаюсь.
Отключаюсь.
Наступает утро. Просыпаюсь – уже могу двигаться. Встаю, оглядываюсь в поисках того типа. Он исчез, но воспоминание о нем застряло в голове и будет там храниться долго. Это мой недостаток. Я не умею избавляться от воспоминаний.
Иду в свою палату. Открываю дверь, вижу санитара, он ставит на стол поднос с едой. Смотрит на меня и улыбается.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я принес вам завтрак. Наверное, вы проголодались.
Спасибо.
Если что-нибудь понадобится, позвоните.
Спасибо.
Он выходит, я смотрю на еду. Яйца, ветчина, тосты, картофель. Стакан воды, стакан апельсинового сока. Есть не хочется, но знаю, что нужно, подхожу к столу, сажусь, смотрю на еду, вспоминаю про свое лицо. Оно по-прежнему распухшее. Касаюсь губ, они в коросте. Открываю рот, короста трескается. Выступает кровь. Закрываю рот, чувствую вкус крови.
Есть не хочется, но знаю, что нужно.
Беру стакан воды, делаю глоток, но вода холодная, и от нее ломит зубы.
Беру стакан апельсинового сока, делаю глоток, но сок кисловатый, и от него щиплет во рту.
Пытаюсь есть вилкой, но она колется.
Отламываю кусочек тоста и пальцами кладу в рот. Так же поступаю с картошкой, яйцом и ветчиной. Пью воду, не сок. Облизываю пальцы.
Доев все, иду в туалет, и там меня выворачивает. Пытаюсь сдержать рвоту, но напрасно. Почти половина съеденного вылетает, вместе с кровью и желчью. Я доволен, что удалось удержать хоть половину еды. Это больше, чем обычно.
Когда возвращаюсь в постель, в палату входит доктор. Он улыбается.
Здравствуйте.
У него на груди бейдж с именем, но я не могу его прочесть.
Меня зовут доктор Бейкер.
Мы пожимаем руки.
Сегодня вами буду заниматься я.
Сажусь на край кровати.
Все в порядке?
Он смотрит мне в лицо, но не в глаза.
Да.
Я смотрю ему в глаза.
Как себя чувствуете?
Глаза у него добрые.
Мне надоел этот вопрос.
Он смеется.
Еще бы, я думаю!
Я улыбаюсь.
Держите.
Он протягивает мне таблетки.
Это транквилизаторы.
Я беру.
Лекарства очистят ваш организм, а это очень важно с медицинской точки зрения, благодаря этому наладится работа сердца, нормализуется кровяное давление, адаптация пройдет легче. Без этого может случиться удар или сердечный приступ.
Он наклоняется, рассматривает мою щеку.
Вы будете получать таблетки каждые четыре часа, мы будем постепенно уменьшать дозу в течение следующих пяти дней.
Я смотрю ему в глаза.
Мы возьмем у вас анализы. И приступим к разработке программы для вас.
Хорошо.
Но сначала давайте немного приведем вас в порядок.
Мы идем в кабинет. Тут горит яркая флуоресцентная лампа, стоят шкафы с инструментами и функциональная кровать. Я сажусь на кровать, он надевает резиновые перчатки и исследует мою щеку. Убирает коросту. Открывает мне рот. Вводит палец в дыру.
Берет иглу с ниткой, велит мне сжать кулаки и закрыть глаза. Я не закрываю, смотрю, как движется игла. Туда-сюда. Щека, губа, рот. Сорок один стежок.
С этим покончено. Он звонит хирургу-стоматологу, а я сижу на кровати и дрожу от боли. Чувствую вкус горячей крови и ниток. Он договаривается о приеме со стоматологом, кладет трубку и моет руки.
Через пару дней отвезем вас в город, сделаем зубы.
Провожу языком по обломкам зубов.
Я знаю этого стоматолога, он мастер своего дела.
Вожу языком по обломкам.
Будете как новенький.
Оставляю свои обломки в покое.
Не бойтесь.
Он надевает новую пару перчаток и подходит ко мне.
Я должен обследовать ваш нос.
Делаю глубокий вдох. Он подходит вплотную, рассматривает мой нос. Прикасается к нему, я вздрагиваю. Щеки больше не чувствую.
Дело плохо.
Я знаю.
Нос придется сломать и потом вправить.
Я знаю.
Чем скорее, тем лучше. Но если хотите, можем подождать.
Чем скорее, тем лучше.
Хорошо.
Он расставляет ноги пошире, для устойчивости, и кладет обе ладони на мой нос. Я хватаюсь руками за край кровати, закрываю глаза и жду.
Готов?
Да.
Он резко бьет, раздается отчетливый хруст. Холодные белые молнии вспыхивают у меня перед глазами, пронзают от макушки до пяток и обратно. Из закрытых глаз льются слезы. Из носа хлещет кровь.
А сейчас я вправлю его.
Он сжимает мой нос с боков, я чувствую, как смещается хрящ. Он поправляет мне нос. Я чувствую это. Сжимает и распрямляет. Я все чувствую.
Ну, вот.
Я открываю глаза, он берет какую-то ленту. Накладывает мне на переносицу, лента жесткая и удерживает хрящ в нужном положении.
Он берет полотенце, вытирает кровь с моего лица, шеи, а я смотрю в стену. Лицо пульсирует, я стискиваю край кровати так, что рукам больно. Хочу встать, но не могу.
Вы в порядке?
Нет.
Обезболивающее вам не положено.
Ясное дело.
Транквилизаторы помогут, но все же придется потерпеть.
Знаю.
Я принесу вам чистый халат.
Спасибо.
Он отходит, выбрасывает полотенце в мусорную корзину и выходит. Я отпускаю кровать, вытягиваю руки перед лицом, смотрю на них. Они дрожат, я тоже.
Врач возвращается с медсестрой, они помогают мне переодеться, говорят, что нужно сдать анализы. Кровь, моча, кал. Нужно определить степень поражения внутренних органов. Эта мысль бесит меня.
Мы идем в другой кабинет, с туалетом. Я писаю в банку, сдаю дерьмо в пластмассовый контейнер, подставляю вену под иголку. Это просто, легко, не больно. Мы выходим, в отделении полно людей. Пациенты выстроились в очередь за таблетками, врачи снуют из палаты в палату, медсестры носят склянки и колбы. Суматоха, одним словом, но бесшумная. Я захожу к себе в палату вместе с доктором, сажусь на кровать, он на стул. Пишет что-то в медкарте. Закончив, смотрит на меня.
Если не считать стоматолога, худшее позади.
Хорошо.
Я назначу вам 250 миллиграммов амоксициллина три раза в день и 500 миллиграммов пенициллина внутримышечно раз в день. От инфекции.
Хорошо.
Таблетки получают на стойке раздачи. Если забудете подойти, медсестра вас позовет.
Ладно.
Вы держались молодцом, спасибо.
Не за что.
Удачи.
Спасибо.
Он встает, я тоже, мы жмем друг другу руки, и он уходит. Я иду к стойке раздачи, встаю в очередь. Передо мной девушка. Она оборачивается, смотрит на меня. Заговаривает.
Привет.
Улыбается.
Привет.
Она протягивает руку.
Меня зовут Лилли.
Пожимаю протянутую руку. Она теплая и мягкая.
Я Джеймс.
Не хочется выпускать ее руку, но нужно. Продвигаемся вперед.
Что с тобой стряслось?
Она бросает взгляд на медсестру за стойкой.
Не помню.
Она поворачивается ко мне.
Вырубился?
Да.
Она морщится.
Дерьмово.
Я смеюсь.
Ага.
Мы продвигаемся.
Когда поступил?
Я бросаю взгляд на медсестру за стойкой.
Вчера.
Медсестра пристально смотрит на нас.
Я тоже.
Делаю шаг вперед, Лилли отворачивается от меня, прекращает разговор, и мы то стоим на месте, то передвигаемся вперед. Медсестра наблюдает за нами, протягивает Лилли таблетки и стакан воды. Лилли глотает их, запивает и отходит от стойки. Проходя мимо меня, одними губами шепчет «пока». Я улыбаюсь и шагаю к стойке. Медсестра смотрит на меня, спрашивает, как зовут.
Джеймс Фрей.
Смотрит в карту, идет к шкафу, достает таблетки и протягивает мне со стаканом воды.
Глотаю таблетки.
Запиваю водой.
Иду к себе в палату, засыпаю. Весь день сплю, просыпаюсь, только чтобы закинуть в глотку еду, постоять в очереди за таблетками и проглотить их.
Тело будит меня, когда за окном еще темно. Нутро горит, как будто там пожар. Начинается приступ, подкатывает боль. Спазм, боль становится сильнее. Еще один спазм, тут меня парализует.
Я знаю, что происходит, нужно встать, но не могу, поэтому скатываюсь с кровати на пол. Лежу, скулю. На полу холодно и темно.
Боль убывает, я ползу в ванную, хватаюсь за края унитаза и жду. Покрываюсь потом, задыхаюсь, сердце колотится.
Тело сводит судорогой, я закрываю глаза и наклоняюсь над унитазом. Кровь вперемешку с желчью и ошметками желудка вылетает изо рта и ноздрей. Забивается в горло, в нос, между обломков зубов. И опять, и опять, и опять, и с каждым спазмом острая боль простреливает грудь, отдает в левую руку и в челюсть. Я с размаху ударяюсь лбом об унитаз, но ничего не чувствую. Ударяюсь еще раз, и опять ничего не чувствую.
Рвота прекращается, я откидываю голову назад, открываю глаза и смотрю в унитаз. Густые красные струи стекают по его стенкам, в воде плавают коричневые сгустки моих внутренностей. Пытаюсь замедлить дыхание и удары сердца, не получается, поэтому просто сижу и жду. Каждое утро одно и то же. Блюю, потом сижу и жду.
Через несколько минут встаю, плетусь в палату. Ночь отступает, стою у окна и смотрю. Синеву неба прорезают оранжево-красные мазки, на красном фоне восходящего солнца выделяются очертания больших птиц, медленно проплывают облака. Чувствую, как кровь капает из ран на лице, как стучит сердце, как жизнь всей тяжестью наваливается на плечи, и понимаю, почему слова «утро» и «траур» так перекликаются.
Вытираю лицо рукавом, снимаю халат, который заляпан кровью и всем тем, что я выблевал, бросаю его на пол и иду в ванную. Открываю душ, жду, пока пойдет горячая вода.
Смотрю на свое тело. Кожа землисто-бледная. Туловище в ссадинах и синяках. Тощий, мускулы обвисли. Вид у меня потрепанный, побитый, дряхлый, дохлый. Я не всегда был таким.
Протягиваю руку, пробую воду. Теплее, но еще не горячая. Встаю под душ, закрываю кран с холодной водой и жду, когда пойдет кипяток.
Вода ударяет в грудь, течет вниз. Беру кусок мыла, намыливаюсь, а вода становится все горячей. Струи обрушиваются на меня, обжигают кожу, она краснеет. Больно, но приятно. Вода, пар, мыло, ожог. Больно, но я заслужил.
Выключаю воду, выхожу из душа, вытираюсь. Залезаю в постель, закутываюсь в одеяло, закрываю глаза и пытаюсь вспомнить. Восемь дней назад я был в Северной Каролине. Помнится, разжился бутылкой, пайпом и решил прокатиться. Через два дня проснулся в Вашингтоне, округ Колумбия. На диване в доме сестры своего приятеля. Весь в моче и блевотине, она захотела, чтобы я убрался прочь, поэтому позаимствовал у нее блузку и ушел. Через двадцать четыре часа очнулся в Огайо. Помню какой-то дом, бар, немного крэка, немного клея. Крики. Плач.
Дверь открывается, я сажусь на кровати. Врач приносит стопку одежды и таблетки, кладет все на стол.
Здравствуйте.
Я тянусь за таблетками.
Здравствуйте.
Беру их.
Тут чистая одежда.
Спасибо.
Он садится к столу.
Сегодня мы переводим вас вниз, в отделение.
Хорошо.
Обычно, когда пациента переводят вниз, наши встречи становятся реже, но с вами мы продолжим встречаться.
Хорошо.
На следующей неделе вы будете подниматься сюда дважды в день, после завтрака и после обеда, чтобы получать антибиотики и седативы. Что касается транквилизаторов, то их прием закончен, я принес последние таблетки.
Глотаю их.
Он смотрит на мой рот.
Завтра отвезем вас к стоматологу.
Я еще не видел своего рта.
Он мастер своего дела и мой старый приятель. Все сделает наилучшим образом.
Мне страшно взглянуть на себя.
Держитесь, все будет хорошо.
Наверное, людей пугает мой вид.
Переоденьтесь и ждите в холле.
Хорошо.
За вами пришлют человека из отделения.
Жду с нетерпением.
Он смеется и встает.
Удачи, Джеймс.
Я тоже встаю.
Спасибо.
Мы пожимаем друг другу руки, он уходит. Одеваюсь в одежду, которую он принес. Брюки хаки, белая футболка, шлепанцы. Все мягкое, удобное. Чувствую себя почти человеком.
Выхожу из палаты, иду по терапевтическому отделению, здесь ничего не изменилось. Яркие лампы, белизна. Пациенты, врачи, очереди и таблетки. Стоны и вскрики. Печаль, безумие, катастрофа. Все это мне хорошо знакомо и больше на меня не действует.
Прохожу в холл, сажусь на диван. Я тут один, смотрю телевизор и перевариваю последнюю порцию таблеток.
Сердце бьется медленней.
Руки перестают дрожать.
Веки опускаются.
Тело обмякает.
Все становится по барабану.
Слышу, как произносят мое имя, открываю глаза – передо мной стоит Лилли. Она улыбается, садится рядом.
Помнишь меня?
Ты Лилли.
Она улыбается.
Я боялась, что не вспомнишь. Видок-то у тебя кислый.
Это транквилизаторы.
Да, сама от них клюю носом. Терпеть не могу это дерьмо.
Лучше это, чем ничего.
Она смеется.
Давай встретимся через пару дней.
Я улыбаюсь.
Вряд ли я продержусь тут пару дней.
Она кивает.
Знакомое чувство.
Я ничего не отвечаю. Она говорит.
Ты откуда?
Достаю сигареты.
Из Северной Каролины.
Вынимаю сигарету из пачки.
Не угостишь меня?
Протягиваю ей сигарету, прикуриваю, мы затягиваемся, и Лилли рассказывает о себе. Я слушаю. Ей двадцать два года, росла в Фениксе. Отец бросил, когда ей было четыре, мать героинщица, зарабатывала на дозу тем, что продавалась первому встречному. Когда Лилли исполнилось десять, мать подсадила ее на наркотики, а когда исполнилось тринадцать – стала ее продавать первому встречному. В семнадцать лет Лилли сбежала от матери к бабушке в Чикаго, там и живет с тех пор. Торчит на крэке и пилюлях любви.
В холл входит парень, и мы замолкаем. Он подходит ко мне. Худой, по виду из богатеньких, почти лысый. Глазки маленькие, беспокойные.
Джеймс?
Он улыбается.
Да.
Можно подумать, он очень обрадован.
Привет, а я Рой.
Он протягивает руку.
Привет.
Я встаю, пожимаю руку.
У тебя вещи есть?
Нет.
Одежда или, может, книги?
У меня ничего нет.
Телефон?
Ничего.
Он снова улыбается. Криво как-то.
Ну, пошли.
Я оборачиваюсь к Лилли, которая притворяется, будто смотрит телевизор.
Пока, Лилли.
Она оглядывается, улыбается мне.
Пока, Джеймс.
Мы с Роем выходим из холла, спускаемся по короткому, темному, покрытому ковром переходу. Пока идем, Рой сверлит меня взглядом.
Ты знаешь, что это против правил.
Я смотрю прямо перед собой.
Что?
Разговаривать с женщинами.
Прости.
Не извиняйся, просто больше не делай этого.
Хорошо.
Правила придуманы для твоего же блага. Советую тебе соблюдать их.
Постараюсь.
Не постарайся, а соблюдай, а то будут проблемы.
Постараюсь.
Мы подходим к большой двери, переступаем порог, и обстановка меняется. Длинные коридоры, вдоль них тянутся двери. Мягкие ковры, яркие стены. Светло, красочно, ощущение комфорта. Кругом прохаживаются люди, все улыбаются.
Мы проходим через вереницу коридоров. Рой смотрит на меня, я смотрю прямо перед собой. Он рассказывает мне про отделение и про правила поведения.
В отделении двадцать – двадцать пять пациентов, три наставника и начальник отделения. У каждого пациента есть свой наставник, который контролирует программу лечения, а начальник отделения контролирует наставников. Каждый пациент обязан каждый день посетить три лекции, три раза принять пищу, участвовать во всех мероприятиях.
Каждому пациенту назначается работа, которую он обязан выполнить утром.
Принимать препараты, влияющие на настроение, в отделении строго запрещено. Если обнаружится, что кто-то их принимает или хранит, то его выгонят из клиники.
Письма отправляют раз в день. Наставники имеют право вскрыть и прочесть любое письмо.
Посещения разрешены по воскресеньям с часу до четырех дня. Персонал имеет право проверять содержимое передач, которые приносят посетители. Женщины находятся в своих отделениях, контакты с ними запрещены. Если столкнешься с женщиной в коридоре, можно сказать «здравствуйте», но спрашивать «как дела» запрещено. Если нарушаешь это правило, могут выписать из клиники.
Рой пристально смотрит на меня.
Правила – дело серьезное. Если хочешь выздороветь, советую соблюдать их.
Я смотрю прямо перед собой.
Постараюсь.
Мы входим в дверь с табличкой «Сойер» и оказываемся в отделении. Идем по коридору, по обе стороны которого тянутся двери. Кое-где таблички с именами, некоторые двери открыты, и в палатах видны люди.
Из коридора попадаем в большой двухуровневый зал. На верхнем ярусе есть автомат с напитками, автомат со сладостями, большая кофеварка, кухня и большой стол со стульями вокруг. На нижнем ярусе стоят диваны и стулья полукругом, телевизор и небольшая школьная доска. У дальней стены находится телефонная кабинка, а в другие две стены встроены раздвижные стеклянные панели вместо дверей. За открытыми дверьми видны лужайки, деревья, вдалеке озеро. Мужчины сидят у стола, на диванах. Они читают, разговаривают, курят и пьют кофе. Когда я вхожу в зал, все поворачиваются ко мне и начинают рассматривать.
Рой улыбается.
Добро пожаловать в «Сойер».
Спасибо.
Здесь хорошо.
Мне хочется сбежать.
Ты здесь пойдешь на поправку.
Сбежать бы куда глаза глядят.
Уж поверь, я-то знаю.
Обдолбаться бы.
Да-да.
Или сдохнуть.
Пойдем, провожу тебя в твою палату.
Через верхний ярус проходим в дальний коридор. Вдоль него тоже расположены палаты, из них доносятся разговоры, смех, плач. Мы останавливаемся возле одной из дверей, Рой открывает ее, мы входим. Палата довольно большая, в ней четыре кровати – в каждом углу по кровати. Возле каждой кровати – тумбочка и маленький комод. Ванная сбоку. Двое мужчин сидят на кровати и играют в карты, они поднимают головы, когда мы входим.
Ларри, Уоррен, это Джеймс.
Оба встают, подходят ко мне, чтобы познакомиться. Ларри – коротышка крепкого сложения, комплекцией напоминает асфальтовый каток. У него длинные каштановые волосы, короткая бородка и южный акцент. На вид ему можно дать лет тридцать пять. Уоррену лет за пятьдесят, он высокий, худой, загорелый, с широкой улыбкой, одет хорошо. Мы пожимаем друг другу руки, они спрашивают, откуда я, я отвечаю. Они спрашивают, не хочу ли я сыграть с ними в карты, я отказываюсь. Говорю, что устал и хочу отдохнуть. Благодарю Роя, направляюсь к пустой кровати и ложусь. Рой выходит, Ларри с Уорреном возвращаются к своим картам.
Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и думаю о том, как докатился до жизни такой. Как разрушил свою жизнь, превратил в груду обломков, какой ущерб причинил себе и другим. Думаю о той ненависти, которую питаю к себе, об отвращении. Думаю о том, как это все произошло и почему, и мысли приходят сами собой, но ответов в них нет.
Слышу шаги, ощущаю рядом чье-то присутствие. Открываю глаза, возле меня стоит мужчина. Лет под сорок. Среднего роста, худой, как щепка, с длинными костлявыми руками, тонкими пальцами. Аккуратно пострижен, чисто выбрит.
Ты новенький?
Он нервничает, возбужден.
Да.
А глаза у него пустые.
Как зовут?
Джеймс.
Я сажусь на кровати.
А я Джон.
Он присаживается на край моей кровати и протягивает мне карточку.
Вот моя визитка.
Читаю. Джон Эверетт. Секс-ниндзя. Сан-Франциско, далее везде.
Смеюсь.
Показать кое-что?
Он вытаскивает бумажник.
Давай.
Он открывает бумажник, вынимает выцветшую газетную вырезку и протягивает мне. Заметка из старой газеты, напечатанной в Сан-Франциско, раздел городской хроники. Фотография мужчины, который стоит посреди улицы и держит плакат. Подпись под фотографией: «Мужчина был арестован на Маркет-стрит через три часа после того, как освободился из тюрьмы Сан-Квентин. Он ходил с плакатом, рекламируя продажу кокаина».
Это я.
Снова смеюсь.
Это было три с чем-то года назад.
Я возвращаю ему вырезку.
Полная чушь.
Он прячет ее в карман.
Ты когда-нибудь трахался в задницу?
Чего?
В задницу трахался, спрашиваю?
В каком смысле?
А я в тюрьме попробовал и здорово пристрастился. Не могу без этого дела, и еще без кокаина. Думаю, тебе надо скорей попробовать, чего тянуть-то.
Я таращусь на него.
Тут у нас честность и открытость превыше всего. Это входит в программу лечения, так что я действую по программе. Захотел сказать тебе – и сказал. Ты как вообще?
Я таращусь на него.
Отлично.
Он, заторопившись, встает. Смотрит на часы.
Пора на обед. Хочешь, покажу тебе, где столовая?
Молча встаю. Только таращусь на него.
Выходим из палаты, идем через отделение, по лабиринту коридоров. По дороге Джон рассказывает о себе. Ему тридцать семь лет, он из Сиэтла. Вырос в богатой и влиятельной семье, которая отвернулась от него. У него есть дочь, которой двадцать лет, он не видел ее десять лет. Восемь лет просидел в тюрьме. Отец приставал к нему с пяти лет.
Входим в длинный коридор со стеклянными стенами. С одной стороны едят женщины, с другой – мужчины. В конце столовой общая зона – там салат-бар и два прилавка, за которыми выдают еду. Джон берет два подноса, один протягивает мне, и мы встаем в очередь.
Пока очередь движется, я изучаю обстановку. Мужчины, женщины. Поглощают еду. Некоторые разговаривает, никто не улыбается. Круглые столы, у каждого восемь стульев. Люди сидят за столами, на столах тарелки, чашки, подносы. В мужской половине расположились человек сто двадцать, всего мест человек на двести. В женской половине человек сто, а мест примерно сто пятьдесят. Я беру тарелку супа и стакан воды и, пока иду через зал, чувствую на себе множество взглядов. Представить страшно, какой у меня видок.
Нахожу пустой стол и сажусь. Отпиваю глоток воды, подношу ложку с супом ко рту. Он горячий, от каждой ложки волна боли разливается по губам, щекам, челюстям и зубам. Ем медленно, с усилием, не глядя по сторонам. Не хочу ни на кого смотреть и не хочу, чтобы смотрели на меня. Доедаю суп и на какое-то мгновение наконец ощущаю удовольствие. Желудок полон, становится тепло и приятно. Встаю, беру поднос, отношу его на конвейер, ставлю на стопку других грязных подносов и выхожу из столовой.
Возвращаюсь в отделение. Когда прохожу мимо открытой двери в одну из комнат, меня окликают. Останавливаюсь, немного возвращаюсь назад. Какой-то мужчина выходит из-за стола и направляется ко мне. Ему тридцать с небольшим. Очень высокий и очень худой. Темные волосы стянуты в хвостик, на глазах темные очки. Одет в черную футболку, черные брюки и черные кеды. Похож на человека, который провел детство за компьютером, скрываясь от своих обидчиков.
Ты Джеймс.
Он протягивает руку, я пожимаю ее.
Я Кен, твой наставник в отделении.
Приятно познакомиться.
Он поворачивается, идет к своему столу.
Проходи, садись.
Иду за ним, сажусь на стул напротив него и осматриваю кабинет.
Он маленький, кругом беспорядок, повсюду груды бумаг и папок. Стены покрыты схемами, картинками людей или пейзажей, в рамке за спиной у Кена – «Двенадцать шагов анонимных алкоголиков». Он берет папку, кладет перед собой, открывает и смотрит на меня.
Заселился нормально?
Да.
Есть какие-нибудь пожелания?
Нет.
Нужно уточнить кое-какие сведения, чтобы заполнить твою медкарту. Не против, если я задам несколько вопросов?
Не против.
Он берет ручку.
Когда начал принимать алкоголь и наркотики?
Выпивать в десять, наркотики в двенадцать.
А когда перешел на большие дозы?
С пятнадцати выпивал каждый день, с восемнадцати добавилась наркота каждый день. С тех пор стало еще хуже.
Сознание теряешь?
Да.
Как часто?
Каждый день.
И сколько времени такое продолжается?
Года четыре. Может, пять лет.
Тебя тошнит?
Каждый день.
Сколько раз в день?
После того как проснусь, и после того как выпью, и после того как поем, и еще может быть.
Сколько раз в день?
По-разному, от трех до семи.
Сколько времени это продолжается?
Года четыре. Может, пять лет.
Ты когда-нибудь подумывал о самоубийстве?
Да.
Попытку делал?
Нет.
Тебя арестовывали?
Да.
Сколько раз?
Раз двенадцать или тринадцать.
За что?
За разное.
Например?
Хранение. Хранение с целью распространения. Три раза «вождение под воздействием», несколько актов вандализма, несколько раз «причинение ущерба собственности», нападение, нападение с применением смертоносного оружия, нападение на офицера полиции, пребывание в общественном месте в состоянии явного опьянения, нарушение общественного спокойствия. Наверняка еще какая-то фигня была, всего не упомнишь.
Эти обвинения до сих пор в силе?
Да, почти все.
Где?
В Мичигане, в Огайо и в Северной Каролине.
К судебной ответственности привлекался?
Нет.
Освобождался под залог?
Да, и сбегал из-под залога.
Где?
Везде.
Почему?
Я побывал в тюрьме. Мне там не понравилось, и я не хочу обратно.
Тебе придется рано или поздно ответить по обвинениям.
Знаю.
Мы советуем разобраться с этим, пока ты здесь. Или хотя бы начать.
Я подумаю.
На какие средства ты живешь?
Торгую наркотиками.
Придется завязать.
Понимаю.
Ты раньше лечился?
Нет.
Почему?
Не хотел. Предкам сказал, что, если попробуют меня сдать в лечебницу, я убегу и вообще меня больше не увидят. Они поверили.
Он молчит, откладывает ручку. Смотрит мне в глаза, и я понимаю, что он испытывает меня, ждет, когда я отведу взгляд, но не тут-то было.
Ты хочешь выздороветь?
Вроде того.
Вроде?
Ну.
Это значит – хочешь?
Это значит, вроде того.
Почему ты хочешь выздороветь?
Потому что я в жопе, и уже давно. Если так пойдет и дальше, я сдохну. А мне вроде как пока неохота становиться трупаком.
Ты готов сделать все, чтобы поправиться?
Не знаю.
Спрашиваю еще раз. Ты готов сделать все, чтобы поправиться?
Не знаю.
Спрашиваю еще раз. Ты готов сделать все, чтобы поправиться?
Не знаю.
Он сверлит меня взглядом, злится, что я не даю ответа, который ему нужен. Я тоже смотрю на него.
Если ты не готов сделать все, что потребуется, тебе лучше уйти. Мне бы этого не хотелось, но мы не сможем помочь тебе, если ты не готов помочь себе сам. Подумай об этом, и мы еще раз поговорим. Если что-нибудь потребуется, заходи.
Хорошо.
Он поднимается, я тоже. Он выходит из-за стола, мы выходим из кабинета в коридор. Люди возвращаются с обеда, собираются кучками за столами, на диванах, на складных стульях, расставленных островками. Кен спрашивает, не хочу ли я пообщаться, я отвечаю нет, он отходит, а я смотрю, как он подходит к другому чуваку и заводит разговор с ним. Нахожу свободный стул, закуриваю, делаю длинную затяжку и рассматриваю людей вокруг. Среди них есть черные, белые, желтые и коричневые. У кого-то длинные волосы, у кого-то короткие, у кого-то борода, у кого-то усы. Кто-то хорошо одет, кто-то в лохмотьях. Есть худые, есть жирные. Есть крепкие, хилые, истощенные, изможденные. У кого-то пугающе бандитский вид, у кого-то невменяемый и безумный. Все они разные, но все похожи друг на друга, и вот я сижу, курю, смотрю на них и боюсь их до чертиков, того и гляди, наложу в штаны.
Кен закончил разговор и объявляет, что начинается лекция, народ встает и валит на лекцию. У меня закончились таблетки, нужно пополнить запас, так что я прогуливаю лекцию, иду в терапевтическое отделение и встаю в очередь. В очереди меня охватывают тревога, страх и злость. Чем ближе к стойке с лекарствами, тем они сильнее. Чувствую, что сердце бьется быстрее, смотрю на руки – они дрожат, и, когда подхожу к стойке, уже с трудом могу говорить. Мне чего-то хочется, чего-то требуется, сильно, позарез. Чего угодно. Просто вынь да положь. Медсестра узнает меня, берет карту, смотрит, поворачивается к шкафу и достает таблетки. Протягивает мне вместе с водой в пластиковом стаканчике, я заглатываю их мгновенно, отхожу от стойки и жду, чтоб подействовали. Почти сразу становится лучше. Сердцебиение успокаивается, руки перестают трястись, тревога, страх и злость стихают.
Я выхожу, возвращаюсь в свое отделение и иду в актовый зал на лекцию, сижу и слушаю, как мужик рассказывает про благотворное влияние здорового питания на ясность ума. Какое, к черту, здоровое питание, если человек сидит на наркотиках, наконец-то лекция заканчивается, я встаю, выхожу из зала, вместе со всеми возвращаюсь в отделение. Один из пациентов напоминает кинозвезду, я подумываю, не заговорить ли с ним, но не решаюсь. Остаток дня и начало вечера проскальзывают в полудреме, когда способность ясно размышлять исчезает, а минута кажется вечностью. Вскоре после ужина укладываюсь в кровать и впервые за несколько лет осознанно намереваюсь уснуть.
Открываю глаза. Соседи спят, в палате тихо, спокойно, темно. Я сажусь, провожу ладонью по волосам, смотрю на подушку – она залита кровью. Касаюсь лица и понимаю, что оно в крови.
Встаю, кое-как одолеваю десять шагов до ванной, открываю дверь, вхожу, включаю свет. Он слепит, зажмуриваю глаза, жду, когда они привыкнут, хватаюсь за край раковины, шагнув вперед. Открываю глаза, смотрю в зеркало и впервые за пять дней вижу собственное лицо.
Губы в порезах, в трещинах, распухли так, что стали в три раза больше. На левой щеке шов, покрытые засохшей кровью стежки соединяют края глубокой раны сантиметра в три длиной. Сломанный нос под повязкой распух, из ноздрей тянутся кровавые струйки. Под глазами черно-желтые синяки. Все лицо в крови, и в засохшей, и в свежей.
Отрываю кусок бумажного полотенца, смачиваю под краном и начинаю осторожно протирать лицо. Корка на царапинах, которыми испещрены щеки, трескается, я морщусь от боли, полотенце краснеет. Выбрасываю его, отматываю новый кусок. Все повторяется еще раз.
Еще раз.
Еще раз.
Заканчиваю, выбрасываю последний кусок полотенца, мою руки и смотрю, как красная вода стекает в раковину и потом в слив. Выключаю воду, приглаживаю волосы руками – они теплые, приятные, и делаю еще одну попытку посмотреть на себя. Хочу посмотреть себе в глаза. Хочу разглядеть, что под тонким слоем зеленой радужки, в глубине, внутри меня, что прячется там. Едва взглянув, отворачиваюсь от зеркала. Не могу заставить себя повернуться обратно.
Выхожу из ванной, возвращаюсь в палату. Ларри, Уоррен и Джон проснулись и одеваются. Говорят мне «привет», я отвечаю, подхожу к кровати и ложусь. Только начинаю задремывать, как ко мне подходит Джон.
Ты чего делаешь?
Разве не видно, что я делаю?
Собираешься еще поспать.
Именно.
Нельзя.
Почему?
Пора на работу.
Какая еще работа?
У каждого своя работа. Утром мы встаем и идем на работу.
Значит, надо встать?
Да.
Я вылезаю из постели, иду за Джоном в холл, на верхний ярус. Завидев меня, подходит Рой, подводит меня к расписанию работ и объясняет, как все устроено.
Вот название работы, вот твоя фамилия. Чем дольше находишься в отделении, тем легче работа. Ты только что поступил, поэтому тебе убирать общий сортир.
Спрашиваю, где чистящие средства, он показывает. Беру все необходимое, собираюсь в общий сортир, он тем временем говорит.
Отмой все как следует, на совесть.
Конечно.
На совесть.
Я понял.
Нахожу общий сортир – две туалетные комнаты, которыми пользуются пациенты, если лень идти в палату, наставники и посетители. Они маленькие, в каждой один унитаз, один писсуар, одна раковина. Вхожу, оттираю унитазы, писсуары, раковины. Выношу мусор, вешаю новые рулоны туалетной бумаги. Мою пол. Не то чтобы очень приятное занятие, но мне приходилось раньше мыть туалеты, так что ничего страшного.
Заканчиваю, ставлю инвентарь на место, возвращаюсь в палату, иду в ванную и блюю. Уже три дня я не напивался, пять дней не кокаинился, так что тошнит не так сильно, как обычно, но все же тошнит. Закрываю крышку унитаза, спускаю воду, сижу на толчке и смотрю в стену. Не понимаю, что со мной творится.
Встаю, хожу туда-сюда по ванной. Охватываю себя руками крест-накрест, сжимаю. Мне холодно, дрожь пробирает до костей. Хочется плакать, через секунду – прикончить кого-нибудь, еще через секунду – себя. Хочется бегать, но бегать негде, поэтому шагаю туда-сюда, дрожу от холода и растираю себя.
Ларри открывает дверь, зовет на завтрак, иду с ним, Уорреном и Джоном в столовую, занимаю очередь, беру еду. Отыскав пустой стол, сажусь, ем теплую сладкую овсянку и запиваю водой. Постепенно успокаиваюсь, но не вполне. Думаю, не схожу ли с ума. Доев кашу, откидываюсь на стул и оглядываю столовую. Замечаю Кена, который толкует с мужиком из нашего отделения. Мужик указывает на меня, Кен направляется к моему столу и садится напротив.
Ты в порядке?
В полном.
Ты обдумал наш вчерашний разговор?
Да.
Что-нибудь решил?
Нет.
Подумай еще.
Хорошо.
Сегодня поедешь к дантисту.
Хорошо.
Я отведу тебя в терапевтическое отделение, а после того, как получишь лекарства, провожу к машине. Водитель отвезет тебя к врачу, подождет, пока ты будешь там, и привезет обратно.
Хорошо.
После обеда мы хотим провести обследование, которое называется Миннесотский многофакторный личностный тест. Это стандартный психологический тест, который поможет нам понять, как тебе помочь.
Хорошо.
Он встает.
Ты готов?
Я беру поднос и тоже встаю.
Да.
Мы идем, я ставлю поднос на конвейер, и мы направляемся в терапевтическое отделение. Получаю свои таблетки, глотаю их, и мы идем к главному входу, у которого ждет белый фургон. Кен выдает мне куртку, чтобы я не замерз, мы выходим, он отодвигает дверцу фургона и разговаривает с водителем, пока я залезаю на переднее сиденье и усаживаюсь. Кен прощается, я говорю до свидания, он закрывает дверь, и водитель трогает с места. Погода испортилась. Черные тучи затягивают небо, на земле белые заплатки инея. Зеленое стало бурым. Покрытое листьями оголилось. Холод, зима, мир впадает в спячку.
Смотрю на мелькающий за окном замерзший пейзаж. Стекло запотевает от моего дыхания, начинаю дрожать. Съёживаюсь и смотрю на водителя, который тоже ёжится от холода, едет медленно, внимательно следит за дорогой.
А можно тут немножко подогреть?
Водитель оглядывается на меня.
Замерз?
Я отвечаю на его взгляд.
Еще как, до чертиков.
Он смеется.
Потерпи, малыш. Раз мотор работает, сейчас согреемся.
Останавливаемся на пустынном перекрестке, горит красный светофор, на дороге никого, ветер крутит в воздухе клочки бумаги и листья. Водитель кажется стариком. У него седые всклокоченные волосы, седая всклокоченная борода и ярко-синие глаза. Кожа, как на старом ботинке. Руки тонкие, но, видно, сильные, и вообще, несмотря на свой возраст, он выглядит крепышом. Протягивает мне руку.
Меня зовут Хэнк.
Пожимаем руки.
Я Джеймс.
Что с тобой случилось?
Плохо помню.
Попал в серьезную переделку?
Что, похоже?
Да, твой вид намекает.
Мой вид не обманывает.
Мы смеемся, загорается зеленый, Хэнк трогается, продолжаем разговор. Хэнк из Массачусетса, почти всю жизнь проработал капитаном торгового рыболовного судна. Всегда был не прочь выпить, а уж после выхода на пенсию совсем меру потерял. Лишился дома, жены, семьи, рассудка. Обратился в клинику за помощью, а после того как вылечился, решил остаться здесь, помогать другим. Мне нравится разговаривать с Хэнком, и к концу поездки начинаю считать его другом.
Въезжаем в маленький городок, на главную, судя по всему, улицу. На ней располагаются бакалейная лавка, скобяная лавка и полицейский участок. На фонарях висят украшения по случаю Хэллоуина, и люди, которые, похоже, все друг с другом знакомы, переходят из магазина в магазин. Хэнк паркуется на стоянке перед рыболовным магазином, мы выходим из фургона и подходим к небольшой двери, что у входа в магазин. Хэнк открывает ее, поднимаемся по лестнице, проходим через другую дверь и оказываемся в темной комнатке с двумя диванами и столиком, заваленным журналами и детскими книжками, а за раздвижными стеклянными дверьми находится приемная.
Хэнк проходит в приемную, я сажусь на диван и начинаю перебирать журналы. На другом диване сидит женщина с мальчиком, который рассматривает книжку про слоненка Бабара. Выбрав журнал, я откидываюсь на спинку дивана и начинаю читать, а сам замечаю, что женщина исподволь разглядывает меня. Потом подвигается ближе к ребенку, обнимает его, прижимает к себе и целует в лоб. Я понимаю, почему она делает это, и не осуждаю ее, гляжу в свой журнал, а сердце бьется все сильнее, и мне хочется верить, что этот мальчик вырастет не таким, как я.
Хэнк выходит из приемной.
Они примут тебя прямо сейчас.
Я откладываю журнал, встаю.
Хорошо.
Я трушу, и Хэнк это замечает.
Как ты, ничего?
Он кладет руку мне на плечо.
Ничего.
Он смотрит мне прямо в глаза.
Городишко, конечно, вшивый, но люди тут свое дело крепко знают. Все будет отлично, малыш.
Я отвожу глаза.
Медсестра вызывает меня по имени, Хэнк машет рукой, и я двигаюсь навстречу распахнутой двери, где поджидает меня медсестра. Перед тем как войти, оглядываюсь – женщина с мальчиком смотрят на меня. Перевожу взгляд на Хэнка, он кивает, я киваю в ответ и на долю секунды собираю свое мужество в кулак. По крайней мере, его хватает, чтобы переступить порог.
Переступаю порог, и медсестра провожает меня в чистую белую комнату, я сажусь в большое стоматологическое кресло в центре, медсестра выходит, а я остаюсь ждать. Через несколько секунд появляется врач. Ему за сорок, он высокий, с темными волосами, темными глазами и обветренным лицом. Если бы не белый халат и не бейдж, его можно было бы принять за лесоруба.
Вы Джеймс?
Он подвигает стул и садится рядом.
Да.
А я доктор Стивенс, приятно познакомиться.
Мы пожимаем руки.
Мне тоже.
Он надевает перчатки из тонкого латекса.
Мне немного рассказал о вас врач из реабилитационного центра.
Он вынимает из кармана маленький фонарик.
Но я должен осмотреть вас сам, чтобы оценить состояние.
Он наклоняется надо мной.
Можете открыть рот?
Я открываю, он зажигает фонарик и подносит к моему лицу.
Можно поднять вам верхнюю губу?
Я киваю, он кладет фонарик, приподымает мне губу и берет длинный тонкий металлический инструмент с острым концом.
Может быть больно.
Он касается концом инструмента обломков моих зубов, потом надавливает на раны в деснах. Боль резкая, острая, пронзающая все тело. Мне хочется закрыть рот, прекратить эту пытку, но я терплю. Закрываю глаза, сжимаю руки в кулаки, стискиваю их изо всех сил. Чувствую, как дрожат губы, во рту появляется вкус крови, когда врач касается моих зубов, они шатаются. Он заканчивает обследование и кладет инструмент на стол – слышен стук. Откидываюсь назад, открываю глаза.
Нужно еще сделать рентген, но даже на глаз ясно, что тут много работы.
Опять стискиваю кулаки. Крепко.
Два боковых зуба сломаны, но корни, похоже, живы.
Губы у меня дрожат.
Мы поставим коронки, и все будет в порядке.
Чувствую вкус крови.
А вот два передних зуба, увы, мертвые.
Провожу языком по верхней челюсти.
Мы залечим корневые каналы и сделаем мост.
Ощупываю обломки зубов. Острые короткие штырьки.
Это не самая приятная процедура, но без зубов еще хуже, так что другого выхода нет.
Я киваю.
Я назначу вам прием через несколько дней. Подождем, пока пройдет воспаление на губах, с ним приступать к работе нельзя.
Я киваю.
Приятно было познакомиться, Джеймс.
Мне тоже.
Он поднимается, пожимает мне руку и выходит. Входит другая медсестра, осматривает мой рот, набивает его ватными тампонами, делает рентген. Снимок готов, ватные тампоны пропитаны кровью, а во рту такое ощущение, будто все там натерли наждаком и отбили молотком. Медсестра говорит, что я свободен, встаю и выхожу в вестибюль. Хэнк сидит на диване, читает журнал про личную жизнь кинозвезд, я подхожу к нему, сажусь рядом, он откладывает журнал и смотрит на меня.
Как все прошло?
Прекрасно.
Они приведут тебя в порядок?
Обещают.
Пойду узнаю, когда приезжать в следующий раз.
Он встает, идет в приемную, разговаривает с администратором, возвращается, и мы выходим на улицу, садимся в фургон и отъезжаем от клиники. Хэнк продолжает разговаривать, но я говорю, что у меня рот сильно болит, и он оставляет меня в покое. Смотрю в окно.
Думаю о ней. Вспоминаю, как увидел ее в первый раз. Мне было восемнадцать, сидел как-то на школьном дворе под увядающим желто-оранжевым октябрьским деревом. В руках держал книгу, читал и вдруг почему-то оторвал взгляд от книги. Она шла через школьную лужайку с кипой бумаг. Оступилась, бумаги рассыпались. Она наклонилась, чтобы собрать их, озираясь исподтишка – не видит ли кто. Меня Она не заметила, а я смотрел, как она собирает бумажки. Она меня не видела, а я ее видел.
Фургон тормозит у входа в клинику, мы с Хэнком выходим, я подхожу к нему, благодарю за то, что отвез и поддержал. Он отвечает, что дружеское объятие мне не помешает, я смущенно смеюсь в ответ, он не обращает на это внимания, делает шаг навстречу, протягивает руки и обнимает меня. Удовольствие от простого человеческого прикосновения согревает меня, и впервые за долгое время мне становится действительно хорошо. Это пугает меня, я вырываюсь, говорю до свидания, еще раз благодарю и спешу к клинике. Администратор говорит, что обед уже начался, и я иду в столовую, становлюсь в очередь, беру тарелку супа, стакан воды, нахожу пустой стол, сижу один и стараюсь протолкнуть хоть немного еды через кровоточащие руины своего рта.
Привет, малыш.
Смотрю вверх. Напротив стоит мужчина лет пятидесяти. Среднего роста, среднего сложения. Густые каштановые волосы, лысеющие на макушке. Потрепанное лицо выглядит так, словно по нему несколько раз заехали кулаком. Яркая сине-желтая шелковая гавайка, очки в круглой серебристой оправе и огромный золотой «Ролекс». Он пристально смотрит на меня. Ставит свой поднос на стол. Вид у него злющий.
Не помнишь меня?
Нет.
Ты два проклятых дня называл меня Джином Хэкманом[1]. Теперь-то я знаю, что они напичкали тебя этим дерьмом для детокса, но заруби на носу, я не Джин Хэкман, никогда им не был и никогда не буду. А если еще хоть раз назовешь меня чертовым Джином Хэкманом, то огребешь по полной.
Я смеюсь.
Я сказал что-то смешное?
Я снова смеюсь. Он просто вылитый Джин Хэкман.
По-твоему, это смешно, мелкий ублюдок?
Я смотрю на него, улыбаюсь. Зубов у меня нет, и от этой мысли улыбаюсь еще шире.
Ты считаешь это смешным, ублюдок.
Я смотрю на него. Взгляд у него тяжелый, злобный, ожесточенный. Мне знаком такой взгляд, и я знаю, как вести себя в таких случаях. Хорошо знакомая территория.
Я встаю, убираю улыбку с лица. Смотрю на этого типа, в столовой становится тихо. Я говорю.
Я не знаю тебя. Не помню, чтобы раньше встречал тебя. Не помню, чтобы разговаривал с тобой. И уж точно не помню, чтобы называл тебя Джином Хэкманом. Но если называл, то да, по-моему, это смешно.
Почти все смотрят на нас, сердце начинает биться чаще, а тип буравит меня глазами, и взгляд у него тяжелый, злобный, ожесточенный. Я понимаю, что сейчас не в лучшей форме, но плевать. Привожу себя в состояние боевой готовности. Напружиниваюсь, сжимаю челюсти, запрокидываю голову, взгляд фокусирую, держу его под прицелом и не мигаю.
Если ты, старикашка, хочешь, чтобы я надрал тебе задницу, так и быть, уважу.
Он ошарашен. Не испуган, а именно ошарашен.
Я не свожу с него глаз.
Ты что сказал?
Фокусирую взгляд, держу его под прицелом и не мигаю.
Я сказал, если ты, старикашка, хочешь, чтобы я надрал тебе задницу, так и быть, уважу.
Как тебя зовут, малыш?
Джеймс.
А я Леонард.
Он улыбается.
Не знаю, то ли ты самый тупой говнюк из всех, кого я встречал, то ли самый храбрый, но я готов пропустить твои слова мимо ушей, если ответишь на один вопрос.
Что за вопрос, Леонард?
Ты псих, Джеймс?
Да, Леонард, я псих. Псих на всю голову.
Здорово, потому что я тоже псих. Мне нравятся психи, я стараюсь иметь дело только с психами. Почему бы нам не сесть, не пообедать вместе. Глядишь, мы позабудем о наших разногласиях и подружимся. Я не прочь обзавестись другом в этом месте.
Давай.
Мы садимся, едим, Леонард рассказывает, я слушаю. Леонард из Лас-Вегаса, в клинике неделю. Лечится от кокаиновой зависимости, планировал свой приезд сюда примерно за год. Последние двенадцать месяцев ничего не делал, только вкусно ел, сладко пил, играл в гольф и нюхал кокаин в обе ноздри. Он извел немало деликатесов и дорогих вин, не говоря про коку, но если так будет продолжаться, он отбросит копыта. Уж не знаю, чем он зарабатывает на свою красивую жизнь, ясно только, что бизнес этот нелегальный и процветает. Я вижу это в его глазах, слышу в его словах, угадываю в той легкости, с которой он упоминает о вещах, от которых большинство людей приходит в ужас. Мне спокойно с Леонардом. С ним спокойней, чем с кем-либо другим. Он запросто говорит о самом отвратительном. Он преступник, судя по всему, и мне спокойно с ним.
Мы заканчиваем обед, относим подносы, выходим из столовой и отправляемся в актовый зал. Женщины рассаживаются в одном конце зала, мужчины в другом, всего человек двести пятьдесят. Все кучкуются по отделениям, и мы с Леонардом присоединяемся к двадцати пациентам Сойера. Доктор на сцене заводит речь о том, что алкоголизм и наркозависимость – это болезнь. Меня начинает тошнить. Волны тошноты накатывают и пульсируют внутри. Начинаю мерзнуть. Закрываю глаза, открываю и снова закрываю. То быстро-быстро, то медленно. Начинаю дрожать, смотрю на стул перед собой – он подпрыгивает. Потом стул заговаривает со мной, я отвожу глаза в сторону и вижу вокруг синие и серебристые огоньки, они танцуют повсюду. Закрываю глаза, тогда огоньки танцуют в мозгу. Чувствую, как медленно проталкивается через сердце кровь, думаю, что сейчас потеряю сознание, поэтому вцепляюсь в щеку, щиплю ее. Чувствую боль, как раз боль-то мне и нужна, потому что делает кошмар реальным, не дает сойти с ума. Боль очень сильная, но она мне необходима, чтобы не сойти с ума. Доктор завершает свое выступление, пациенты аплодируют, я отпускаю щеку, перевожу дух, смотрю прямо перед собой. Леонард хлопает меня по плечу.
Ты как, в порядке?
Нет.
Помощь нужна?
Нет.
А судя по виду – нужна.
Кой-чего надо, но не помощь.
Пока доктор со сцены отвечает на вопросы, я встаю и выхожу из актового зала. Иду в отделение с одной мыслью – лечь в постель, и с надеждой, что тогда мне полегчает. Когда прохожу мимо кабинета Кена, он меня окликает, но я не обращаю внимания, ковыляю дальше. Он выходит в коридор и окликает меня еще раз.
Джеймс!
Я останавливаюсь.
Что?
Я прислоняюсь к стене.
Как ты себя чувствуешь?
Он подходит ко мне.
Паршиво, мне нужно полежать.
Он останавливается передо мной.
Потом полежишь. Сейчас у тебя по расписанию тестирование.
Какое тестирование?
Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Я утром предупреждал.
Я не хочу идти на тестирование.
Почему?
Потому что дерьмово себя чувствую и мне нужно лечь.
Ты еще долго будешь себя дерьмово чувствовать.
Может быть, но я не хочу идти на тестирование.
Это обязательно.
Тогда можно позже?
Нет, тест нужно пройти сейчас. Это поможет нам определить, как тебе помочь, а мы хотим начать тебе помогать как можно скорее.
Хорошо.
Мы идем мимо актового зала, через лабиринт покрытых коврами коридоров, входим в маленькую пустую комнату с белыми стенами, столом и двумя стульями. На один садится Кен, на другой я. На столе перед нами толстая брошюра, листы для ответов и ручка. Кен говорит.
Это очень простой тест. Против каждого утверждения нужно указать «правда» или «ложь», думать над ответом можно, сколько потребуется. Когда закончишь, принесешь ответы мне в кабинет. Если меня не будет, оставишь на столе. Штатный психолог проанализирует их, и через два дня мы обсудим результаты.
Хорошо.
Все понятно?
Да.
Кен выходит, я хватаю ручку, лист, открываю брошюру и начинаю читать. Страницы исписаны разными утверждениями, начинаю отвечать.
Я уравновешенный человек.
Ложь.
Я считаю, что мир настроен против меня.
Ложь.
Я считаю, что в моих проблемах виноваты другие.
Ложь.
Я никому не доверяю.
Ложь.
Я ненавижу себя.
Правда.
Самоубийство разумный выход из положения.
Правда.
Мои грехи не искупить.
Перечитываю.
Мои грехи не искупить.
Ничего не отвечаю.
Я отвечаю «правда» или «ложь» на пятьсот шестьдесят шесть из пятисот шестидесяти семи вопросов теста, закрываю брошюру, откладываю ручку и глубоко вздыхаю. Прошла уйма времени, я устал и хочу выпить. Водки, джина, рома, текилы, бурбона, скотча. Плевать, чего. Просто дайте мне выпить. Глоток хорошего крепкого спиртного. Я убеждаю себя, что хочу всего один глоток, но это неправда. Я знаю, черт подери, что одного глотка мне мало. Беру листы с ответами, встаю, выхожу из комнаты, иду в кабинет Кена, кладу ответы на его стол и возвращаюсь в отделение. С дневными обязанностями покончено, и пациенты рассредоточились небольшими группами по обоим ярусам. Они играют в карты, болтают чепуху, покуривают сигареты и попивают кофе. Телефон свободен, а я не говорил ни с родителями, ни с Братом, ни с друзьями, так что захожу в телефонную кабинку, она на нижнем ярусе, беру стул, сажусь, снимаю трубку и набираю номер за номером.
Я звоню подружке Эми. Подружке Люсинде. Подружке Кортни. Все они были ее подругами, но после нашего расставания перешли ко мне. Я люблю всех троих, но разговор с ними расстраивает меня. Я звоню, они берут трубку. Я говорю, что в плохом состоянии, что сейчас в больнице, что хочу поправиться. Говорю, не уверен, что получится. Они плачут, спрашивают, не нужно ли мне чего, я говорю нет. Спрашивают, что могут сделать для меня. Я говорю, что они и так много сделали для меня. Вешаю трубку.
Звоню Брату. Он спрашивает, как я, я отвечаю, что держусь. Он говорит, что переживает за меня, как я тут, и хочет приехать навестить. Я говорю, что не знаю, какой сегодня день, но посетителей пускают по воскресеньям, и я буду рад, если он приедет. Он говорит – будь молодцом, а я говорю, что стараюсь. Он говорит, что гордится мной, а я говорю спасибо. Я говорю, что мне нужно идти, а он говорит, чтобы я позвонил, если мне что-нибудь потребуется, и я благодарю его. Вешаю трубку. Звоню родителям в гостиницу в Чикаго, трубку берет Мама.
Алло.
Привет, мам.
Минутку, Джеймс.
Слышу, как она зовет отца. Отец берет трубку.
Привет, Джеймс.
Привет, пап.
Как ты?
Хорошо.
Как там?
Хорошо.
Что сделано?
Прошел детоксикацию, это была жуть, а вчера перевели в отделение, и тут хорошо.
Как тебе кажется, лечение помогает?
Не знаю.
Слышу, Мама глубоко вздыхает.
Мы можем чем-то помочь?
Слышу, Мама начинает плакать.
Нет.
Слышу, как она плачет.
Мне пора, пап.
Слышу, как она продолжает плакать.
Все будет хорошо, Джеймс. Главное, держись.
Слышу, как она плачет.
Мне пора.
Если что нужно, звони.
До свидания.
Мы тебя любим.
Я вешаю трубку, смотрю в пол, думаю о Матери и об Отце, представляю, как они сидят там у себя в гостинице в Чикаго, и ломаю голову, неужели они меня и правда до сих пор любят и что мне мешает любить их, и как получилось, что два нормальных разумных человека произвели на свет такого урода, как я, жили со мной и терпели меня. Смотрю в пол и не понимаю. Как они терпели меня.
Поднимаю глаза, все из отделения направляются на ужин, так что встаю и тоже иду по коридорам в столовую, занимаю очередь, беру суп, стакан воды, сажусь за пустой стол и ем. Суп вкусный, и, доев свою порцию, хочу еще. Организм алчет, жаждет, требует хоть чего-то, раз не может получить того, что обычно. Беру вторую тарелку, потом третью и четвертую. Съедаю все подчистую и хочу еще. Вечно одно и то же – мне нужно еще, еще, еще.
Заканчиваю есть, выхожу из столовой, иду в актовый зал, сажусь рядом с Леонардом и слушаю, как какая-то женщина рассказывает историю своей жизни. За последние десять лет она сменила семнадцать реабилитационных центров. Она рассталась с мужем, с детьми, потеряла все сбережения и провела два года в тюрьме. Она держится уже восемнадцать месяцев и говорит, что впервые за всю жизнь счастлива. Говорит, что посвятила свою жизнь Богу и Двенадцати принципам и что каждый новый день лучше предыдущего. Удачи тебе, леди. Гребаной тебе удачи.
Она завершает свой рассказ, все ей хлопают, а я встаю и выхожу из зала, иду к себе в палату. Хочется лечь, но не тут-то было, приходится играть в карты с Джоном, Ларри и Уорреном. У Ларри, которого дожидается в Техасе жена с новорожденными дочками-двойняшками, приступ тоски. Сегодня у него обнаружили ВИЧ, который он подцепил, надо полагать, закидываясь кристаллическим метом и трахая шлюх в течение десяти лет. Он хочет признаться жене, но боится звонить, поэтому сидит с нами, играет в карты и толкует о том, как любит своих детишек. Мне хочется утешить его, но я не знаю, что сказать, поэтому не говорю ничего, просто смеюсь, когда он пытается шутить, и называю его дочек красавицами, когда он показывает фотографию.
Наступает ночь, мы убираем карты и ложимся. Мой организм по-прежнему требует того, чего нельзя, поэтому я не могу заснуть, лежу на спине, пялюсь в потолок. Думаю о своей жизни, как до нее докатился и какого черта мне теперь делать, слушаю, как Ларри плачет и бьется в подушку, молит о прощении. Незаметно мои глаза слипаются, и незаметно я засыпаю.
Сижу один за столом. Темно, понятия не имею, где я и как тут очутился. Кругом бутылки спиртного, на столе передо мной – гора кокаина и огромный мешок с желтым крэком. Есть и спиртовка, и пайп, и тюбик с клеем, и открытая банка с бензином.
Я оглядываюсь кругом. Мрак, спиртное, наркотики. Всего в избытке. Я понимаю, что один и никто мне не помешает. Я понимаю, что могу делать все, что хочу и сколько хочу.
Тянусь за бутылкой, какой-то внутренний голос велит остановиться, говорит, что я поступаю неправильно, что хватит, что я убиваю себя. Все равно тянусь за бутылкой, подношу ее к губам, делаю большой глоток, который обжигает мне рот, глотку, желудок.
На какой-то миг становится хорошо. Боль, которую я ношу с собой, проходит. Чувствую покой, удовольствие, тепло, уверенность, безопасность, цельность. Мне хорошо. Черт подери, мне и правда хорошо, твою ж мать.
Но это состояние проходит так же быстро, как пришло, и мне хочется его вернуть. Ради этого я готов что угодно сделать, проглотить, мне плевать, к чему это приведет. Я согласен на все. Я просто хочу вернуть это состояние любой ценой.
Делаю еще глоток. Не помогает. Хватаю другую бутылку, делаю глоток побольше. Не помогает. Хватаю одну бутылку за другой, ничего не помогает. Становится не лучше, а все хуже и хуже. Так ужасно, что ни рассказать, ни описать. Единственный выход – убить. Убить эту муку. Убить.
Перехожу к наркотикам. Делаю глубокий вдох, зарываюсь лицом в гору кокаина, вдыхаю, ноздри горят огнем, а глотка раскаляется, как адская сковородка. Я вдыхаю, втягиваю поглубже, вдыхаю, втягиваю поглубже. Глубоко, быстро, из носа начинает течь кровь. Я вытираю ее, вдыхаю, втягиваю поглубже. Снова и снова. Я начал убивать, но до конца еще далеко.
Разрываю мешок с крэком, зачерпываю пригоршню желтых кристаллов. Снова вытираю кровь из носа, хватаю длинный пайп, запихиваю в него кристаллы. Запихнув, снова вытираю кровь, зажигаю спиртовку, подношу трубку к губам, прикладываю конец к языку белого пламени. Вдыхаю. Горячая смесь медовой мяты с напалмом прошибает тысячекрат сильнее, чем самый чистый порошок, тысячекрат опаснее. Я продолжаю, и приход набирает обороты, нарастает, усиливается и заполняет меня. Мне снова хорошо, великолепно, бесподобно, неописуемо, это лучше, чем все оргазмы, которые у меня когда-либо были и будут, вместе взятые. Боже мой, я кончаю. Боже мой, гребаный боже, я кончаю. Да будет так, да будет так, да будет так. Да будет, твою мать, так.
Как накатило, так и укатило. И знаю, что укатило навсегда, сменилось страхом, тоской, звериной яростью. И ни следа от пережитого блаженства. Хватаю кристаллы, пихаю в пайп, дышу. Хватаю, пихаю, дышу. Пламя белое, стекло розовое, кожа на пальцах покрывается волдырями, но мне плевать. Хватаю кристаллы, пихаю в пайп, дышу. И так пока мешок не опустеет. И тогда пихаю в пайп мешок и дышу полиэтиленом. Я чувствую звериную ярость, я должен ее убить. Убить свое сердце, свой разум, себя.
Еще есть клей и бензин, сгодятся оба. Беру клей, подношу тюбик к носу, провожу толстую полоску между ноздрями и губой. С каждым вдохом сильнее ощущаю трупное зловоние преисподней, с каждым вдохом сильнее хочется вдыхать еще. Сейчас убиваю себя быстрее, эффективнее, но все равно недостаточно быстро и эффективно. Я наклоняюсь, сую нос почти в самый бензин и смотрю в лицо химического самоистребления. Это лицо – мой друг, мой враг, мой единственный выход. Я выбираю его.
Вдох, выдох, быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Больше не чувствую ничего или же чувствую так сильно, что мой ум, мое тело не в состоянии эти чувства вместить. В этой зоне мне хорошо. Это то, чего я хочу, к чему стремлюсь, в чем нуждаюсь, здесь я провел последние несколько лет своей жизни.
Ощущаю холод, озноб, открываю глаза. В палате темно и тихо. Часы возле кровати Джона показывают шесть пятнадцать. Слышно, как Уоррен храпит. Сажусь, меня трясет, растираю тело. Руки покрылись гусиной кожей, волосы на затылке стоят дыбом, мне страшно. Я боюсь этого сна, этого утра, этого места, этих людей, боюсь жизни без наркотиков и алкоголя, боюсь себя, боюсь своих поступков, боюсь того, что готовит этот день, боюсь до усрачки, до полного отупения. Мне страшно, я один, еще совсем рано, все спят. Вылезаю из постели, иду в ванную, принимаю душ, вытираюсь, тут боль пронзает нутро, я падаю на колени, ползу к унитазу, блюю. Рвет сильней, чем обычно, и больнее. Рвота гуще, больше крови, больше сгустков. Каждый спазм выкручивает меня наизнанку, обжигает глотку, разрывает грудь, и мне кажется, что я задохнусь. В самом деле, такое чувство, будто я задыхаюсь, и мне этого даже хочется, потому что хотя бы все кончится. Я хочу, чтобы все кончилось.
Тошнота проходит, я сижу на полу, привалившись к унитазу. Чувства начинают оживать волнами, и слезы подступают к глазам. Все, что я помню, чем являюсь, что совершил, все вспыхивает у меня перед глазами. Мое прошлое, настоящее, будущее. Мои друзья, враги, друзья, ставшие врагами. Где я жил, что видел, что делал. Что испортил и разрушил.
Я начинаю плакать. Слезы катятся по лицу, тихие рыдания вырываются из груди. Не понимаю, что я тут делаю, не понимаю, почему я тут, не понимаю, как я до этого докатился. Пытаюсь найти ответы, но их нет как нет. Я затрахался искать ответы. Я вообще затрахался. Слезы текут сильнее, рыдания становятся громче, я сворачиваюсь на полу, как младенец, обнимаю себя. Обнимаю себя, вою, сейчас утро, я где-то в Миннесоте, не пил уже пять дней, не понимаю, что за херня творится со мной.
Слезы останавливаются, рыдания прекращаются, я сажусь и вытираю лицо. Слышны разговоры за дверью, я не хочу, чтобы меня застали в таком виде, поэтому встаю, делаю глубокий вдох, говорю себе, что все в порядке, и выхожу из ванной.
Захожу в палату. Уоррен с Джоном стоят возле кровати Ларри. Уоррен, заслышав, что я вхожу, смотрит на меня.
Ты не видел Ларри?
Нет.
И вещей его нет.
Я не видел его.
Наверное, он сбежал.
Не знаю, что вам сказать.
Мы хотим предупредить наставников. Если увидишь его, пошли к нам.
Хорошо.
Они уходят, а я иду к своей кровати, одеваюсь и думаю о Ларри. Он сбежал. Нет сомнений, что он сбежал, и нет сомнений, что он не вернется. Он там, снаружи, один, на холоде, стоит, может на обочине шоссе, со своими сумками и голосует, подняв палец. Думает о своей жене и чудесных дочках. Хочет увидеть их, обнять, поцеловать. Хочет сказать, что раскаивается, что исправился, что хочет быть мужем и отцом и сможет это. Умоляет их никогда не поступать, как он, потому что тогда они умрут. Может, не завтра, не через неделю, не через месяц и не через год, но рано или поздно умрут. Помоги тебе бог, Ларри, мысленно я с тобой. Пусть дома у тебя будет покой, пусть жена и дочери не болеют ВИЧ, пусть оставшиеся дни на этой земле ты будешь счастлив, как никогда. Помоги тебе Бог, Ларри. Помоги тебе Бог.
Одевшись, выхожу из палаты. Беру принадлежности для уборки, иду в общий сортир и, хоть он не такой уж грязный, опускаюсь на колени и начинаю намывать его.
Привет.
Оборачиваюсь. Рой стоит в дверях.
Ты вчера паршиво убрался.
Я откладываю губку.
Что?
Распрямляюсь.
Ты вчера паршиво убрался.
Рой делает шаг вперед.
А по-моему, хорошо.
Он делает еще шаг.
Паршиво. Сегодня уберись как следует, а то я расскажу про тебя.
Помещение маленькое.
Ты понял? Или ты убираешь эти туалеты на совесть, или я пожалуюсь.
Чувствую себя в западне.
Я уберусь хорошо. Обещаю.
Просто как крыса в клетке.
Ты уберешься не просто хорошо. Ты надраишь все до блеска, или я позабочусь, чтобы тебя отсюда вышвырнули.
Как крыса в клетке, которая хочет вырваться.
А НУ ВАЛИ ОТСЮДА НАФИГ
Он делает еще шаг вперед. Я чувствую его дыхание, брызги его слюны на своих щеках. Ярость закипает сильнее.
Я ПОЗАБОЧУСЬ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ВЫШВЫРНУЛИ ОТСЮДА КВЕРХУ ЗАДНИЦЕЙ, МЕЛКИЙ ГОВНЮК!
Я протягиваю руку, хватаю Роя за глотку, сжимаю, швыряю об стену, он ударяется с глухим звуком и начинает вопить.
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
А теперь, ублюдок, что ты скажешь – чисто я вымыл туалеты или нет?
Мне хочется ударить его.
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
Мне хочется врезать ему прямо в мерзкую рожу.
А теперь, ублюдок, что ты скажешь – чисто я вымыл туалеты или нет?
Хочется оторвать ему ноги и запихнуть в глотку.
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
Хочется прикончить его на месте. Превратить в кровавое месиво из мяса и костей.
А ТЕПЕРЬ, УБЛЮДОК, ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ – ЧИСТО Я ВЫМЫЛ ТУАЛЕТЫ ИЛИ НЕТ?
Убить бы этого ублюдка.
ЧИСТО Я ВЫМЫЛ ИЛИ НЕТ?
ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ
Двое врываются в туалет, хватают меня и оттаскивают. Я отталкиваю их.
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ КО МНЕ, ЧЕРТ ПОДЕРИ
Появляются еще люди. Поднимают Роя на ноги, встают между нами, смотрят на меня, как на чудовище. Я смотрю сквозь них. Смотрю прямо на Роя.
Он напал на меня, он сумасшедший, уведите его от меня.
Кричит и плачет Рой. Слезы льются по его лицу, он дышит часто и тяжело. Его пытаются успокоить.
Я пришел, чтобы помочь ему убрать туалет, я только хотел помочь ему, а он набросился на меня. Я не сделал ему ничего плохого.
Все таращатся на меня. Как будто я чудовище.
Я поворачиваюсь, иду к себе в палату, в ней никого, начинаю шагать из угла в угол, меня трясет, пытаюсь взять себя в руки. Одна половина моего существа хочет вернуться в холл, сразиться с первым попавшимся, избить его или быть избитым, а другая половина хочет спрятаться. Все мое существо требует выпивки, и коки, и крэка, и клея с бензином, как в том сне.
Ярость растет. Я шагаю из угла в угол, меня трясет, пытаюсь взять себя в руки. Нужно успокоиться, но не знаю как. Все способы, к которым я привык, которые помогают мне выживать, без которых не могу обойтись, сейчас недоступны, вместо них доктора, медсестры и наставники, правила и распорядки, таблетки и лекции, кормежка по расписанию и обязательная работа по утрам, и ни хера из этого мне на хер не сдалось. Ни хера.
Перестаю шагать. Смотрю в пол. Сжимаю кулаки, сжимаю изо всех сил, каждая клетка тела напрягается, словно перед взрывом, а ярость вот-вот прорвется, и я не знаю, что делать, куда бежать, как остановить ее, а взрыв ближе, ближе, ближе. Взрыв. Я визжу. На глаза попадается кровать, хватаю ее, матрас летит на пол, а я размахиваю металлическим каркасом и все крушу, все, все, но мне этого мало, и я топчу каркас ногами, топчу, топчу, топчу, болты и шурупы разлетаются в разные стороны, железки скрипят и гнутся, я издаю вопль, становится легче, но это только начало. Бросаюсь к тумбочке, выдергиваю ящики, швыряю их, они отлетают на другой конец палаты, и теперь это просто груда дощечек. А корпус тумбочки все еще тут, хватаю его и швыряю как можно дальше, вот и он превратился в груду дощечек.
Кто-то появляется в дверях, что-то кричит, но я не слышу. Я вырвался туда, где ничего не слышишь, не видишь, не чувствуешь, не мыслишь. Я стал глухим, немым, слепым, бесчувственным, бессмысленным, неуправляемым.
Вот еще комод. А вот обломки комода. Еще одна кровать, и ее хватаю и ломаю. Еще один вопль, а потом налетают мужчины в белом, чьи-то руки держат меня, я кричу.
Игла.
Я в другой палате. Это простая белая комната без мебели, есть только кровать. Не знаю, как я здесь оказался и сколько времени провел и какой теперь день и час. Ясно только, что я по-прежнему в клинике. Ясно потому, что слышны вопли. Вопли наркоманов, лишенных наркотиков. Вопли мертвецов, лишенных смерти. Я лежу на спине и смотрю в потолок. Меня уже дважды вырвало сегодня, но не так сильно. Без крови, желчи и ошметков, только водой и кислотой. Меня это радует. Единственное, что меня радует в моем положении.
Жду, что сейчас войдут и скажут, чтобы я убирался из клиники. Пытаюсь сообразить, как быть дальше. Жить негде, идти некуда. Денег опять же нет. Ни имущества, ни работы. И никакой надежды обзавестись деньгами, имуществом, работой. У меня нет ни уверенности в себе, ни самооценки, ни чувства собственного достоинства. От чувства самосохранения ничего не осталось давным-давно. Я не стану обращаться к Родителям, к Брату или к немногим оставшимся друзьям. Они поставят на мне крест, как только меня вышвырнут отсюда. Я и сам поставлю на себе крест, как только меня вышвырнут отсюда.
Стук в дверь, не обращаю внимания. Снова стук, снова не обращаю. Не хочу никого видеть, разговаривать, вообще знать никого не хочу. Нужно решить, как жить дальше.
Дверь открывается, входит Кен, с ним мужчина и женщина, которые мне не знакомы, сажусь на кровати. Мужчина выше Кена и плотней, мускулистей, короткие черные волосы топорщатся. На нем массивные черные ботинки, выцветшие черные джинсы и черная футболка с принтом – под мотоциклом Харли подпись «Только вперед, только трезвый». Руки у него покрыты татуировками, на косточках пальцев – шрамы. Женщина маленького роста, полная, длинные седые волосы собраны в конский хвост, напоминает Мону Лизу. На ней грубая мешковатая одежда, шерстяные носки, походные ботинки, на пальцах серебряные кольца, на шее – кулон с бирюзой. Ни татуировок, ни шрамов не видно. Кен заговаривает.
Привет, Джеймс.
Привет.
Не против, если мы присядем?
Как хотите.
Кен садится на край кровати, женщина – на пол, скрестив ноги, а мужчина остается стоять.
Кен говорит.
Это Линкольн.
Он указывает на мужчину. Мужчина внимательно смотрит на меня.
Начальник отделения «Сойер».
Я тоже смотрю на него.
А это Джоанна.
Линкольн все смотрит на меня.
Наш штатный психолог.
Я смотрю на нее.
Мы хотели поговорить о вчерашнем происшествии.
Линкольн смотрит на меня, я на него.
Потом он открывает рот.
Линкольн говорит. Голос у него низкий, грубый, как скрежет ржавого железа.
Мы хотим послушать тебя. Узнать твою точку зрения.
Хотите вышвырнуть меня?
Кен смотрит на Линкольна, Линкольн на Джоанну. Джоанна говорит.
Пока мы хотим просто поговорить.
С чего начинать?
Линкольн отвечает.
А с чего все началось?
Мне приснился сон, ужасный сон, который меня совсем доконал. Думаю, с него все началось.
Кен говорит.
Какой сон?
Я сижу в комнате один, не знаю, где я, как там оказался, и я напился, накурился, надышался. Все было, как на самом деле, и я проснулся от страха.
Джоанна говорит.
Это сон употребления.
Что такое сон употребления?
Когда алкоголик или наркоман перестает употреблять, его подсознание требует дозы. Эта потребность иногда проявляется в снах, которые кажутся совершенно реальными, и в каком-то смысле они реальны. Хотя ты ничего не употреблял, какая-то часть твоего мозга получила свое. Вполне вероятно, такие сны будут тебе сниться еще в течение года.
Забавно.
Линкольн говорит.
Так что же было дальше?
Он смотрит на меня.
Я пошел в ванную, меня стошнило, стало хуже. Я решился посмотреть на себя в зеркало, и мне опять стало тошно – уже по другой причине. В общем, я чувствовал себя погано. Потом я пошел мыть туалеты.
Он все смотрит на меня.
А потом ты напал на Роя.
Я тоже смотрю на него.
Рой доставал меня. Я хотел отвязаться от него.
Кен говорит.
Почему он доставал тебя?
Понятия не имею.
Он правда доставал тебя?
Он цепляется ко мне все время, пока я здесь. Почему – понятия не имею.
Что он делает?
Говорит, что я все время нарушаю правила, что я все делаю плохо, что он добьется, чтобы меня вышвырнули отсюда.
Говорит Линкольн.
А тебе это не нравится, верно?
Я ничего такого не делаю. Он не имеет права поливать меня дерьмом.
А у тебя есть право нападать на него?
Он первый прицепился ко мне.
А что, если бы я прицепился к тебе?
Я бы послал вас.
Линкольн смотрит на меня.
Говорит Кен.
Рой сказал нам, что пришел помочь тебе, а ты без всякой причины набросился на него.
Рой врет, ублюдок.
Говорит Линкольн.
Выбирай выражения.
Пошел ты на…
Что ты сказал?
Я сказал – пошел ты на…
ВЫБИРАЙ ВЫРАЖЕНИЯ.
ПОШЕЛ ТЫ…
Говорит Кен.
Успокойся, Джеймс.
Ты, Кен, тоже пошел.
Джоанна говорит, глядя на Кена и Линкольна.
Пожалуйста, оставьте нас ненадолго вдвоем.
Линкольн говорит.
Мы еще не закончили.
Джоанна говорит.
Думаю, будет лучше, если вы оставите нас ненадолго вдвоем. А потом продолжим разговор все вместе.
Линкольн поворачивается, молча выходит из комнаты. Кен смотрит на меня и говорит.
Если захочешь что-то сказать, я у себя в кабинете.
Он выходит за Линкольном, закрыв дверь, и мы остаемся вдвоем с Джоанной. Она прислоняется спиной к стене, делает глубокий вдох, потом выдох, я сижу на кровати, смотрю на нее, а она сидит на полу и дышит, и мне надоедает молчание и звук ее дыхания. Мне хочется остаться одному и обдумать, как быть дальше. Я говорю.
Что вам надо?
Она открывает глаза.
Просто решила посидеть с тобой несколько минут. Вдруг ты захочешь что-нибудь рассказать.
Мне нечего рассказывать.
Хорошо.
Она встает.
У тебя есть какие-нибудь просьбы?
Да.
Какие?
Я не хочу больше принимать транквилизатор.
Почему?
От него мысли путаются и все как в дурном мерзком сне. Лучше ничего не принимать, чем это дерьмо.
Я скажу медсестре, чтобы отменила его.
Спасибо.
Это все?
Что у меня на сегодня назначено?
Все как в обычный день. Минут через десять завтрак, потом лекция. В десять тридцать – прием у стоматолога, в десять часов нужно подойти к машине. Делай все как обычно, а если захочешь что-нибудь обсудить, я в кабинете три-двенадцать.
Спасибо.
Она направляется к выходу.
Мы скоро увидимся?
Возможно.
Она выходит, я остаюсь один, мне не по себе от того, что я в клинике. Одна часть меня испытывает облегчение, другая часть – досаду, еще какая-то часть – растерянность, и, короче, я понятия не имею, как дальше быть. Уйти или остаться. Уйти или остаться. Уйти – значит опять впасть в наркозависимость, а дальше – тюрьма или смерть. Остаться – значит избавиться от зависимости, а дальше – неизвестность. Не знаю, что пугает меня больше. Встаю, открываю дверь, обнаруживаю, что нахожусь в терапевтическом отделении. Занимаю очередь за таблетками, начинается обычный день, повторяю про себя номер кабинета Джоанны. Три-двенадцать.
Беру свои антибиотики, они проскакивают легче, чем раньше, иду по чистым ярким коридорам в столовую. При входе в стеклянный коридор понимаю, что опоздал, все поднимают головы, смотрят на меня, я не обращаю внимания, беру тарелку серой овсяной размазни, сажусь. Я знаю, что все по-прежнему смотрят на меня, но не обращаю внимания. Леонард направляется ко мне, с ним еще двое. Один – толстый коротышка в черной бандане. Сзади из-под нее свисают черные космы. В джинсах, черной футболке, через всю щеку шрам. Другой – высокий, худой, в обтягивающих черных джинсах, черной рубашке, застегнутой на все пуговицы, и черных ковбойских сапогах. Лицо у него костлявое, вытянутое, на руках проступают вены. Вид у обоих спутников Леонарда агрессивный и злобный. Куда более устрашающий, чем у среднестатистического пациента клиники. Леонард ставит свой поднос на мой стол.
Привет, малыш.
Привет.
Это Эд.
Указывает на коротышку.
Это Тед.
Указывает на длинного.
Длинный кивает. Я тоже.
Не против, если мы присядем к тебе?
Как вам угодно.
Леонард садится.
Спасибо.
Эд и Тед следуют его примеру. Леонард говорит.
Слышал, ты вчера надрал задницу Рою.
Я смотрю в тарелку с кашей. Не отвечаю.
Терпеть не могу этого задрота, так что не бойся, дальше меня ничего не пойдет.
Я смотрю на Леонарда. Не отвечаю.
Тед говорит. У него сильный южный акцент.
Видел бы ты его вчера. Совсем офоршмачился. Плакал, кричал, визжал, полное дерьмо. Так струхнул, что обоссался.
Я смотрю на Теда. Не отвечаю.
Говорит Эд. У него низкий, хриплый голос. Голос работяги, синего воротничка.
А чего ты сделал-то с ним?
Я смотрю на Эда.
Мне не хочется разговаривать ни с кем, ни о чем.
Смотрю на шрам. Он глубокий, страшный.
Мне просто интересно, чего ты с ним сделал.
Я просто спросил – как ему кажется, чисто ли я вымыл туалет, и немножко поучил.
Леонард говорит.
И только?
Да, и только.
Я встаю, забираю свой поднос, перехожу к пустому столу, сажусь и ем кашу. Она серая, вязкая и противная, но сладкая, и поэтому мне нравится. Язык впитывает эту сладость – первый вкус, который я различаю после падения с пожарной лестницы, не считая вкуса виски, вина, курева и блевотины. Мне нравится сладость, ее вкус означает, что какие-то чувства восстанавливаются. Со временем восстановятся все, если останусь здесь. Я смогу воспринимать вкус, запах, ощущать все, что нормальные люди ощущают каждый день. Если останусь здесь.
Кладу последнюю ложку каши в рот и, пока глотаю, чувствую, что желудок пытается выпихнуть ее обратно. Сжимаю челюсти, задерживаю дыхание, напрягаю мышцы живота, чтобы остановить рвоту. Но срабатывает рвотный рефлекс, болезненные позывы следуют друг за другом, начинаю давиться. Чувствую комок каши в горле, она уже совсем не сладкая на вкус, я делаю вдох, глотаю, каша опускается по пищеводу. Но, едва опустившись, снова поднимается к горлу. Процесс повторяется. Сжимаю челюсти, напрягаюсь, вдыхаю, глотаю. Сжимаю челюсти, напрягаюсь, вдыхаю, глотаю. Мой организм всячески сопротивляется тому, что полезно. Я сопротивляюсь тому, что полезно.
Наконец, кашу удается утрясти, она распирает меня, я глубоко вздыхаю и откидываюсь на спинку стула. Живот набит так, что аж печет. Мой желудок не привык принимать столько пищи, да еще по расписанию. Такое впечатление, что он растянулся и забирает всю мою энергию. Простое переваривание тарелки каши забирает у меня всю энергию. Я проснулся всего час назад.
Пациенты выходят из столовой и направляются в актовый зал. Встаю и я, отношу поднос, иду за всеми по стеклянному коридору, через лабиринт коридоров, мимо рядов окон, открытых дверей и улыбающихся лиц персонала. Я ни на кого не смотрю, никого не узнаю. Я в своих мыслях, а в своих мыслях я одинок. Пытаюсь решить, как мне быть дальше.
Нахожу свободное место среди пациентов своего отделения и сажусь. Рядом ни справа, ни слева никого, и как раз это меня устраивает. Похоже, остальных это тоже устраивает. Все поглядывают на меня, но, когда я смотрю в ответ, отворачиваются. Отворачиваются быстро, а я смотрю на них долго, пристально, чтобы они почувствовали, что я смотрю на них, и поняли, что я хочу сообщить им этим взглядом, и больше на меня не смотрели. Они и не смотрят больше. Рой сидит впереди через два ряда, что-то шепчет чуваку, которого я не знаю, и тот зыркает на меня исподтишка краем глаза. Я смотрю на него. Его шепот становится возбужденнее, сопровождается сердитыми жестами. Мужик искоса смотрит на меня. Рой заканчивает фразу, и они смеются. У меня нет настроения смеяться.
Привет, Рой.
Рой замолкает, смотрит на меня.
Что-то не так?
Все наше отделение смотрит на меня.
Нет, ничего.
Если что не так, скажи мне в лицо.
Мне нечего сказать.
Тогда почему бы тебе с этим жирным поганцем не заткнуться на хер?
Рой ловит воздух ртом, мужик в растерянности. Слышу чей-то смех. Я не свожу глаз с Роя, пока они с мужиком не отворачиваются. Они смирно смотрят прямо перед собой и больше не перешептываются.
На сцену выходит женщина, начинает лекцию. Она заводит речь про секс и наркозависимость, про то, что у алкоголиков и наркоманов часто существует связь между предпочитаемым наркотиком и предпочитаемым видом секса. Она говорит, что эти предпочтения могут принять опасные и извращенные формы и завести крайне далеко. В прямом и переносном смысле. Так далеко, что оттуда нельзя найти выхода и невозможно вернуться.
Лекция заканчивается, а я сижу, жду, смотрю, как все выходят, потом встаю и тоже выхожу, а каша по-прежнему камнем лежит в желудке, да и транквилизатор, выпитый за последние дни, еще остаточно действует. Я чувствую себя тяжелым, неповоротливым, но исподволь зарождается новое ощущение – оно подталкивает, требует, теребит, расшатывает, вызывает тревогу, доводит до бешенства и отчаяния. Пока ощущение тяжести перевешивает тревогу, но это пока.
Я иду в терапевтическое отделение, разыскиваю медсестру, говорю ей, что мне нужно к стоматологу, она справляется в книге внешних назначений, делает пометку и посылает в приемную дожидаться. В приемной есть окна, и я могу смотреть на улицу. Хотя уже позднее утро, все еще темно. Гремит гром, идет дождь со снегом. Ветер взметает все, что ни попадется по дороге. У деревьев такой вид, словно они хотят в укрытие. Омерзительная погода, и дальше будет еще хуже.
В приемную входит Хэнк. Он упакован в толстую, теплую, непромокаемую куртку. Ботинки на меху.
Привет, малыш.
Привет, Хэнк.
Мы пожимаем руки.
Как дела?
Получше.
Я встаю.
Бьюсь об заклад, что не особо.
Я улыбаюсь.
Да, не особо.
Готов?
Да.
Идем.
Мы выходим из приемной через короткий коридор на улицу. Фургон стоит в двухстах футах от входа, я пускаюсь бегом. Дождь со снегом и ветром впивается в кожу, холод пробирает до костей.
Открываю переднюю дверь, запрыгиваю в фургон, внутри тепло. На спинке моего сиденья висит старая, потрепанная непогодой куртка вроде той, что на Хэнке. Беру, натягиваю ее, устраиваюсь поудобнее, обхватываю себя руками. Через несколько секунд появляется Хэнк, который мог и не бежать, открывает свою дверь и садится.
Ты нашел куртку.
Сложно было не найти.
Я носил ее, когда плавал на своем судне.
Да, можно догадаться по ее виду.
Это хорошая куртка.
Сейчас самое то, что надо.
Я слыхал, что у тебя нет ничего из вещей, вот и решил, что она тебе пригодится.
Спасибо, Хэнк, я тебе очень благодарен.
Не стоит.
Я правда очень благодарен. Спасибо тебе.
Не за что.
Хэнк заводит мотор, мы срываемся с места, едем в городишко. Хэнк сосредоточенно следит за дорогой, а я смотрю по сторонам и размышляю. Несколько дней назад природа начала замедлять движение соков, готовилась к зиме и смерти. И вот она замедлила соки, приготовилась и умерла. На деревьях ни листочка, на земле ни травинки, не видно ни птиц, ни насекомых, ни зверья. Громыхает все громче, ближе, снежный дождь становится сильнее и гуще, и ветер норовит опрокинуть фургон в канаву. Хэнк не отрывает глаз от дороги. Я смотрю в окно и размышляю. Я помню подробно весь тот месяц, когда начал наблюдать за ней. Она из Коннектикута, ее отец был крупным инвестиционным банкиром в Нью-Йорке, а мать играла в теннис и бридж и была президентом местной молодежной лиги. Она ходила в престижную женскую школу в Массачусетсе. У нее были старшие брат и сестра. Друга никогда не было.
Я познакомился с ней, когда мой приятель попросил продать ему немного дури. Сам он не курил, поэтому я спросил, для кого, он ответил – для девчонки по имени Люсинда, которая живет в моей общаге, я сказал, что должен сначала познакомиться с ней, он назвал мне номер комнаты, и я нашел ее, постучался, дверь открылась, за ней стояла она. Высокая, тонкая, с толстыми косами цвета льна, глаза – осколки арктической льдины. Я не был знаком с Люсиндой, не знал, что у нее есть соседка, и рта открыть не мог, а она стояла на пороге. Она стояла на пороге.
Привет.
Я все смотрел на нее.
Могу тебе чем-нибудь помочь?
Я попытался открыть рот, но он не слушался, а сердце колотилось, руки дрожали, голова кружилась, я испугался, разволновался и чувствовал себя полным ничтожеством. Она стояла передо мной. Прямо передо мной. Высокая, тонкая, с длинными светлыми волосами, как нити шелка, глаза – осколки арктической льдины.
Я развернулся и вышел, так и не проронив ни слова. Не оглядываясь, пошел к себе в комнату, достал бутылку хорошего спиртного и основательно набухался. Сердце все так же колотилось, руки дрожали, впервые в жизни не от алкоголя и наркотиков, и впервые в жизни алкоголь и наркотики не помогли успокоиться.
Въезжаем в город, на улицах пустынно. На стоянках нет автомобилей, в магазинах – покупателей, молодые мамы не гуляют с детьми, старики не сидят на скамейках, потягивая кофе и обмениваясь вековой мудростью. Магазины открыты, но простаивают зря. Только ветер, да гром, да дождь со снегом не теряют времени зря. Наяривают все сильнее.
Паркуемся на том же месте перед тем же домом, Хэнк нагибается, открывает ящик для перчаток, вынимает два старых желтых теннисных мячика. Протягивает мне.
Думаю, они тебе пригодятся.
Зачем?
Я мало в чем разбираюсь, разве что рыбу ловить умею да машину водить, но сдается мне, что тебе сегодня придется несладко.
Возможно.
Обезболивающее или анестетики тебе запрещены, пока ты в реабилитационном центре. Я открыл эту штуку для себя. Когда станет больно, сожми их покрепче.
Я беру мячики, сжимаю.
Спасибо.
Не за что.
Он выходит из фургона, я за ним, мы захлопываем двери и идем к дому, поднимаемся по лестнице в кабинет стоматолога. Дверь открыта, и мы входим внутрь, я сажусь на диван в вестибюле, а Хэнк идет в приемную, разговаривает с администратором. Прямо передо мной лежит книжка про слоненка Бабара. Беру, начинаю читать. Помню, как читал ее ребенком, упивался и воображал, что мы с Бабаром друзья, что я его постоянный спутник во всех приключениях. Он летит на луну, я с ним. Он сражается с разбойниками в Египте, я с ним. Он спасает свою подружку от охотников за слоновой костью в саванне, я руковожу операцией. Я любил этого треклятого слоненка, и мне нравилось дружить с ним. В моем несчастливом, безрадостном детстве Бабар – одно из немногих светлых воспоминаний. Мы с Бабаром вдвоем, мы всегда одолеем любых подонков. Хэнк возвращается, садится рядом.
Они готовы принять тебя.
Хорошо.
А ты готов?
Сжимаю теннисные мячики.
Да.
Интересно будет посмотреть на тебя с зубами.
Интересно будет жить с зубами.
Встаю.
Я скоро вернусь, Хэнк. Спасибо тебе за все.
Брось ты.
Иду к двери, возле которой ждет медсестра. Когда прохожу мимо, она вжимается в стену, чтобы не коснуться меня, это возвращает меня из сладостных воспоминаний про слоненка к действительности, напоминает, кто я такой. Я алкоголик, наркоман, преступник. У меня нет четырех передних зубов. У меня дырка в щеке, заштопанная сорок одним стежком. У меня сломан нос, черные синяки под глазами. Со мной сопровождающий, потому что я пациент реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов. На мне чужая одежда, потому что нет своей. Я сжимаю в руках два потертых желтых теннисных мяча, потому что мне запрещены анестетики и болеутоляющие. Я алкоголик. Я наркоман. Я преступник. Вот кто я такой, и нечего обижаться на медсестру, что она боится коснуться меня. На ее месте я бы тоже боялся. Она отводит меня в маленький кабинет. Как две капли воды похожий на кабинеты, в которых я бываю в последнее время, только еще чище и белее. Вдоль стен шкафы из нержавеющей стали, подносы с острыми блестящими инструментами, с потолка свисает большая галогеновая лампа. В центре – хирургическое кресло. Металлическое, с зелеными подушками, длинными зловещими подлокотниками, разными кнопками, рычажками и прочими приспособлениями. Похоже на средневековое пыточное устройство. Я знаю, что оно дожидается меня. Прохожу мимо медсестры, сажусь и пытаюсь устроиться поудобнее, но напрасно. Пыточные устройства не предназначены для удобства.
Доктор Стивенс скоро будет.
Хорошо.
Принести вам что-нибудь пока?
Книжку про Бабара.
Простите?
Если можно, книжку про слоненка Бабара. Лежит у вас в вестибюле.
Одну минутку.
Спасибо.
Она выходит, я остаюсь один, озираюсь вокруг, и меня охватывает ужас. Остатки транквилизатора почти выветрились, пища в желудке достигла стадии, когда ее невозможно удерживать в себе, все процессы ускоряются. В сердце, в голове, в крови. Руки дрожат, но это не крупная дрожь абстиненции. Это быстрая, мелкая дрожь, это дрожь страха. Страха перед этой комнатой, перед этим креслом, перед этими шкафами, перед этими инструментами, перед тем, что мне предстоит, перед болью, такой сильной, что нужно сжимать теннисные мячики, чтобы ее вытерпеть.
Медсестра возвращается с книжкой про Бабара, подает ее мне и уходит. Я кладу теннисные мячики на колени, открываю книжку и пытаюсь читать. Переворачиваю страницы, вижу слова, вижу картинки, но понять слова и картинки не могу. Все пустилось вскачь. Сердце, давление, мысли. Ни на чем не могу сосредоточиться. Даже на Бабаре.
Закрываю книгу, прижимаю ее к груди и жду. Все дрожит. Руки, ноги, каждый мускул в ноге, грудь, подбородок, оставшиеся зубы. Беру мячики, сжимаю их, стараюсь победить дрожь с помощью мячиков, и мячи тоже начинают дрожать. Все дрожит.
Дверь открывается, входит доктор Стивенс, стоматолог-лесоруб, а с ним еще один доктор и две медсестры. Доктор Стивенс придвигает табурет из нержавеющей стали и садится возле моего кресла. Другой стоматолог и медсестры выбирают инструменты, выдвигают ящики, открывают дверцы шкафов, закрывают дверцы. Эти звуки режут слух, я не понимаю, что они делают, но точно знаю, что скоро результат их приготовлений прочувствую своим ртом.
Привет, Джеймс.
Привет.
Прости, что заставил ждать. Мы обсуждали план действий на сегодня.
Нет проблем.
Второй стоматолог наклоняется и шепчет что-то доктору Стивенсу на ухо. Доктор Стивенс кивает. Скоро результат их переговоров я прочувствую своим ртом.
Начнем с того, что поставим коронки на два боковых зуба. Мы еще раз изучили рентгеновский снимок, корни не повреждены, опора надежная. Если сделать коронки, будут прекрасно стоять.
Хорошо.
После этого нужно залечить каналы в двух передних зубах. Корни расшатались, если мы не залечим их, они почернеют и умрут. А после этого выпадут. Думаю, ты этого не хочешь.
Не хочу.
Прости меня за прямоту.
Я благодарен вам за прямоту.
Я хочу, чтобы ты хорошо представлял, что мы будем делать и почему.
Я уже достаточно представляю.
Еще один момент.
Какой?
Будет очень больно. Поскольку ты лечишься в реабилитационном центре от наркомании, мы не можем применять наркоз, ни общий, ни местный, а когда закончим, не сможем дать обезболивающие таблетки.
Я слегка сжимаю мячики.
Знаю.
Как думаешь, ты выдержишь?
Бывало и хуже.
Правда?
Бывало.
Доктор Стивенс смотрит на меня, как будто мои слова находятся за гранью его понимания. Я сознаю, что мне предстоит ужасная пытка и вряд ли со мной случалось что-нибудь похуже, но чтобы выдержать, нужно верить. Я смотрю на доктора Стивенса.
Поехали, док. Приступайте.
Он встает, вполголоса переговаривается с другим врачом и медсестрами, помогает им подготовить хозяйство, разложить все эти инструменты, которыми будет орудовать у меня во рту. Я сижу, жду, тело мое замирает, ум замирает, я перестаю дрожать, стискивать мячики, успокаиваюсь. Я принял неизбежное, проникся мыслью о его необходимости, смирился с болью. Наступает безразличие, безразличие, которое осужденный испытывает перед казнью.
Доктор Стивенс подходит, нависает надо мной.
Я уложу тебя.
Хорошо.
Он наклоняется, нажимает на рукоятку и медленно, осторожно откидывает спинку кресла.
Галогеновая лампа оказывается ровнехонько над головой, ее свет слепит, и я зажмуриваюсь. В руках мячики, на груди книжка про слона Бабара, как раз напротив сердца.
Ты не возражаешь, если я уберу книгу?
Лучше не надо.
Хорошо. Пусть лежит.
Слышу шум шагов, звяканье контейнеров, кто-то приподымает мне голову, перекидывает за шею шнурок от нагрудника, пристегивает его клипсами, прикрывает нагрудником книгу. Кресло еще откидывается назад и опускается еще ниже, и под затылок мне подкладывают маленькую твердую подушку.
Женский голос. Больничная интонация.
Пожалуйста, откройте рот.
Открываю.
Если будет больно, скажите.
Хорошо.
Не двигайтесь.
Не двигаюсь, пока кто-то оттягивает мне нижнюю губу и запихивает между ней и десной вату. Швы расходятся, сочится кровь. То же самое проделывают с верхней губой, за щеки тоже запихивают вату, чувство такое, будто рот полон какого-то шершавого тряпья, во рту вмиг пересыхает. Брызгают из инжектора, не помогает. Во рту все равно сушь, и будет сушь, сколько бы воды ни впрыснули.
Вжимаюсь в спинку кресла, зажмуриваю глаза, шире открываю рот, кто-то подает мне теннисные мячики, прыскает в рот, слышу чей-то негромкий голос и пробное жужжание бормашины. Ее то включают, то выключают.
Проверь сандер.
Включают, выключают.
Проверь второй бор.
Включают, выключают.
Чувствую, что люди окружают меня. Чья-то рука берет мою челюсть, осторожно оттягивает нижнюю губу, обнажает десну. Из инжектора брызгают на остатки моих зубов.
Начинаем, Джеймс.
Продолжают брызгать в рот, включают бормашину, чем ближе ко рту, тем громче звук, внутри рта звук становится высоким, пронзительным, режет уши, я сжимаю мячи сильнее, бор набрасывается на обломок нижнего зуба. Насадка подрагивает, и боль, как белая молния, пронзает меня, он касается моего зуба, и боль разливается по всему телу с головы до ног, и каждый мускул извивается, я сжимаю мячи сильнее, из глаз льются слезы, волосы на ногах встают дыбом, боль такая, словно поганый зуб проткнули копьем, на хер. Проткнули копьем, на хер.
Насадка шлифует контуры обломка, я весь как пружина, боль бьет током, на языке вкус собственной кости, инжектор то брызгает водой, то отсасывает крошки кости, что-то попадает в горло, что-то под язык. И так без конца – насадка шлифует, инжектор брызгает воду, отсасывает крошки, боль бьет током, я весь как пружина. Сижу, сжимаю теннисные мячи, а сердце бьется ровно и сильно, словно решило под этой пыткой доказать свою благонадежность. Бормашину выключают, я расслабляюсь и делаю глубокий вдох. Рядом негромко переговариваются, перекладывают инструменты.
Я думаю, у тебя тут дупло, Джеймс. Нужно проверить.
Вата во рту умялась, так что я могу говорить довольно внятно.
Так проверяйте.
Будет больно.
Давайте уже.
Я был готов ко всему, но только не к этому. Тонкий острый инструмент тычется в зашлифованный зуб, находит крошечную дырочку и проникает в нее. Электрический разряд в триллион вольт подбрасывает меня, как будто в тело ударила молния, раскаленная добела молния. Или копье в двадцать раз длинней прежнего и еще раскаленное добела. Такой боли я ни разу в жизни не испытывал, такой боли я даже представить себе не мог. Боль заполняет каждый мускул, каждый нерв, каждую клетку тела, они визжат от боли. Я мычу от боли, инструмент вынимают, но боль остается.
Определенно, это дупло. Нужно его запломбировать, а то будет плохо.
Каждый мускул, каждый нерв, каждая клетка визжит.
Джеймс?
Каждый мускул, каждая клетка горит огнем.
Джеймс?
Такой боли я не мог себе представить.
Джеймс?
Я делаю глубокий вдох.
Делайте, что надо. Давайте уже.
Рядом негромко переговариваются, открывают и закрывают шкафы, заменяют инструменты. Включают бормашину. Сижу, жду.
Сверло приближается, вгрызается в зуб, я сжимаю мячи так, что вот-вот пальцы хрустнут к чертям, и начинаю выть. Вою на одной ноте, этот звук затыкает мне уши, и я не должен бы слышать бормашины, но все равно слышу, я концентрируюсь на своем вое, чтобы отвлечься от боли, но не могу. Острая пика. Пика, пика, пика, пика. Бор просверлил дырку вглубь и теперь обтачивает края, чтобы расширить ее. Крошки кости смешиваются с водой, попадают в горло, забиваются под язык. Пика, пика, пика. Дырка становится все больше и больше. Пика пика пика. Сверло это чертово никак не уберется из моего рта. Пика.
Бормашину выключают, боль остается. Продолжаю выть, сжимаю мячи. Доктор Стивенс велит второму врачу и медсестрам действовать быстрее, и они стараются. Заталкивают в дырку какую-то шпаклевку, подравнивают, снова заталкивают и подравнивают. Шпаклевка запечатывает боль в глубине раны, острота боли притупляется, остаются только приглушенные толчки, сердце начинает биться ровней и уверенней, пульсация боли совпадает с ритмом сердца, и я перестаю ее замечать. Я живу с болью столько времени, что не замечаю ее – если она совпадает с ритмом сердца.
Перестаю стонать, открываю глаза и сквозь густую завесу слез вижу какую-то лампу, которая светит синим светом прямо на шпаклевку. Шпаклевка твердеет, сплавляется с зубом, заделывает дыру. Слышу звук бора, насадка приближается к моему рту, я закрываю глаза, от шлифования больно, химический вкус сошлифованной пыли наполняет рот. Все повторяется. Шпаклевка, синий свет, бор. Шпаклевка, синий свет, бор. Перестаю что-либо чувствовать, и боль тоже, сжимаю теннисные мячи, жду, когда наступит конец, и он наступает. Один зуб готов, осталось три.
Теперь нужно поставить коронку на второй зуб справа.
Я согласно киваю.
Хочешь сделать перерыв?
Я отрицательно мотаю головой.
Пауза для подготовки, и бор опять приближается, я все выдерживаю без напряга. В зубе нет дыры, не нужно сверлить, шпаклевать и светить синим светом. Я держу мячи, но не сжимаю их, не стону, сердце бьется ровно. Ремонт бокового правого проходит легко и незаметно. Счет два-два.
Слышу шум шагов, звяканье инструментов, стук открываемых и закрываемых шкафов, открываю глаза. Доктор Стивенс разговаривает со вторым доктором, медсестры складывают использованные инструменты в тазик для стерилизации. Доктор Стивенс заканчивает разговор, второй доктор выходит.
Как дела?
Все в порядке.
Я сажусь.
Куда он пошел?
Доктор Стивенс поднимает стул вверх.
Я не говорил тебе раньше времени, но перед тем, как сверлить каналы, я хочу связать тебя.
Зачем?
Когда сверлим каналы, мы делаем анестезию пациентам не только для того, чтобы обезболить, но еще и для того, чтобы они не двигались. Тут нужна неподвижность, а я не уверен, что ты сумеешь ее сохранить, если тебя не связать.
Давайте.
Ты точно не против?
Нет, давайте.
Второй врач возвращается, держит два длинных нейлоновых ремня синего цвета с пряжками-защелками. Такими ремнями привязывают багаж к крыше автомобиля, пристегивают прицеп с лодкой к трейлеру, заматывают двери клеток для зверей. Судя по виду, ими уже не раз пользовались – единственный предмет в кабинете, кроме меня и теннисных мячей, который не сияет стерильной чистотой.
Я откидываюсь назад, врач подходит ко мне. Медсестры оставляют инструменты, смотрят на меня.
Вытяни, пожалуйста, руки по швам.
Вытягиваю руки по швам.
Врач перекидывает через меня ремни так, что застежка оказывается под сиденьем. Наклоняется, пропускает свободный конец через пряжку, затягивает, ремень начинает давить.
Дайте знать, когда хватит.
Он продолжает затягивать ремень, все туже и туже. Когда я уже не в состоянии шевельнуть рукой, когда ремень впивается в кожу, а книга про Бабара – в грудь, я даю доктору знать, что хватит. Он защелкивает пряжку, распрямляется, идет к раковине и моет руки. Доктор Стивенс и медсестры подходят ко мне.
Начнем. Постараемся все сделать как можно быстрей.
Главное, сделайте как можно лучше, чтобы не пришлось возвращаться.
В этом не сомневайся.
Начинайте.
Закрываю глаза, стараюсь устроиться поудобней и расслабиться. Во рту комья ваты, остатки пережитой боли, синий ремень врезается в тело и прижимает книгу к груди. Чьи-то пальцы приподымают мне верхнюю губу, оттягивают ее, струя холодной воды обрушивается на остатки двух передних зубов. В руках у меня по теннисному мячу, а в голове – мысль, что мне будут сверлить два корня без анестезии. Сердце бьется все чаще, его стук отдается в ушах. Напряжение. Страх. Как тут, к черту, расслабишься.
Бормашина снова включается, обрабатывает обломок левого переднего зуба. Кость здесь тоньше, поэтому дело подвигается быстрее. Сверло проделывает отверстие, проникает внутрь зуба. В этот момент тело пронзает удар тока, это похоже на боль, только гораздо сильнее. Перед глазами все белеет, не удается вздохнуть. Зажмуриваюсь изо всех сил, челюсти вот-вот треснут, впиваюсь пальцами в теннисные мячи, ногти ломаются, из-под них сочится кровь, поджимаю пальцы на ногах, ноги сводит судорогой, тело сжимается, мышцы на животе вот-вот взорвутся, ребра как будто впиваются друг в друга, больно, твою мать, так, что яйца втягиваются, а член встает, потому что кровь закипает, ищет выход, и члену адски больно, руки напрягаются, синий нейлоновый ремень врезается в мою плоть, это адская боль, лицо горит огнем, вены на шее вздуваются, мозг раскаляется добела, плавится, адская боль. Сверло у меня во рту. Мозг раскален добела, такое чувство, что плавится. Дышать невозможно. Адская боль. Сверло вынимают изо рта и начинают вакуумом отсасывать из канала мертвую плоть вокруг корня. Адская пытка продолжается. Вакуумный отсос убирают, остатки плоти выскребают заостренным инструментом. Адская пытка продолжается. Снова вакуумный отсос, снова заостренный скребок. Адская пытка продолжается. Корень нужно очистить, чтобы не было осложнений. Да скорей же уже очищайте, мать вашу за ногу. Умоляю, скорей, умоляю, скорей, умоляю, скорей. Адская пытка продолжается.
Начинаю проваливаться в белое безмолвие, теряю связь с происходящим. Мои руки больше не мои, мои ноги не мои, моя грудь не моя, мое лицо не мое, мои зубы больше не мои. Мое тело больше не мое. Ничего нет больше. Только белое безмолвие. Одно белое безмолвие. Еще есть адская мука. Она не пригрезилась. Я пытаюсь вернуться к реальности, к сверлам, вакуумным отсосам, блестящим инструментам, ватным тампонам, пульверизаторам, зубной крошке, стоматологам и медсестрам. К лечению своих зубов. Но не могу. Тело не пускает. Как будто оно оберегает мой разум, как умеет, и толкает меня туда, где хоть и ужасно, но все же не так. Я сдаюсь, поддаюсь, погружаюсь в белое безмолвие и адскую боль, нахожусь там целую вечность. Белизна и боль. Белизна и боль. Белизна и боль.
Меня возвращает обратно взвизг сверла. Я чувствую зуб в верхней челюсти слева спереди и знаю, что сверло нацеливается на него. Оно проникает внутрь зуба, я все чувствую, и все повторяется снова. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Зажмуриваюсь изо всех сил, вжимаюсь в кресло, сжимаю мячи, и каждая клетка тела готова взорваться от боли. Существуй Бог, я бы плюнул ему в лицо за то, что позволил так мучить меня. Существуй дьявол, я бы продал ему душу, чтобы положить этим мучениям конец. Существуй высшая сила, которая управляет людскими судьбами, я бы сказал – возьми мою судьбу и засунь себе в задницу. Давай, засунь поглубже, твою мать. Умоляю, скорей, умоляю, скорей, умоляю, скорей.
Вакуумом отсасывают, скребком выскребают, а я терплю. Канал сверлят и чистят, а я терплю. Канал заполняют заново, закрывают корень, а я терплю. Шпаклевка, синяя лампа, шлифовка, шпаклевка, синяя лампа, шлифовка, шпаклевка, синяя лампа, шлифовка. Я терплю. Торчу где-то в Миннесоте, пациент Центра реабилитации для алкоголиков и наркоманов, лечу передние зубы, привязан к креслу, потому что анестезия мне не полагается. Все, что мне остается, это терпеть.
Чувствую, как рот поливают водой, последняя порция зубной пыли попадает в горло. Вату вынимают из-за щек, слышу приглушенные голоса, звук воды в раковине, стук дверей, когда открывают и закрывают шкафы. Открываю глаза. Перед глазами белые вспышки, трудно сфокусировать взгляд. Галогеновая лампа все еще горит. Какое-то движение, лампа гаснет, что-то отодвигают, что-то придвигают. Слышу, как расстегивают ремни, их убирают, книжку про Бабара тоже, теперь я свободен и могу двигаться, как пожелаю, сразу же замерзаю и начинаю дрожать. Пытаюсь сесть, но не могу. Пытаюсь приподнять голову – не могу. Пытаюсь сосредоточить на чем-то взгляд – не могу. Мерзну все сильнее. Дрожу тоже. По-прежнему стискиваю теннисные мячи. Адская боль начинает убывать.
Меня приподымают, закутывают в одеяло. В одеяле тепло, от тепла начинает тошнить, тошнота подкатывает, не могу ее остановить. Меня выворачивает, становится легко, чувствую пустоту в желудке, в легких, во всем теле, и хотя взгляд по-прежнему не фокусируется, я вижу, что из меня лезет красное. Меня выворачивает снова и снова, снова и снова. Красным, красным, красным. Все залито красным, одеяло, кресло, пол, я сам. Выпускаю теннисные мячики из рук, пытаюсь поднять руки, чтобы вытереть лицо, но руки трясутся, лицо трясется, и я не могу попасть руками в лицо. Руки падают по бокам.
Принесите еще одеял и воды. Быстро.
Лежу в кресле.
Как ты, Джеймс?
Мычу в ответ.
Ты меня понимаешь?
Снова мычу, киваю в смысле «да».
Тебя нужно отправить в больницу. Я вызову «Скорую».
Я не хочу в больницу, поэтому собираю силы в кулак, приподымаюсь и открываю глаза. Доктор Стивенс стоит передо мной.
Не надо в больницу.
Тебе нужна медицинская помощь. Мы такой оказать не можем.
Кресло.
Что?
Поднимите кресло.
Доктор Стивенс поднимает кресло. Я ставлю ноги на пол. Мне холодно, я дрожу, все тело болит. Меня тошнит от докторов, стоматологов, медсестер, кресел, анализов, галогеновых ламп, блестящих инструментов, чисто вылизанных комнат и стерильных раковин, кровавых процедур, меня тошнит от помощи, которую оказывают убогим, искалеченным и больным, и я не хочу в больницу. С болью я привык справляться сам. И с этой справлюсь сам.
Позовите Хэнка, пусть отвезет меня обратно в клинику.
Тебе нужна медицинская помощь.
Я в порядке.
И все же настоятельно советую тебе поехать в больницу. Не делай глупостей.
Я все понимаю.
Сползаю с кресла. Мышцы на ногах подергиваются, ноги подгибаются. Делаю маленький шажок, останавливаюсь. Стягиваю с себя одеяло, бросаю на кресло и делаю еще один маленький шажок, останавливаюсь.
Ты справишься?
Да.
Помочь тебе?
Нет.
Глаза начинают отчетливо видеть, живот успокаивается. Мне все еще холодно и больно, и дрожь не прошла, но чем я дальше от кресла, тем лучше я себя чувствую. Смотрю на дверь. Если смогу добраться до двери, то до свободы рукой подать. Я хочу скорей вырваться отсюда. Делаю еще шаг. Ноги как ватные. Еще шаг. А от земли ногу не оторвать, словно сто тонн весит. Еще шаг. Больно. Еще шаг. Колени дрожат. Еще шаг. Каждое движение стоит титанических усилий. Еще шаг. После каждого шага я не уверен, смогу ли сделать следующий. Доктор Стивенс смотрит на меня, медсестры вернулись и тоже смотрят, а я одно осознаю четко – если споткнусь, загремлю в больницу. Еще шаг. Еще шаг.
Подхожу к двери и останавливаюсь. Справа зеркало. Бросаю взгляд в него, вижу свое отражение. Белое, как мел, лицо. Распухшее до безобразия. Вокруг рта кляксы запекшейся крови. Черный шов у нижней губы, черные круги под глазами. На носу повязка. Вместо тела кости да кожа, и та болтается на костях. Белая футболка в красно-бурых разводах рвоты. Коричневые штаны в красно-бурых разводах рвоты. Видок как у пещерного монстра.
Поворачиваюсь к доктору Стивенсу и медсестрам.
Медсестры отворачиваются. Доктор Стивенс нет. Я медленно говорю.
Спасибо за лечение.
Не за что. Моя обычная работа.
Сегодня не обычная работа. Со мной вы превзошли себя. Спасибо.
Доктор Стивенс улыбается.
Нет проблем.
Я тоже улыбаюсь ему. В первый раз новыми зубами. Мне становится весело, я улыбаюсь еще шире и указываю на свой рот. Доктор Стивенс смеется, подходит ко мне, протягивает руки и обнимает меня. Мы с ним сегодня выдержали нешуточное испытание. Хоть мне, конечно, досталось больше, но ему, я знаю, тоже пришлось нелегко. Наше объятие – как клятва, мы клянемся извлечь урок из пережитого, стать лучше и сильнее. Я уверен, он сдержит клятву, а вот сдержу ли я – не знаю. Я отстраняюсь.
Еще раз спасибо.
Береги себя, Джеймс.
Постараюсь.
Я поворачиваюсь, медленно иду прочь, не оглядываясь. Это моя всегдашняя ошибка, но таков уж я. Никогда не оглядываюсь. Никогда.
Ковыляю по коридору, хватаясь за стенку, чтобы не упасть. Каждый следующий шаг дается труднее, чем предыдущий, причиняет больше боли. Лицо мое кривится в такт шагам, сердце стучит уже не так ровно и мерно. Бьется то быстрей, то медленней, то громче, то тише, посылает колючие сигналы в левую руку и левую челюсть. Оно держалось, пока требовалось, а теперь недолго еще продержится. Я недолго еще продержусь.
Доползаю до двери, толкаю ее, переваливаюсь через порог в приемную. Хэнк сидит на кушетке, болтает с пожилой дамой, которая вскрикивает, увидев меня. Хэнк вскакивает, подбегает ко мне, я кладу руку ему на плечо. Не будь его плеча, я бы упал.
Господи Иисусе.
Выведи меня отсюда.
Ты в порядке?
Не совсем.
Чем помочь?
Да выведи же меня отсюда, черт подери.
Хэнк надевает на меня куртку, кладет мою руку себе на плечи, а свою – мне на плечи, и мы выходим из приемной, спускаемся по лестнице. На нижней ступеньке ноги отказывают мне, и Хэнк тащит меня к выходу, приваливает к стенке, распахивает дверь и вытаскивает меня на улицу.
Снежная буря, которая собиралась с силами, когда мы ехали сюда, сейчас свирепствует в полную силу. Ветер подхватывает льдины, которыми покрылись лужи, и носит их по воздуху. Небо черное. Слышатся раскаты грома, сверкают молнии. Хэнк тащит меня к фургону, мои ноги волокутся по застывшей и сырой земле, ботинки промокают. Добравшись до фургона, Хэнк приваливает меня к дверце.
Постоишь немного?
Он лезет в карман за ключами.
Да, только скорей давай.
Он вытаскивает ключи из кармана, отпирает фургон, отодвигает дверь-купе, помогает мне залезть, укладывает на трех сиденьях, закрывает дверь, обегает кругом, открывает свою дверь и залезает в фургон. Садится за руль, вставляет ключ зажигания, заводит двигатель и трогает с места.
Пока мы едем через этот городишко, я лежу на спине, мерзну и дрожу. Сердце бьется как попало и начинает болеть. Острые пики во рту, я измучился, совсем изнемог. Возвращаюсь в клинику, но не хочу возвращаться туда. Если сбегу из клиники, мне светит либо могила, либо тюрьма. Моя жизнь, какая она есть, мне не нравится, и сам я не нравлюсь себе, но ничего другого я не знаю. Я пробовал что-то изменить, и ни черта из этого не вышло. Пробовал еще раз, и снова ни черта. И еще раз, и снова ни черта. И так раз за разом. Если бы какой-то голос нашептал мне, что на этот раз все получится, уж я бы постарался, но нет, не шепчет. Забрезжи свет в конце тоннеля – уж я бы помчался навстречу. Но я в такой жопе, в какой еще не бывал. Забрезжи свет в коне тоннеля – и я бы помчался навстречу. Но я алкоголик, наркоман и преступник. И никакой свет в конце тоннеля мне не светит.
Через несколько минут в фургоне становится тепло, от тепла озноб и дрожь проходят, но адская усталость не проходит, и я закрываю глаза. Темнота. Я закрываю глаза. Никакой свет в конце тоннеля мне не светит. Я закрываю глаза. Темнота. Я закрываю глаза. Никакого света. Я закрываю глаза. Темнота.
Я закрываю глаза.
Я закрываю глаза.
Я закрываю глаза.
Другая белая комната, ненавижу ее. Другой белый халат, хочется порвать его в клочья. Другая кровать, другой стол, другой стул, хочется разнести их в щепки. Окно. Хочется выброситься из него.
Проделываю свой обычный утренний ритуал. Ползу в ванную. Блюю. Валяюсь на полу. Блюю. Валяюсь на полу. Блюю. Валяюсь на полу. Блевотина застревает в новых зубах, и выковыривать ее оттуда больно. После чистки зубов снова блюю, еще раз чищу зубы и ползу обратно в постель.
За окном все такая же темень, все такая же непогода. Мокрый снег валит, ветер воет и стучит в окно. Только и слышно – бум, бах, бац и вой. И так без конца, одно и то же. Терпеть не могу шума, хоть бы это уже прекратилось. Но нет – бум, бах, бац, вой, бум, бах, бац, вой. Терпеть нету мочи. Когда же это, черт, прекратится.
Вылезаю из кровати. Мою одежду выстирали и положили на стол. Беру шмотки, надеваю. Сегодня они болтаются на мне больше, чем вчера. Открываю дверь, выхожу, иду в терапевтическое отделение. Сейчас ночь, в отделении пусто. Только дежурная медсестра. Читает модный журнал и не замечает меня.
Выхожу из терапевтического отделения, иду по коридорам. За окнами черным-черно, потому что ночь и непогода, а коридоры залиты светом. Лампы над головой ярко горят, стены светлые, ковры на полу светлые, картины на стенах светлые, таблички на дверях светлые. Я неуютно себя чувствую на свету. Он слишком многое обнажает.
Вхожу в отделение «Сойер». Тихо, темно. Все лампы выключены, все двери в палаты закрыты, все люди спят. Иду в холл, сажусь на диван, включаю телевизор. Показывают шоу про похудение, потом рекламный ролик, в котором важный эксперт расхваливает товар, потом какая-то тетка несет всякую хрень про психологию, потом профессиональные борцы валтузят друг друга. По нескольким каналам идут помехи. Это самое интересное, что бывает в ящике. Смотрю, не отрываясь. Целый час. Помехи.
Выключаю телевизор, думаю, чем бы еще заняться. Усталости не чувствую, спать неохота, идти в терапевтическое отделение не хочется, бродить по коридорам тоже. В коридорах слишком светло, а на свету я неуютно себя чувствую.
Вдоль одной стены тянутся полки с книгами. Я научился читать очень рано и всегда читал запоем. Я только и делал всю жизнь, что читал, если не считать того, что торчал и впутывался в неприятности. Меня притягивают книги. Я стою возле полок, хожу вдоль полок, сижу перед полками.
Три полки, на каждой по сорок книг. Перебираю их, надеюсь найти что-нибудь, что унесет меня подальше отсюда. Я хочу, я должен хоть ненадолго вырваться отсюда, черт подери. Если не буквально, то хоть мысленно. Хоть ненадолго. Черт, да выпустите же меня отсюда.
Много книг из серии «помоги себе сам»: «Дай волю чувствам: лечение плачем», «Ангелы и наркомания: позволь божьим помощникам помочь тебе!!!» и «Папочка меня не любил: история моей болезни». Есть книжки по каждому из Двенадцати шагов Анонимных Алкоголиков. Шаг первый: Отсутствие контроля. Шаг третий: Прими решение и доверься Богу. Шаг шестой: Будь готов действовать. Шаг одиннадцатый: Установи контакт с Богом. Несколько замусоленных Евангелий. Я читал Евангелие. Нет смысла опять тратить на него время. Тяну руку за толстой потрепанной книгой в синем переплете. У нее нет ни обложки, ни заголовка, только эмблема на первой странице – треугольник, вписанный в круг. Мне такую книгу уже подсовывали. Знакомые и знакомые знакомых, люди, которые считали, что могут исправить меня. Называется она Большая книга Анонимных Алкоголиков, а эмблема на обложке – символ трезвости. Я никогда не читал ее, даже открыть не потрудился. Когда она попадала мне в руки, сразу швырял ее в сточную канаву или мусорный ящик. Я бывал на встречах Анонимных Алкоголиков, и они меня не затронули. По-моему, их философия ничем не лучше алкоголизма. Замена одной зависимости на другую. Вместо химии Бог и собрания. На этих собраниях меня тошнило. Жалобы, скулеж, нытье – и все с перебором. Горы дерьма собачьего про Высшую силу. Никакая Высшая сила, никакой Бог не отвечают за то, как я поступаю, поступал и во что превратился. Никакая Высшая сила и никакой Бог не спасут меня. От жалоб, скулежа и нытья на собраниях, хоть весь обжалуйся, мне не станет лучше.
Я алкоголик, наркоман и преступник. В такой жопе я за всю жизнь еще не бывал. Нахожусь в клинике где-то в Миннесоте. Если уйду отсюда, моя семья и мои друзья, какие еще остались, поставят на мне крест. Если уйду из клиники, мне светит только или могила, или тюрьма. Я совсем один, сейчас глухая ночь, возвращаться в терапевтическое отделение не хочется, заснуть не могу. Я хочу выпить. Пятьдесят порций сразу. Хочу пайп и крэка. Хорошо бы длинную жирную дорожку мета, да десяток доз кислоты, да тюбик хорошего промышленного клея. Дайте мне бутылку с пилюлями и горстку «ангельской пыли». Дайте мне уже что-нибудь. Что угодно. Мне нужно вырваться отсюда. Если не буквально, то хоть мысленно. Черт, да выпустите же меня отсюда.
Беру с полки книгу. Пялюсь на нее. Думаю, что хуже от нее не будет и терять мне нечего. Начинаю читать.
Предисловие врача, специалиста по зависимостям. Доктор считает, что тяжелый алкоголизм практически неизлечим. Доктор считает, что единственный способ обрести трезвость и удержать ее – присоединиться к Анонимным Алкоголикам.
Затем следует рассказ про Билла[2], основателя движения Анонимных Алкоголиков. Билл – Иисус Христос алкоголиков, спаситель и мессия, и хотя Билл не умер на кресте, он, без сомнений, жил на нем. Билл был пьяница горький, маялся, не вылезал из проблем. Он искал средство исцеления, все искал и искал, но не находил. И тогда, на последнем пределе отчаяния, он повстречался со старым приятелем – пьяницей, который обрел Бога и бросил пить. Исцеление приятеля напомнило Биллу о чувстве, однажды пережитом во французском соборе после Второй мировой войны, на которой он служил солдатом. Сидя на церковной скамье во время вечерни, Билли преисполнился тишины и покоя, которых не ведал ранее и даже не мыслил, что такое возможно. Он преисполнился Славы Божьей. Воспоминание об этом мгновении и трезвость его новообращенного друга произвели на Билла глубокое впечатление. Он уверовал, что если поручить себя Богу или все равно какой Высшей силе, то жизнь изменится. В ту минуту он принял решение полностью изменить свою жизнь, целиком доверить себя воле Божьей. Больше Билл никогда не пил, разработал Двенадцать шагов, придумал общество Анонимных Алкоголиков и посвятил свою жизнь распространению этого учения. Очень трогательная история, задача которой – вдохновить, а не открыть правду. Я не вдохновился. Вообще ни капли. Ничуть.
Читаю дальше, там подробнее про Двенадцать шагов. Главы называются «Принять решение», «Как это работает», «К действию», «Видение». Все очень просто. Если будешь поступать, как написано, исцелишься. Если шагнешь на этот праведный путь, он сам приведет тебя прямиком к спасению. Если вступишь в их клуб, ты счастливчик – лопай пожизненно большой ложкой дерьмо на их собраниях, где только жалобы, скулеж и нытье. Хвала тебе, Боже. Хочется пасть на колени и пропеть хвалу Господу. Аллилуйя.
В конце целый раздел – истории исцелившихся. История зубного врача, история пьяницы из Европы, история продавца, история образованного агностика. Все они были запойные пьяницы, но обрели Господа, проделали путь длиной в Двенадцать шагов и все, как один, исцелились. Все подобные истории, которые мне доводилось читать или слышать, всегда поражали меня глупостью, пошлостью и бессмысленностью. Пусть их герои перестали пить и принимать наркотики, но они не стали свободными людьми. Пусть они ведут трезвый образ жизни, но их жизнь состоит из ограничений, запретов и проклятий в адрес тех веществ, которые они так любили раньше. Пусть они живут, как нормальные люди, их жизнь полностью зависит от их Собраний, их Заповедей, их Бога. Отними у них эти их Собрания и Заповеди – и у них ничего не останется, они снова вернутся туда, с чего начинали. Так что ни черта не избавились они от зависимости.
Зависимость требует топлива. Не уверен, что Собрания, Заповеди и Бог – подходящее топливо для меня. Если Доктор в предисловии говорит правду и единственный путь спасения – присоединиться к Анонимным Алкоголикам, тогда я в полной жопе. В жопе, жопе, жопе.
Ставлю книгу обратно на полку. Иду к расписанию работ, смотрю – напротив моего имени по-прежнему значится мытье общего сортира. Беру моющие средства, иду к сортиру – его, похоже, несколько дней не мыли, такой у него омерзительный вид. В раковине – плевки, на полу – моча, в мусорном ведре – туалетная бумага с пятнами крови, в унитазах – присохшее дерьмо. Уверен, это Рой постарался, но у меня нет желания играть в эти игры, устраивать разборки, поэтому просто беру моющие средства и начинаю уборку. Отвратительная работа. Дважды меня вырвало, и пришлось оттирать свою собственную блевотину, а не только чужие плевки, мочу и дерьмо. Когда все убрано и стены, раковины, пол, мусорные ведра и унитазы сияют чистотой, я не испытываю ни радости, ни удовлетворения. Больше я не буду делать эту работу. Ни за что, черт подери.
Выхожу из общего сортира, ставлю моющие средства на место, иду к себе в палату. Открываю дверь, вхожу. Поломанную мебель заменили. Заменили и Ларри, чье местонахождение пока неизвестно. На его койке лежит лысый коротышка, и этот Лысый Коротышка храпит. Уоррен и Джон спят на своих кроватях. Джон во сне бормочет и дергается. Уоррен спит тихо. Моя кровать стоит нетронутая, на тумбочке возле нее лежат Библия и новенький экземпляр Большой книги. Подхожу к тумбочке, беру обе книги, иду к окну, открываю его и швыряю книги в заоконную тьму. Буря по-прежнему беснуется. Закрываю окно, иду в ванную, включаю душ, снимаю одежду и кидаю кучей на кафельный пол. Подхожу к зеркалу. Хочу взглянуть на себя. Хочу взглянуть в светло-зеленую глубину своих глаз и увидеть то, что под телесной оболочкой. Смотрю на губы. Немного припухшие, но в целом уже ничего. Смотрю на зашитую дырку в щеке. Рана начинает затягиваться, шов делает свое дело. Смотрю на свой нос. Снимаю повязку, кидаю в мусорное ведро. Нос прямой, если не считать шишки. Смотрю на синяки под глазами. Чернота бледнеет, переходит в желтизну, отеки почти прошли. Смотрю выше – в глаза. Хочу взглянуть в светло-зеленую глубину своих глаз. Хочу увидеть не телесную оболочку, а то, что под ней. Придвигаюсь ближе к зеркалу. Еще ближе. Хочу взглянуть в светло-зеленую глубину своих глаз. Хочу увидеть то, что прячется под телесной оболочкой. Ближе, ближе. Ничего не вижу. Ни хера.
Отворачиваюсь, иду к душу, встаю под воду, шок от горячей воды. Вода обжигает, кожа краснеет, чувствую боль, но стою под водой. Я заслужил эту боль, потому что мне не хватило мужества взглянуть в себя. Я заслужил эту боль и буду стоять так и терпеть ее, потому что мне не хватило мужества взглянуть себе в глаза. Когда тело теряет способность чувствовать, включаю холодную воду, сажусь на пол, остужаю ожог холодной водой. К горячей воде тело привыкает, к холодной привыкает еще быстрее. Закрываю глаза, предоставляю тело самому себе, а ум отпускаю в свободное странствие. Он блуждает где хочет и направляется в известное место. О котором не говорю вслух, существование которого не признаю. Там нет никого, кроме меня. Я ненавижу это место.
Я одинок. Здесь одинок, в целом мире одинок. Одинок в своем сердце и одинок в своих мыслях. Одинок везде и всегда, сколько себя помню. Одинок в семье, в кругу друзей, в любой комнате, пусть там даже полно людей. Одиноким я просыпаюсь, одиноким проживаю день, одиноким встречаю ночную темноту. Я одинок в своем ужасе. В своем ужасе.
Я не хочу быть одиноким. Никогда не хотел. Не хотел до зубовного скрежета. Ненавижу, что не с кем поговорить, ненавижу, что некому позвонить, ненавижу, что некому пожать руку, что не с кем обняться, что никто не скажет мне: все путем, старик. Ненавижу, что некому рассказать про свои надежды и желания, ненавижу, что у меня больше нет ни надежд, ни желаний, ненавижу, что никто не скажет мне: держись, старик, надежды и желания вернутся. Ненавижу, что мой крик, от которого кровь стынет в жилах, раздается в кромешной пустоте. Ненавижу, что никто не слышит моего крика, и никто не успокоит, чтобы я перестал кричать. Ненавижу, что в моем одиночестве ничего не осталось мне, кроме бутылки и крэка. Ненавижу, что все, что осталось мне в моем одиночестве, убивает меня, уже убило меня, ну, или скоро добьет. Ненавижу, что мне подыхать предстоит в одиночестве. В одиночестве, в полном ужасе. Больше всего я всегда хотел приблизиться к кому-нибудь, да по сути ничего другого и не хотел. Больше всего я всегда хотел почувствовать, что я не один, да по сути ничего другого и не хотел. Я пытался много раз, пытался покончить со своим одиночеством с помощью девушки или женщины, и всякий раз напрасно. Мы могли быть вместе, рядом друг с другом, но все равно я оставался один. Они угадывали мое одиночество и пытались стать ближе. Но чем больше пытались, тем быстрее я убегал или разрушал все, что нас объединяло. Я могу бежать быстро, когда хочу, и по части разрушения я большой мастак. Никто из моих бывших не захочет сегодня переброситься со мной даже парой слов.
Последняя была единственной, благодаря кому я почувствовал то, к чему всегда стремился. Благодаря ей я почувствовал себя человеком, о чем раньше не мог даже мечтать, и это чувство напугало меня, парализовало. Когда она отдалась мне, я потерпел фиаско. Этот провал стал началом конца. Я уничтожал ее, уничтожал себя, уничтожал нас обоих. Я уничтожал надежду на будущее. Сейчас она отказывается даже произносить мое имя, не то что признать мое существование. Я не виню ее.
Я начинаю разговор со старым другом, старым добрым другом. Говорю привет, как дела, как поживаешь, что новенького. Мой голос отдается эхом в душевой кабинке, и я чувствую себя идиотом, но продолжаю разговор. Говорю – я скучаю по тебе, хочу тебя видеть. Моего друга зовут Мишель, я не видел ее лет десять, даже больше. Говорю – в последнее время постоянно думаю о тебе. Говорю – может, скоро увидимся. Говорю – уж ты, пожалуйста, встреть меня там, когда я нагряну, очень хочется увидеть тебя. Ужас, сколько времени прошло. Десять лет, даже больше. Ужас, сколько времени.
Я встретил Мишель, когда мне было двенадцать лет, моя семья только что переехала в этот городишко. Всю жизнь я провел в большом городе, и приспосабливаться к новой обстановке оказалось нелегко. У меня не было ничего общего с местными ребятами, у них – со мной. Я не качался в спортзале, ненавидел хэви-метал, считал, что возиться с машинами – это тупо убивать время. Поначалу я делал попытки быть как все, но притворяться не умею, и через несколько недель бросил эти попытки. Я такой, как есть, а уж принимать меня или ненавидеть – это их право. Они возненавидели меня со зверским азартом.
Меня дразнили, толкали и били. Я дразнил в ответ, на каждую подножку отвечал подножкой, на каждый удар – ударом. За пару месяцев я сделал себе репутацию. Все обсуждали меня – учителя, родители, местные копы. Обсуждали без восхищения, разумеется.
В ответ я забрасывал их дома яйцами, взрывал их почтовые ящики, ломал их автомобили. В ответ я объявил войну всем, всему их городишке, и включился в эту войну целиком, с потрохами. Мне плевать было – выиграю я или проиграю, главное – не сдаваться. Бесить их, этих ублюдков. Я был готов к борьбе. Через шесть месяцев после приезда в этот городишко я познакомился с девочкой, которую звали Мишель. Она была популярна, умна и красива. Занималась спортом, входила в группу чирлидеров, училась на одни пятерки. Понятия не имею, почему ей вздумалось водить дружбу со мной, но это так. Все началось с того, что она послала мне записку на уроке английского. Она написала: по-моему, ты совсем не такое чудовище, как о тебе говорят. Я ответил: берегись, я такое чудовище, как обо мне говорят, только хуже. Она рассмеялась, и так у меня появился друг. Не подружка, нет, да я и не думал об этом, а именно друг, о котором можно только мечтать. Мы болтали по телефону, обменивались записочками на уроках, вместе ходили в столовую, рядом сидели в автобусе. Люди ломали голову, зачем она связалась со мной, понять не могли, что она во мне нашла, советовали бросить меня, но она никого не слушала. У нее была своя голова на плечах, и она не позволяла никому вмешиваться в нашу дружбу, так что все просто сделали вид, что этой дружбы не существует.
В середине восьмого класса один старшеклассник пригласил Мишель на свидание. Она знала, что родители ее не отпустят, и потому сказала им, что идет в кино со мной. Я никогда не делал им гадостей, вел себя прилично в их присутствии, так что они согласились и даже подвезли нас до кинотеатра. Я вошел в зал, отсидел до конца сеанса в компании пинты виски и один вернулся домой. Мишель забрал ее парень, и они уехали. Где-то посидели, попили пива, а потом он повез ее обратно к кинотеатру и попытался обогнать колонну грузовиков на переезде. Машину сбил поезд, и Мишель погибла. Она была популярна, умна и красива. Занималась спортом, входила в группу чирлидеров, училась на одни пятерки. Она была моим единственным другом. Ее сбил поезд, и она погибла. Ее сбил этот сраный поезд, и она погибла. Я узнал об этом на следующий день. Все винили меня – ее родители, друзья, весь этот паскудный городишко. Если бы я не прикрыл ее ложь, то ничего бы не случилось. Если бы нас не отвезли к кинотеатру, она бы не пошла на свидание. Старшеклассник остался цел и невредим, он был звездой местной футбольной команды, и все ему сочувствовали. Меня вызвали в полицейский участок и допрашивали. Таковы были нравы в этом городишке. Обвинить козла отпущения, пожалеть футбольную звезду. Если тебя назначили козлом отпущения, ты будешь им всю жизнь. Из-за этой истории меня много били, и на каждый удар я отвечал ударом, и каждым ударом я мстил за Мишель. Я бил, не щадя никого, и каждым ударом я мстил за Мишель.
Я до сих пор помню Мишель и тоскую по ней. Хочу услышать ее голос, ее смех, увидеть ее улыбку. Хочу сесть рядом с ней, позвонить ей или написать записочку. Хочу вдыхать ее запах, касаться ее волос, смотреть ей в глаза. Хочу услышать ее слова – не переживай, это пустяки. Хочу услышать ее слова – не переживай из-за них, не доставляй им этого удовольствия. Хочу услышать ее слова – все хорошо, Джимми, все будет хорошо. Хочу сказать ей, что люблю ее, потому что это правда и потому что никогда не говорил ей этого, пока она была жива. Она мой единственный друг. Ее сбил поезд, и она погибла.
Я не верю, что она пребывает на небесах или в лучшем мире. Она умерла, а после смерти мы исчезаем. Ни тебе яркого света, ни райской музыки, ни ангелов, спешащих навстречу. Святой Петр не стоит возле Жемчужных врат ни с толстой долбаной книжкой, ни с ключами, наши друзья и родные не придерживают для нас местечко за столом божественной трапезы, нас не ждет путевка на небеса. Мы просто умираем, и все. Ничего больше. Конец. Это не мешает мне, однако, беседовать с Мишель. Я разговариваю с ней, задаю ей вопросы, рассказываю про свое житье-бытье. Говорю, что тоскую без нее, говорю, что думаю о ней каждый день, говорю, что люблю ее. Говорю, что до сих пор каждым ударом мщу за нее. Я буду всегда мстить за нее. Всегда.
Я разговариваю с Мишель и говорю ей все эти слова, когда жить невмоготу. Я разговариваю с Мишель и говорю ей все эти слова, когда теряю надежду. Я разговариваю с Мишель и говорю ей все эти слова, когда готов умереть. Я знаю, что после смерти буду мертв, и знаю, что сейчас я очень близок к смерти. Умереть очень просто, а когда я умру, все исчезнет. Я знаю, что никогда не встречусь с Мишель на небесах или где-нибудь еще, но я все равно разговариваю с ней. В последнее время особенно часто.
Дверь душевой кабинки раздвигается, кто-то заходит, и я возвращаюсь из своих мыслей, из своего одиночества обратно в эту чертову кабинку. Открываю глаза – передо мной стоит Джон. Встаю, смотрю на него. Мы оба голые. Я говорю.
Какого черта ты тут делаешь?
Все еще спят.
Какого черта ты тут делаешь?
Я услышал, ты тут. Подумал, может, тебе грустно одному.
Вали немедленно отсюда.
Я никому не скажу. Клянусь.
ВАЛИ НЕМЕДЛЕННО ОТСЮДА.
Джон выходит из кабинки, закрывает дверь. Я выхожу следом, беру полотенце, обматываю вокруг бедер. В ванной стоит густой пар, по раковине и унитазу стекают капли конденсата. Джон сидит на батарее, полотенце на коленях. Вид у него жалкий, испуганный, как у щенка, который ожидает трепки.
Извини меня.
Не делай этого больше.
Многим здесь одиноко. Мне показалось, тебе тоже.
Мне нет.
Извини.
Не извиняйся, просто больше не делай этого.
Я тебе противен?
Нет, не противен. И мне все равно, чем ты там занимаешься с другими, просто ко мне больше не подкатывай.
Ты хочешь побить меня?
Нет, не хочу.
Иногда меня бьют.
Я не буду.
Можешь побить, если хочешь.
Я не хочу тебя бить.
Джон начинает плакать.
Извини меня. Извини.
Не извиняйся, просто больше не делай этого.
Я беру свою одежду, выхожу из ванной, иду на свое место, там вытираюсь и одеваюсь. Слышно, как Джон всхлипывает в ванной. Уоррен и Коротышка по-прежнему спят, буря за окном по-прежнему беснуется. Одевшись, ложусь на кровать поверх одеяла и удивляюсь – до чего ж я устал, закрываю глаза и засыпаю.
Сновидение не заставляет себя долго ждать. Снова я в той комнате, сижу за столом. Передо мной выпивка, кокс, крэк, клей и газ. Употребляю все подряд. Без разбора, как можно быстрее, сколько влезет. Ору, хохочу, ругаюсь. Грожу кулаком небесам, называю Бога куском собачьего дерьма, называю Бога подонком. Прыгаю, бегаю вокруг стола. Тут столько выпивки, кокса, крэка, клея и газа, хоть жопой ешь. Я натираюсь и поливаюсь всем подряд. Я по уши накачался. Я нажрался до потери смысла. Я сыт впервые за много дней.
Под большим мешком кокаина нахожу оружие. Беру, взвешиваю в руке. Револьвер тридцать восьмого калибра. Мне приходилось держать такой в руках, я умею им пользоваться. Сажусь на стул, открываю магазин. Магазин полон, пуля в каждом отсеке. Закрываю магазин, прокручиваю, пощелкивание вызывает у меня улыбку. Мне приходилось держать такой револьвер в руках, я умею им пользоваться. Револьвером тридцать восьмого калибра.
Вставляю дуло себе в рот. Дуло холодное, грязное, но вкус металла во рту ощущать приятно. Снова прокручиваю магазин. Щелк, щелк, щелк, щелк – этот звук вызывает у меня улыбку. Магазин полон, в каждом отсеке по пуле. Результат предопределен. Магазин перестает вращаться. Кладу палец на курок. Я под завязку накачался спиртным, коксом, крэком, клеем и газом. Я под завязку накачался. Я нажрался до потери сознания. Пальцы дрожат, дрожат, дрожат. Бум.
Я просыпаюсь, взгляд упирается в потолок, вздрагиваю, задыхаюсь. Касаюсь кончика носа, из ноздрей вытекает капля крови. Перед глазами все плывет, голова кружится. Желудок пылает огнем. Я нажрался до потери сознания.
Встаю с кровати, иду в ванную. Меня шатает, запинаюсь о порог и падаю. Уоррен стоит возле раковины и чистит зубы, кто-то моется в душе. У меня начинаются рвотные позывы, я ползу к унитазу, и, едва успеваю добраться до него, как меня выворачивает. В блевотине полно желчи и еще какого-то коричневого дерьма, которого раньше не видал. Это кровь. От этой рвоты у меня горит в желудке, в горле и во рту. Она разъедает мне губы и лицо. Она не прекращается. Я не могу остановиться. Я содрогаюсь, а разъедающая нутро рвота извергается из меня, извергается, извергается. Без конца. Не прекращается. Я хочу остановить ее, но она не прекращается.
Уоррен подходит, опускается на колени, обнимает меня, хочет поддержать. Лысый Коротышка выходит из душевой кабинки, смотрит на меня, он поражен этим нескончаемым извержением. Оно продолжается, продолжается, продолжается. Конца не видно.
Сердце бьется как попало, колотится, каждый его удар причиняет боль, каждый сбивчивый удар причиняет боль, и она отдается в левой руке и в челюсти слева. Кажется, в жилах у меня не осталось жидкости, но рвоту это не останавливает. Как будто желудок и рот отделились от тела или вот-вот отделятся. Как будто тело пытается избавиться от себя самого. Пытается избавиться от меня.
Я больше не в силах это терпеть. Так больше не может продолжаться. Я алкоголик, наркоман и преступник. Мое тело разваливается на куски, мой ум развалился на куски уже давно. Я хочу напиться и обдолбаться, даже если это прикончит меня. Я одинок. Мне не с кем поговорить и некому позвонить. Я ненавижу себя. Ненавижу себя настолько, что боюсь взглянуть себе в глаза. Ненавижу себя настолько, что самоубийство кажется мне наиболее разумным выходом. Моя семья готова поставить на мне крест, мои друзья готовы поставить на мне крест. Я разрушил все мало-мальски важные отношения, которые у меня случались. Я блюю уже седьмой раз за сегодня. Седьмой раз, черт подери. Я не могу больше так жить. Не могу больше так жить.
Извержение затихает, я начинаю дышать. Уоррен поддерживает меня, чтобы я не упал, а Лысый Коротышка смотрит на меня. Я поднимаю руку, делаю Уоррену знак отойти, он подымается, отходит, а я прислоняю голову к краю унитаза. Дышу. Втягиваю в себя побольше воздуха – сколько влезет в грудную клетку. Я знаю, что воздух успокоит и сердце и меня, так что дышу. Втягиваю в себя побольше воздуха, сколько влезет в грудную клетку. Лишь бы успокоиться. Лишь бы успокоиться.
Как ты, ничего?
Я киваю.
Помощь нужна?
Отрицательно трясу головой.
Пойду позову кого-нибудь.
Я говорю.
Не надо.
Тебе нужна помощь.
Нет.
Джеймс, тебе нужна помощь.
Встаю. Меня шатает.
Я сам буду решать, что мне нужно. Не решай за меня.
Делаю глубокий вдох, опираюсь на раковину, включаю воду, мою лицо, полощу рот. Закончив, выключаю воду и поворачиваюсь. Уоррен уставился на меня, и Лысый Коротышка уставился на меня. Прохожу мимо них, выхожу из ванной. Уоррен идет за мной, проходит к своему месту.
Возьми хоть мою рубашку, переоденься.
Я смотрю на свою рубашку: белая в красно-бурых кляксах. В разводах желчи и пятнах какого-то дерьма, которых я раньше не замечал, в кровоподтеках.
Вот, держи.
Уоррен кидает мне рубашку. Я ловлю. Белая накрахмаленная рубашка из «оксфорда». Смотрю на рубашку, потом на него. Он говорит.
У меня нет другой чистой рубашки, это последняя.
Смотрю на рубашку. Я таких вообще не ношу. Смеюсь и опять смотрю на Уоррена.
Спасибо.
Он смеется.
Не за что.
Стягиваю футболку, кидаю на пол у кровати, надеваю «оксфордку», которая мне велика. Она болтается на моих мощах, как чехол, и свисает до колен. Закатываю рукава по локоть, провожу руками по груди. Ткань жесткая от крахмала, но под ним мягкая. Хлопок дорогой, тонкого плетения, сделан, вероятно, не в наших краях. Это самая чистая, красивая вещь, которую мне доводилось надеть, сколько себя помню, и у меня такое чувство, что я со своим потрепанным телом ее не достоин. Уоррен присаживается на кровать, стрижет ногти на ногах, рядом с ним лежит пара черных носков. Я подхожу, останавливаюсь перед ним, поглаживаю рукой тонкий хлопок. Я говорю.
Очень красивая рубашка. Буду ее беречь.
Уоррен улыбается.
Не бери в голову.
Я возьму в голову. Я очень благодарен тебе за нее.
Не бери в голову.
Я буду ее беречь. Спасибо тебе.
Уоррен кивает, я поворачиваюсь, выхожу из палаты и иду по отделению. Кто-то выполняет свою утреннюю работу, кто-то занят другими утренними делами, кто-то собирается на завтрак. Рой стоит перед расписанием работ с приятелем. Я прохожу мимо них.
Джеймс.
Я иду дальше, не оглядываюсь.
Твоя обязанность по-прежнему мыть общий сортир.
Я иду дальше, не оглядываюсь, только показываю ему через плечо средний палец.
Джеймс.
Поднимаю палец повыше.
ДЖЕЙМС.
Иду своим путем по коридорам к столовой. С каждым шагом растет потребность выпить, или принять что-нибудь посильнее, или то и другое вместе. Ноги все труднее отрывать от пола, шаги замедляются. Голову заполняет одна-единственная мысль и крутится там, крутится, крутится. Мне позарез надо нажраться. Позарез надо нажраться. Позарез надо нажраться. Позарез надо нажраться.
Прохожу по стеклянному коридору, который отделяет мужчин от женщин, встаю в очередь. Пахнет едой, и по запаху ясно, что это утренняя еда. Яичница с беконом, сосиски, блинчики, французские тосты. Пахнет охренительно вкусно. В большом горшке чуть в стороне – овсянка. Черт бы подрал эту овсянку. Отвратно-серое говнистое месиво. Пахнет едой, и по запаху ясно, что это утренняя еда. Яичница с беконом, сосиски, блинчики, французские тосты.
Очередь продвигается. Я все ближе к раздаче, ближе и ближе. И все сильнее мое желание нажраться. Оно достигло таких размеров, что это не просто мысль, оно достигло таких размеров, что вытеснило все мысли. Это одержимость. Основной инстинкт. Дайте что-нибудь. Заполнить себя. Дайте что-нибудь. Заполнить себя.
Хватаю поднос, прошу раздатчицу, которая стоит за стеклянным прилавком, дать мне бекон, и сосиски, и блинчики, и французские тосты. Она дает всего понемногу, прошу еще. Она дает добавки, мне все равно мало. Прошу еще. Она говорит – нет, на тарелку больше не влезает.
Хватаю пачку салфеток, какие-то приборы, нахожу пустой стол, завешиваю салфетками рубашку Уоррена, сажусь, беру бутылку сиропа, поливаю яичницу, бекон, сосиски, блинчики и французские тосты сиропом и начинаю поглощать пищу. Запихиваю в рот все подряд, не глядя, не чувствуя вкуса, мне плевать, что я ем и какой у еды вкус. Неважно. Главное, набить себя чем-то, и я намерен запихнуть в себя как можно больше и как можно скорее. Дайте что-нибудь. Заполнить себя. Дайте что-нибудь. Заполнить себя.
Опустошаю тарелку. Щеки, пальцы, салфетки, прикрывающие рубашку Уоррена, испачканы яйцом, беконом, сосисками, блинчиками, французскими тостами и сиропом. Облизываю пальцы, вытираю щеки, срываю салфетки с рубашки, сминаю их и бросаю на поднос, снова облизываю пальцы. Хочется еще, но на какое-то время я утолил свой голод. Откидываюсь на спинку стула, оглядываюсь вокруг. Поток мужчин и женщин движется по стеклянному коридору. Они натыкаются друг на друга, переглядываются, идут рядом, но не заговаривают. Чувствуется напряженность.
В женской половине почти все места заняты. Одни женщины перед завтраком приняли душ и навели марафет, другие нет, между ними заметно расслоение по социально-экономическому статусу. Богатые сидят с богатыми, средний класс со средним классом, бедные с бедными. Богатых больше, чем средних, средних больше, чем нищеты. Богачки беседуют, смеются, к еде почти не притрагиваются, ведут себя, как на курорте. Средний класс менее оживлен, но вид имеет вполне довольный. Беднота пришла без макияжа, они почти не разговаривают. Налегают на еду, уплетают за обе щеки так, словно ничего вкуснее никогда не пробовали и вряд ли когда-нибудь попробуют.
Я сижу один, но почти все столы в мужской половине заняты. У мужчин расслоение происходит не по классовому принципу, а в зависимости от предпочитаемых веществ. Пьяницы сидят отдельно, кокаинщики отдельно, крэкеры отдельно, героинщики отдельно, амфетаминщики отдельно. Внутри каждой группы есть две категории. Первая категория – профессионалы. Они серьезно употребляли и вконец удолбали себя. Другая категория – любители. Они только баловались, и в принципе их организм сохранен. Профессионалы дразнят любителей, говорят, что им не место среди серьезных людей. Любители отвечают не словами, а только взглядом, который означает: «Слава тебе господи, что мне не место среди серьезных людей». Эд, Тед и Джон сидят среди профессионалов, Рой, его приятель, Уоррен и Коротышка – среди любителей.
Я сижу один, поглядываю на всех, пытаюсь понять, что я-то тут делаю, и отчаянно хочу раздобыть хоть что-нибудь, чтобы нажраться. Еда заглушила инстинкт на время, но я знаю, что скоро он снова проснется и будет еще сильней, чем раньше. Дайте что-нибудь. Дайте что-нибудь посильнее. Наполнить себя быстрее. Наполнить себя так, чтобы коньки отбросить. Леонард садится рядом со мной. На нем новый «Ролекс» и новая гавайка. На тарелке у него только сосиски и бекон, больше ничего.
Привет, малыш.
Он разворачивает салфетку, кладет на колени.
Привет.
Он берет другую салфетку, протирает нож, вилку и край стакана с апельсиновым соком.
Когда тебе починили зубы?
Вчера.
Что сделали?
Поставили две коронки и одну пломбу.
Я показываю слева.
А в этих заделали каналы.
Я тычу в два передних зуба. Стоят крепко.
Обезболили хорошо?
Вообще не обезболивали.
Не пизди.
Ей-богу.
Вообще ничего не вкололи?
Нет.
Сверлили каналы в передних зубах без наркоза?
Ну.
Леонард смотрит так, словно мои слова не укладываются у него в голове.
Впервые слышу о таком садизме.
Да, пришлось попотеть.
Попотеть – тут не самое подходящее слово.
Пришлось до хера попотеть.
Он смеется, откладывает вилку.
Где делают таких ребят, как ты, малыш?
Что ты имеешь в виду?
Откуда ты такой взялся?
Я много где жил.
Например?
А почему ты спрашиваешь?
Из интереса.
Брось интересоваться.
Почему?
Я не хочу заводить здесь друзей.
Почему?
Не люблю прощаться.
Ну, без этого не проживешь.
Проживешь.
Я встаю, беру поднос, снова встаю в очередь, беру еще еды, еще салфеток, направляюсь к пустому столу в углу, сажусь и ем. На этот раз медленнее. Чувствую, как с каждым проглоченным куском желудок растягивается. Ужасно неприятное чувство, но остановиться не могу. Глотаю кусок за куском, чувствую себя все хуже и хуже. Смотрю на еду, она больше не вызывает аппетита, но это не важно. Глотаю кусок за куском, чувствую себя все хуже и хуже. Дайте что-нибудь. Заполнить себя. Дайте что-нибудь. Заполнить себя.
Опустошив тарелку, встаю и медленно, медленно иду через столовую к конвейеру, ставлю на него поднос, и он уезжает в посудомойку. Оборачиваюсь – передо мной стоит Лилли. Хоть мы виделись совсем недавно, но я толком не разглядел ее, да особо и не смотрел на нее во время двух наших встреч. У нее черные волосы длиной до лопаток, синие глаза. Не голубые, как арктический лед, а синие, как глубокая вода. Кожа очень бледная, очень, очень, а губы пухлые и алые, как кровь, хотя она не пользуется помадой. Фигура хрупкая, исхудавшая. Джинсы старые, потертые, очень велики и висят на ней мешком. Она держит поднос и улыбается. Зубы у нее ровные и белые, сразу видно, что от рождения, без всяких брэкетов и без отбеливающей пасты. Я улыбаюсь в ответ. Она говорит.
Тебе сделали зубы.
Да.
Красиво вышло.
Спасибо.
Поживаешь хорошо?
Не очень. А ты?
Я в порядке.
Рад.
Я обхожу ее и иду к выходу. Знаю, что она смотрит мне вслед, но не оглядываюсь. Иду по коридорам, захожу в актовый зал, нахожу свободное место среди пациентов своего отделения и сажусь. Леонард садится рядом со мной, тогда я встаю и пересаживаюсь, чтобы нас разделяло пустое кресло. Он смотрит на меня и смеется. Я не обращаю на него внимания.
Начинается лекция. Тема – «Прими решение и доверься Богу». Мужик, который читает лекцию, вот уже десять лет как ведет трезвый образ жизни. Если случаются неприятности и что-то в жизни складывается не так, он доверяется Богу и идет на собрание Анонимных Алкоголиков. Бог решает его проблему на свое усмотрение, когда лучше, когда хуже, но сам мужик уже не заморачивается. Он просто ждет и надеется, ждет и ходит на собрания, и полагает – что бы ни случилось, это будет единственно правильным. Когда он разглагольствует про Бога и про свое доверие к этому альфа-самцу – всемогущему Богу, – его глаза сияют. Этот блеск мне хорошо знаком, видел его миллион раз – у тех, кто обдолбался до чертиков крепкой хорошей дурью. Этот Бог стал его наркотиком, который вставляет не по-детски, и мужик ловит от него полный кайф. Он парит высоко, как воздушный змей, возбужденно разглагольствует и неистовствует, мечется туда-сюда по сцене, Бог там и Бог сям, Бог здесь и везде, бла-бла-бла. Будь я поближе к нему, сумей дотянуться, врезал бы ему по хайлу, лишь бы заткнулся.
Он заканчивает, все под большим впечатлением, хлопают в ладоши. Я встаю, иду на выход. За дверью меня поджидает Кен.
Привет, Джеймс.
Привет.
Пройдем ко мне ненадолго.
Зачем?
Пришли результаты анализов, доктор Бейкер хочет поговорить с тобой.
Ладно.
Мы идем по ярко освещенным коридорам, которые напрягают меня, Кен пытается поддержать светский разговор, но мне не до Кена. Мне не до Кена, потому что потребность нажраться растет, внутри меня рождается крик, и думать ни о чем другом я не могу, ни на чем не могу сосредоточиться. Я готов убить сейчас ради выпивки. Убить. Выпить. Убить. Выпить. Убить.
Мы идем в терапевтическое отделение, Кен заводит меня в приемную и велит подождать. Сам уходит, я закуриваю и смотрю телевизор. Сигарета хороша на вкус, согревает мне горло, легкие, и хоть это самый слабенький из наркотиков, к которым я привык, но все же это наркотик, и зашел он охуенно. Плевать, как это скажется потом, главное, что сейчас мне хорошо.
В углу стоит кофемашина, я встаю и наливаю себе чашку кофе. Кладу сахара столько, что он больше не растворяется, делаю глоток, кофе такой горячий, что обжигает, и мне это нравится. Почти в тот же миг сердце начинает биться чаще, и хоть я равнодушен к кофе, но все же это наркотик, и зашел он охуенно. Я чувствую себя охуенно.
Возвращается Кен, говорит, что доктор ждет, я встаю, и Кен проводит меня через терапевтическое отделение в чистенькую беленькую лабораторию. Там три стула, окно, блестящие металлические стеллажи с инструментами, лабораторный стол вдоль стены и рентгеновский аппарат – висит возле двери. Доктор Бейкер сидит на стуле, в руках папка. Когда мы входим, он поднимается навстречу.
Здравствуй, Джеймс.
Он протягивает руку, я пожимаю.
Здравствуйте, доктор Бейкер.
Мы садимся.
Можно взглянуть на твои зубы?
Я улыбаюсь.
Прекрасно. Доктор Стивенс сказал, что ты держался как герой.
Доктор Стивенс очень добр ко мне. Поблагодарите его, когда будете говорить с ним в следующий раз.
Обязательно.
Скажите, зачем вы меня пригласили.
Доктор Бейкер открывает папку.
Я получил результаты анализов, которые мы брали несколько дней назад.
Очень плохо?
Он смотрит в папку, глубоко вздыхает. Откидывается назад и смотрит на меня.
Он говорит.
У тебя серьезно поражены нос, горло, легкие, желудок, мочевой пузырь, почки, печень и сердце. Я никогда не видел у человека столь молодого возраста такого сильного поражения внутренних органов. Нужно провести дополнительное обследование, чтобы уточнить характер заболеваний, и, если ты согласен, мы проведем его. А из тех данных, которые имеются, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, ты счастливчик потому, что вообще еще жив. Во-вторых, если ты основательно напьешься или примешь любой сильнодействующий наркотик, то с большой вероятностью умрешь. В-третьих, если начнешь снова регулярно пить или принимать наркотики, то умрешь через несколько дней. Твой организм так пострадал от длительного и разнообразного издевательства, что больше не выдержит.
Кен смотрит на меня, доктор Бейкер смотрит на меня. Я смотрю в пространство, в окно, за которым по-прежнему беснуется буря. Теперь я знаю наверняка то, что давно подозревал. Я почти мертвец.
Сегодня чертовски приятный день.
Говорит доктор Бейкер.
Это не повод для шуток, Джеймс.
Я смотрю на него.
Я знаю, но что, черт подери, я могу сказать? Мне только что вынесли смертный приговор.
Говорит Кен.
Что ты имеешь в виду?
А как вы думаете, что я имею в виду?
Мы здесь для того, чтобы помочь тебе, Джеймс. Мы здесь, чтобы помочь тебе исправиться и научить, как перестать убивать себя. Если ты будешь выполнять наши рекомендации, следовать программе, которую мы составим, ты проживешь долго и счастливо.
Мне только что вынесли смертный приговор.
Это не значит, что он будет приведен в исполнение. Доверься нам.
Я смотрю на доктора Бейкера.
Вы хотите мне еще что-нибудь сказать?
Я надеюсь, что ты доверишься нам, дашь нам шанс помочь тебе. И я молю Бога, чтобы ты остался здесь.
Я смотрю на него. На глазах у него слезы, вид расстроенный. Ясно, что он огорчен и разочарован. Мне осточертело огорчать и разочаровывать людей, осточертело смотреть на их расстроенные лица. Все это я видел слишком часто. Этот доктор будет последним, кого я расстроил.
Спасибо, что уделили мне время и внимание. Я благодарен вам обоим. Спасибо.
Я встаю, открываю дверь, выхожу из лаборатории, закрываю за собой дверь и направляюсь в свою палату. Хотя мне только что сообщили, что дальнейшее употребление алкоголя и наркотиков убьет меня, и убьет очень быстро, все, чего я хочу сейчас, это хорошая выпивка или доза крэка. Дико хочу. Дайте мне что-нибудь. Дико хочу. Наполнить себя. Готов убить ради этого. Дайте что-нибудь. Готов убить ради этого. Наполнить себя. Я подыхаю.
Все люди вокруг меня, буквально все, заняты повседневными хлопотами. Пациенты идут на консультацию или на терапию, врачи и наставники лечат и наставляют. Одни получают помощь, другие ее оказывают, и все делают всё добровольно. Больные организмы восстанавливаются, мозги вправляются, люди налаживают свою жизнь, они следуют программе, они веруют в программу. Они перевернули новую страницу жизни, они полны веры в будущее, а как долго оно продлится, неважно. Сегодня они верят. Ума не приложу, как это им удается.
Вхожу в свою палату: кто-то подобрал Библию и Большую книгу, которые я выбросил, и положил обратно на тумбочку. Они промокли, страницы помялись, обложки порвались. От того, что книги на месте, что кто-то снова подсунул их мне, меня охватывает бешенство. Хватаю их, несу в ванную и запихиваю в мусорное ведро, к использованным лезвиям, ватным палочкам и сопливым платкам. Бросить бы их в унитаз да сверху насрать, но случится засор.
Возвращаюсь в палату, ложусь на кровать, закрываю глаза, последние слова доктора Бейкера проникают в сознание, проясняют ум, ослабляют инстинкт и замедляют сердцебиение. Я выслушал свой приговор. Несколько дней регулярного приема алкоголя или наркотиков – и мне конец. Я буду мертвецом, меня не станет, я исчезну. Перестану существовать в каком-либо виде, воплощении, форме. Наступит тьма, и она будет вечной. Вообще-то я всегда знал, что мой конец будет таким. Вообще-то я всегда понимал, что убиваю себя наркотиками и алкоголем. Понимал, когда напивался, понимал, когда качал по вене, понимал, когда втирал в десны, понимал, когда дышал в пакетик. Никто не виноват, только я сам. Я всегда все понимал. И не мог остановиться.
Воображаю себе мой некролог. Всю правду о моей жизни отбросят и заменят красивой ложью. Ни слова о том, как я жил, вместо этого – выражения типа «любимый сын», «любящий брат», «верный друг», «способный студент». Люди поменяют представление обо мне: из мерзкого подонка я превращусь в беспомощного страдальца, из опасного придурка – в бедную жертву, из обдолбанного наркомана – в несчастного ребенка. Будут говорить – боже мой, какая утрата. О, кем он мог бы стать! Перед ним открывались такие возможности, и что случилось? И все это будет вонючая ложь, все до последнего слова – ложь.
Я прекрасно понимаю, кто я такой, что натворил и почему стою на пороге смерти. Я смотрю правде в глаза, а правда очень проста. Я алкоголик, наркоман и преступник. Вот кто я такой, и только так обо мне и нужно вспоминать. Не надо розовой лжи, не надо выдумок, не надо притворного умиления и неискренних слез. Слез я не заслужил. Я заслужил, чтобы обо мне говорили правду, ничего другого я не заслуживаю, и я начинаю сочинять в уме правдивый некролог. Сочиняю некролог, который должен бы появиться, но никогда не появится. Начинаю с самого начала, придерживаюсь фактов, подхожу к финалу, каким я его представляю. Джеймс Фрей. Родился в Кливленде, штат Огайо, 12 сентября 1969 года. Стал тайком прихлебывать спиртное в семь лет. Впервые напился в десять. Впервые сблевал с перепоя в десять. Выкурил первый косяк в двенадцать. В тринадцать пил и курил регулярно. Впервые вырубился в четырнадцать. В пятнадцать три задержания. За управление автомобилем без прав, за вандализм и порчу частной собственности, за пребывание в состоянии опьянения в общественном месте и покупку алкоголя в несовершеннолетнем возрасте. Ночь провел в тюрьме. В пятнадцать впервые попробовал кокаин, кислоту и кристаллический мет. В шестнадцать еще три задержания. Стал употреблять алкоголь и наркотики перед занятиями в школе. Стал продавать алкоголь и наркотики одноклассникам. Стал вырубаться и блевать регулярно. В семнадцать еще три задержания. Впервые по статье Тридцать шестой «Вождение под воздействием алкоголя или наркотиков» был поставлен на учет. Отправился в тюрьму на неделю. Пил и кололся каждый день. В школе, дома, везде. Блевал и вырубался по семь раз в неделю. Впервые попытался завязать. Результат – делириум тременс, белая горячка. Выпил, чтобы прошла. В восемнадцать лет два задержания. Первый передоз, первое алкогольное отравление. Еще раз попытался завязать, продержался два дня. Впервые блевал кровью, первое носовое кровотечение, вызванное кокаином. Девятнадцать лет. Отрубался по пять раз в неделю. Первый раз обоссался в постели. Трясучка, если не выпить. Первый раз проснулся, не имея понятия, где нахожусь и как туда попал. Двадцать лет. Отрубался по семь раз в неделю. Блевал по семь раз на дню семь дней в неделю. Начал курить кокаин, амфетамин и «ангельскую пыль». Двадцать один. Три задержания. Нападение с оружием, нападение на офицера при исполнении служебных обязанностей, вождение под воздействием алкоголя или наркотиков, сопротивление при аресте, попытка подстрекательства к бунту, хранение наркотиков с целью распространения, нанесение увечья. Отпущен под залог. Впервые покурил крэк, стал курить крэк регулярно. Один передоз, три алкогольных отравления. Двадцать два года. Постоянное злоупотребление алкоголем, постоянное злоупотребление наркотиками. Принимал что придется, где придется, когда придется. Постоянная тошнота. Блевал и срал кровью каждый день. Четыре раза пробовал завязать. Дольше двенадцати часов ни разу не продержался. Двадцать три года. Злоупотребляю сильнее, здоровье быстро ухудшается. Сижу на системе. Два передоза, алкогольное отравление как норма. Редко понимаю, где нахожусь и как туда попал. Дважды пытался завязать, продержался в общей сложности шесть часов. Упал с пожарной лестницы, разбил лицо. Поступил в реабилитационный центр. Ушел из реабилитационного центра. Умер через два дня. В организме обнаружена смертельная доза алкоголя и кокаина. Смерть объясняется случайной передозировкой. Следовало бы считать самоубийством. Спланированным самоубийством. Покойный никого и ничего не оставил после себя. Семья поставила на нем крест, друзья поставили на нем крест.
Мой разум ясен, инстинктивный порыв прошел, сердце бьется медленно и ровно. Мысленный некролог завершен. Он завершен, к нему не придраться. Голая правда, пусть ужасная, но правда – это главное. Именно так обо мне нужно вспоминать, если вспоминать вообще. Вспоминать правду. Это главное.
Мой разум ясен, инстинктивный порыв прошел, сердце бьется медленно и ровно. Я принял решение, и это меня успокоило. Именно так я себе все и представлял, сейчас просто прояснились детали. Я уйду отсюда и прикончу себя. Уйду отсюда, раздобуду выпивки и крэка, сторчусь до смерти. Я уйду отсюда, уйду без оглядки, уйду, не попрощавшись. Я жил в одиночку, боролся в одиночку, терпел боль в одиночку. И умру в одиночестве.
Обдумываю, когда лучше уйти. Не хочу, чтобы меня засекли, хочу уйти быстро, незаметно, без сцен. Для этого нужна темнота. Темнота защищает, скрывает, утешает. Темнеть начинает ближе к обеду, но мое отсутствие на обеде бросится в глаза. Всем положено являться на обед, принимать пищу по расписанию, и, хотя у меня нет друзей, мое отсутствие все равно заметят. После обеда начинается лекция, это более подходящий момент. Во время лекции все снуют туда-сюда. Кто выходит в туалет, кто покурить, кто на встречу с наставником или мозгоправом, кто поблевать. Никто не забеспокоится, если я уйду с лекции, а когда хватятся, пройдет часа три-четыре, и я буду уже далеко, где меня не найдут. Я скроюсь в темноте. Останусь один. Останусь в покое. Никто не вернет меня назад.
Мой разум ясен, инстинктивный порыв прошел, сердце бьется медленно и ровно. Я уйду отсюда и прикончу себя. Эта мысль вызывает у меня улыбку. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что она мрачная и ужасная. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что в смерти больше нет загадки для меня, а без тайны нет страха. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что я предпочитаю улыбаться, а не плакать. Эта мысль вызывает у меня улыбку, потому что скоро все закончится. Наконец-то все закончится. Наконец-то все закончится. Слава богу.
Я делаю глубокий вдох и думаю, сколько вдохов мне еще осталось. Чувствую, как бьется сердце, и думаю, сколько ударов еще осталось. Провожу руками вдоль тела – оно теплое и мягкое, а скоро станет холодным и твердым. Ощупываю волосы, глаза, нос, губы. Ощущаю, как пробиваются усы. Касаюсь кожи на шее, груди, руках. Скоро все это сгниет. Разложится на молекулы, рассыплется в прах. Исчезнет. Ни следа не останется. Пепел к пеплу, прах к праху. Обратимся в то, из чего возникли. Скоро я буду гнить, разлагаться, рассыпаться.
Услышав, как открывается дверь, сажусь. Входят Рой и Линкольн. Рой ухмыляется, Линкольн кривится. Линкольн говорит.
Чего делаешь?
Сижу.
Почему не в группе?
Охота побыть одному.
Надо общаться.
Не хочется общаться.
Тут не всегда делают то, что хочется.
Если вы пришли лаяться из-за группы, я сейчас пойду туда. Если пришли лаяться по другому поводу, отвалите.
Линкольн оборачивается к Рою.
Рой.
Рой делает шаг вперед.
Ты не вымыл общий сортир сегодня.
Я смеюсь. Рой смотрит на Линкольна. Линкольн говорит.
Не вижу ничего смешного.
Этот кретин наезжает на меня.
Рой говорит.
Я ни на кого не наезжаю. Ты не вымыл общий сортир сегодня.
Я снова смеюсь.
Отвали, Рой.
Рой смотрит на Линкольна. Линкольн смотрит на меня.
Там грязно, Джеймс. Он только что показывал мне.
Я смотрю на него.
Я вымыл его часа в четыре утра. Отполировал так, твою мать, что он блестел. Если сейчас там грязно, значит, кто-то гадит, скорее всего, он сам и гадит, чтобы докопаться до меня.
Рой говорит.
Неправда.
Я смеюсь.
Пошел ты, Рой.
Он оборачивается к Линкольну. Скулит, как шкодливый пацан.
Это неправда.
Линкольн говорит.
Неважно, было там чисто в четыре утра или нет. Твоя обязанность следить, чтобы там было чисто всегда, а сейчас там грязно, как в жопе. Ты должен пойти и снова вымыть.
Как бы не так.
Именно так.
Как бы не так, подавись ты.
Именно так.
Ты башкой трахнулся, если думаешь, что я хоть пальцем прикоснусь к этим туалетам. Я вымыл их утром, а Рой нагадил там, чтобы докопаться до меня. Пусть Рой и отмывает теперь, на хер.
Линкольн делает шаг вперед, я откидываюсь на спинку кровати. Он нависает надо мной, приближает свое взбешенное лицо.
Ты пойдешь и отмоешь их, нравится это тебе или нет, и пойдешь прямо сейчас, и посмей еще хоть слово возразить. Понял меня?
Я вскакиваю с кровати, стою, глядя ему глаза в глаза.
А то что? Ты заставишь меня?
Смотрю ему прямо в глаза.
Ты заставишь меня?
Смотрю ему прямо в глаза.
Ну, давай, Линкольн. Что ты сделаешь?
Мы смотрим друг на друга, дышим тяжело, челюсти сжаты, оба замерли в стойке, как перед прыжком. Я знаю, что он ничего не сделает, и это дает мне преимущество. Я знаю, что если он тронет меня, то лишится своей должности. Я знаю, что он слишком дорожит своей работой, чтобы рисковать ей из-за меня. Я понимаю, что он размяк за годы трезвости и что черная одежда, ботинки, стрижка – это все неспроста, а для создания имиджа крутого парня. Я знаю, что ничего он не сделает, и мне смешно от того, что он зашел так далеко. Я хохочу ему в лицо. Он говорит.
Не вижу ничего смешного.
Я снова хохочу.
Не буду я чистить твои сраные туалеты, Крутой мужик. На хер твои туалеты.
Я обхожу его стороной.
Джеймс.
Я не останавливаюсь.
Ни хера не буду.
Я прохожу мимо Роя и выхожу из палаты, иду на верхний ярус, выпиваю чашку кофе, выкуриваю парочку сигарет, и никотин с кофеином делают свое благое дело. Сердцебиение учащается, а мысли замедляются, вместо рук начинают подрагивать ноги. Никотин с кофеином достаточно крепки, чтобы подействовать, но недостаточно крепки, чтобы подбить меня на безобразия. Мне нравятся кофеин с никотином, особенно в сочетании. Один бодрит и возбуждает, другой успокаивает и замедляет. Они как прилив и отлив, так что я наслаждаюсь обоими полюсами спектра. То ускорение, то замедление, и все оттенки, что между ними. Приятно экспериментировать с дозами и степенями, приятно управлять своим кайфом. Все равно что стрелять по мишени. Я испытываю ощущения, получаю удовольствие и не подвергаюсь опасности. Я полностью контролирую свои действия и свои чувства. Но это как в перестрелке – едва начнется стрельба всерьез, а не по мишени, весь самоконтроль летит к чертям. К чертям собачьим. Тут уж набирай скорость, накручивай обороты, еще и еще. Пока не сдохнешь.
Групповые занятия заканчиваются, народ отправляется в столовую на обед. Я иду следом, ем за одним столом с Леонардом. Он задает кучу вопросов, я не отвечаю ни на один. Он находит это забавным, я тоже, в какой-то момент он сдается и начинает травить байки про наших коллег-пациентов. У всех одно и то же. Все имел, все просрал, остался без ничего. Теперь пытается все вернуть. Великая Американская Трагедия.
После обеда идем на лекцию про то, как важно прилагать усилия и вести здоровый образ жизни. Я не слушаю ни фига, мне вообще начхать, а Леонард кидает монетки в Лысого Коротышку, моего соседа по палате. Он целится в лысый череп и радуется, если попадает в самый центр лысины. Почему-то Коротышка это терпит. Лекция заканчивается, мы возвращаемся в отделение, и я иду на свой первый сеанс групповой терапии. Тема – искупление вины. Группу ведет Кен, все обсуждают, необходимо ли покаяние. Кен считает, что это обязательно, с ним почти все согласны. Покаяние позволяет начать жизнь с чистого листа, избавиться от пагубных пристрастий, освободиться от прежней жизни. Не важно, простят тебя или нет. Важно, что ты раскаиваешься, просишь о прощении и признаешь свою вину.
С этой точкой зрения не согласны только самые отпетые в группе. Они осознают: то, что они натворили, не подлежит прощению. Они не хотят предаваться раскаянию, потому что вспоминать о том, что натворили, и после этого быть отвергнутыми – слишком больно. Они хотят идти дальше и все забыть, даже если забыть невозможно. Я тоже среди таких. Я знаю, что меня простить нельзя, и не стану даже просить об этом. Моим искуплением будет моя смерть. Те, кого я мучил, больше не увидят меня, не услышат меня, не вспомнят обо мне. Я больше не смогу мучить их, отравлять им жизнь, причинять им боль, как раньше. Забудьте меня, если получится. Забудьте, что я существовал, забудьте все, что я сделал, что бы я ни сделал. Мое самоубийство – вот моя просьба о прощении. Если даже она будет отвергнута, забудьте обо мне. Прошу, забудьте.
После окончании группы все собираются на нижнем ярусе, и начинается церемония выписки. Рой и его дружок покидают клинику. Срок их пребывания закончился, они прошли свои программы и теперь готовы к возвращению в большой мир. Каждый получает Медаль и Камень. Медаль означает, что они обрели трезвость, Камень – что они полны решимости оставаться чистыми. Каждый произносит небольшую речь. Примерно половина присутствующих терпеть их не может и считает говном, но другая половина восхищается ими и желает удачи. Я сижу в заднем ряду с Леонардом, который читает спортивную страницу «Юэсэй тудей» и ругается шепотом.
Церемония заканчивается, все аплодируют, Рой обходит собравшихся, чтобы обняться и попрощаться. Меня он огибает стороной, его дружок тоже. Вид у обоих счастливый, в глазах блеск неофитов. Они сжимают Медаль и Камень, просят приятелей расписаться на обложке их экземпляров Большой книги. И все же в обоих можно заметить неуверенность и испуг. Кажется, будто они убегают и пытаются спрятаться от чего-то. Кажется, они понимают, что за ними кто-то охотится. Бьюсь об заклад, что они продержатся месяц, не больше. Месяц в лучшем случае.
Все расходятся по своим палатам и готовятся к ужину. Я тоже иду к себе и готовлюсь к побегу. Снимаю «оксфордку» Уоррена, надеваю свою футболку, пишу Уоррену записку с благодарностью, прячу в нагрудный карман «оксфордки» и кладу рубашку на его кровать. Возвращаюсь к своей кровати, пишу еще одну записку, в ней указываю адрес клиники, прошу вернуть куртку по этому адресу и отдать Хэнку, благодарю Хэнка за его доброту и дружбу. Записку кладу в нагрудный карман куртки, чтобы ее обнаружили, когда найдут мое тело, надеваю куртку, оглядываюсь вокруг – не оставил ли каких-нибудь своих вещей, но у меня нет своих вещей. Заглядываю в тумбочку, под кровать, под одеяло, в медицинский шкаф, в душ. Ничего. У меня ничего нет.
Иду в столовую, встаю в очередь, беру поднос, вдыхаю запах съестного, он расползается по организму, я чувствую голод. Я голоден, голоден, голоден, я хочу жрать, много-много. Сегодня на ужин рубленый бифштекс с картофельным пюре, подливой и брюссельской капустой и яблочный пирог. Все это я люблю, и хорошо, что именно это будет моей последней нормальной едой в жизни. Я беру столько, сколько женщина за прилавком согласна выдать, прихватываю приборы и салфетки, нахожу пустой стол, сажусь, расстилаю салфетку на коленях, делаю глубокий вдох. Возможно, это последняя нормальная еда в моей жизни.
Бифштекс отличный, сочный, мягкий, а пюре из настоящей картошки, и подливка теплая, густая, пропитанная вкусом говядины. Я ем медленно, смакую каждый кусочек, жую, пока он не растворится во рту. Мама готовила нам с Братом рубленый бифштекс, когда мы были маленькие, точь-в-точь такой же, один раз в неделю. Я ел такой бифштекс в детстве и ем сейчас, во время своей последней трапезы, и от этого накатывают воспоминания о детских ужинах, и не только о них. Отец пропадал на работе или разъезжал по командировкам, а мы с Братом были в школе или носились где-нибудь возле дома. Каждый вечер в шесть тридцать садились ужинать вместе с Мамой. Она вкусно готовила и любила этот обычай – ужинать с нами. После ужина мы смотрели телевизор или играли, или она нам читала. Когда Отец бывал дома, мы проводили время вместе, все вместе, пока не наступала пора нам с Братом ложиться спать. Мы были Семьей, счастливой семьей, и оставались ей, пока я не начал выделываться. Как здорово, если б моя семья оказалась сейчас здесь. Хоть наша связь и распалась за последние годы, но все равно было бы славно в последний раз поужинать с ними. Вряд ли у нас нашлись бы общие темы для разговора, но все равно было бы славно повидать их и попрощаться. Вряд ли у нас нашлись бы общие темы для разговора, но все равно было бы славно пожать им руку, сказать, что мне жаль, что все так вышло, что в том, кем я стал, нет их вины. Вряд ли у нас нашлись бы общие темы для разговора, но я хотел бы попросить их, чтобы они забыли меня.
Закончив есть, я откидываюсь на спинку стула и замечаю Леонарда, который направляется ко мне с подносом. Ставит поднос на стол, садится напротив, разворачивает салфетку и протирает свои серебряные приборы.
Как ты, малыш?
Хорошо.
Неужели хорошо?
Да, хорошо.
Впервые слышу от тебя такое.
Разобрался кой с каким дерьмом.
То есть?
Не твое дело.
Когда-нибудь мы потолкуем с тобой.
Не будет этого.
Тебе надоест ходить одиноким засранцем, захочется с кем-нибудь поговорить, и мы потолкуем с тобой.
Не будет этого.
Ничего, я терпеливый, своего дождусь.
Я смеюсь.
Да-да, терпеливый, своего дождусь. Попомни мои слова.
Я беру поднос, встаю.
Удачи тебе во всем, Леонард.
Это еще что значит?
Удачи тебе во всем.
Я отворачиваюсь, отношу поднос на конвейер и направляюсь к выходу из столовой. Проходя по стеклянному коридору, разделяющему мужчин и женщин, замечаю Лилли, которая сидит за столом одна. Взглянув на меня, она улыбается, наши глаза встречаются, и я улыбаюсь в ответ. Она опускает глаза, я останавливаюсь и смотрю на нее. Она поднимает глаза и снова улыбается. Кажется, девушки красивее я не видел. Глаза, губы, зубы, волосы, кожа. Черные тени под глазами, шрамы на запястьях, я их углядел. Она носит нелепую одежду, которая больше нее на десять размеров, она носит печаль и боль, которая больше нее на сто размеров. Я стою и смотрю на нее, все смотрю, смотрю, смотрю. Мужчины проходят мимо, другие женщины начинают обращать на меня внимание, а Лилли не понимает, что со мной, зачем я стою и смотрю, и на щеках у нее появляется румянец, и он прекрасен. Я стою и смотрю. Смотрю, потому что знаю – там, куда я ухожу, ничего красивого не увижу. Крэк продают не в сказочных дворцах и не в сувенирных лавках, курят его не в роскошных отелях и не в загородных клубах. Крышесносный дешевый алкоголь не подают в мишленовских ресторанах, в дорогих барах, в гурманских гастрономах или в винных бутиках. Я ухожу в мрачные закоулки жутких трущоб, где заправляют жуткие типы, которые толкают отраву отбросам общества. Там не увидишь никакой красоты, ничего даже отдаленно похожего на красоту. Там только барыги, наркоманы, преступники, шлюхи, сутенеры, убийцы и рабы. Там наркотики, бутылки, шприцы, колеса, дым, смрад, блевотина, кровь, гниль, разложение и распад человека. Я провел много времени в таких местах. Уйдя отсюда, я разыщу такой притон и останусь там, пока не сдохну. А пока не ушел туда, я хочу насмотреться на прекрасное. Насмотреться в последний раз, чтобы, умирая, вызвать в своем сознании этот образ, чтобы, испуская дух, представить себе лицо, от которого рождается улыбка, и посреди смертного ужаса найти хоть малое прибежище человечности.
Какая-то тетка подходит к Лилли, наклоняется и шепчет что-то ей на ухо, Лилли качает головой и пожимает плечами. У тетки такой вид, словно она наделена властью, я не хочу доставлять Лилли неприятности из-за своих причуд. Дожидаюсь, пока она снова взглянет на меня, улыбаюсь ей, она улыбается в ответ прекрасной, удивительной улыбкой, и в сознании у меня запечатлевается образ, о котором я мечтал. Прощай, Лилли. Я сохраню твой образ, милая. Прощай, благодарю тебя. Я иду на лекцию, нахожу место в заднем ряду, сажусь и смотрю прямо перед собой, не замечаю никого и ничего. Через пятнадцать минут меня здесь не будет, отправлюсь отсюда прямиком в ад. В принципе, исполнить то, что я задумал, проще простого. Встал, прошел к выходу, вышел. Но вдруг мой план начинает шататься. План дает трещину, решимость тает.
Я собираюсь умереть. После смерти я буду мертв, исчезну, перестану существовать. Не буду мыслить, дышать, чувствовать. Наступит чернота, и она будет всегда. Наступит тишина, и она будет всегда. Я собираюсь умереть. Я глубоко вздыхаю. Я поступаю правильно. Я поступаю правильно. Я поступаю правильно. Пора закончить этот спектакль, пора убраться со сцены. Мне невыносима моя жизнь, невыносим я сам. Я не в силах взглянуть себе в глаза, не в силах выдержать отражение своего лица в зеркале. Я пытался исправиться, но не смог. Пора умирать. Леонард садится рядом, смотрит на меня. Я смотрю прямо перед собой.
Зачем ты надел эту теплую куртку?
Не реагирую.
Замерз, что ли?
Не реагирую.
Зачем ты надел эту теплую куртку?
Не сводит с меня глаз.
Отвечай, мелкий засранец.
Смотрю прямо перед собой.
Зачем ты надел эту теплую куртку?
Не реагирую. Он протягивает руку, кладет мне на плечо, трясет меня.
Почему ты пожелал мне удачи во всем?
Я убираю его руку со своего плеча, кладу ему на колени, поворачиваюсь и смотрю ему прямо в глаза.
Отстань от меня, черт тебя подери.
Он тоже смотрит мне прямо в глаза.
Почему ты пожелал мне удачи во всем?
Отстань от меня, старина. Отстань, черт тебя подери.
Я отворачиваюсь от него, смотрю прямо перед собой. Чувствую, что он по-прежнему не сводит с меня глаз. Понятия не имею, чего ему надо, какое ему дело до меня и чего он добивается. Если хочет остановить меня, ему это не удастся, я по-любому уйду. Мне пора умирать.
Лекция начинается, он отворачивается от меня, смотрит на сцену. На сцене парень примерно моих лет начинает рассказывать свою историю. Пацаном он попивал пивко, покуривал травку, а в четырнадцать взялся за ум. Вступил в Анонимные Алкоголики, открыл для себя Высшую силу, и это изменило его жизнь. В школе стал круглым отличником, поступил в Гарвард. Сейчас он инвестиционный банкир, помолвлен и собирается жениться. Он по-прежнему ходит на собрания, полностью полагается на Высшую силу, каждый вечер встает на колени и молится перед сном. Когда рассказывает о своем нечестивом прошлом, называет пиво варевом, а траву косяком. Он говорит, как прятался за углом и отхлебывал из фляжки в школе во время танцев. Он говорит, что страдает от стыда и чувства вины за свои поступки.
Меня не колышет этот парень ни с какой стороны. Меня не колышет, что он пил варево и покуривал травку, прятался за углом и отхлебывал из фляжки. Я не считаю эти шалости мало-мальски серьезной наркозависимостью. Я не считаю, что подобные шалости требуют лечения. Я полагаю, этот парень вступил бы в группу «Двенадцати шагов» даже потому, что он много смотрит телевизор, обжирается хот-догами, подолгу играет в пришельцев или часто ковыряет в носу. Нашел бы повод. Я полагаю, что не попадись ему «Двенадцать шагов», он отыскал бы свидетелей Иеговы или христиан-пятидесятников, хасидов или группу спасения неопознанных летающих объектов. Я полагаю, что причина его вступления в общество Анонимных Алкоголиков не травка и не пивко, не пристрастие к ним, а просто потребность быть частью какой-то общности. Быть частью – меня это никогда особо не привлекало, за эту радость я и горсти дерьма не дам. Я всегда жил в одиночестве. И умру в одиночестве.
Встаю, пробираюсь между рядами к выходу. Когда прохожу мимо Леонарда, он хватает меня за руку. Я вырываю руку, продолжаю путь, иду мимо сидящих людей, выхожу из зала, выхожу из отделения, выхожу из корпуса. Оказываюсь на улице, кругом холод, дождь, ветер, слякоть и мрак, на меня набрасывается тьма и все то, что прячется в ней.
Наглухо застегиваю куртку, поднимаю воротник, делаю глубокий вдох и всматриваюсь во тьму. Там меня ждут. Алкоголь, наркотики, барыги, наркоманы, преступники, шлюхи, сутенеры, убийцы, рабы, бутылки, шприцы, колеса, дым, смрад, блевотина, кровь, гниль, разложение и распад человека. Все это прячется во тьме и ждет меня.
Я покидаю навес над крыльцом и пускаюсь в путь. Шаг за шагом, все дальше и дальше. Холод хватает и не отпускает, дождь хлещет, под ногами хлюпает слякоть, месиво из глины и воды, тьма такая, что хоть глаз выколи. Дальше, дальше и дальше, шаг за шагом, меня ждут, меня ждут. Я одолел метров десять, слышу, как открывается дверь, оглядываюсь – Леонард выходит на крыльцо. Он без куртки, вмиг промок насквозь, спешит ко мне.
Эй, малыш.
Я отворачиваюсь, продолжаю свой путь. Слышу, как хлюпают его шаги, как они ускоряются, Леонард приближается. Я знай иду своим путем.
Погоди секунду, малыш.
Не тормозить, не останавливаться, не оборачиваться.
Куда ты намылился?
Шаги ближе.
Куда ты намылился?
Рука на моем плече. Скидываю ее.
Погоди секунду, малыш.
Рука на моем плече. Скидываю ее. Две руки на моих плечах. Они сильнее, чем я ожидал. Останавливают меня, разворачивают. Леонард насквозь промок, с него капает вода. Он говорит.
Куда намылился?
Я скидываю его руки с себя.
Отстань от меня.
Делаю шаг прочь.
Куда намылился?
Он делает шаг за мной.
Подальше отсюда.
Чего хочешь?
Обдолбаться.
Только попробуй.
Уж не ты ли мне помешаешь?
Я.
Останавливаюсь, оборачиваюсь, беру его за горло, давлю на кадык. Я не хочу, чтобы он увязался за мной, помешал мне. Я во тьме, где хоть глаза выколи. Я на пути к Дому.
Отстань от меня, старина.
Я толкаю его на землю. Он хватается за горло, кашляет. Я продолжаю путь, свет из окон клиники меркнет, тьма плотнее окутывает меня. Слышу, как Леонард поднимается и направляется за мной, сжимаю кулаки и готовлюсь дать ему отпор посерьезнее.
Вижу я твои кулаки, малыш, вижу. Ничего ты кулаками не добьешься.
Продолжаю путь.
Даже если ты мне врежешь сейчас, все равно я разыщу тебя и верну сюда.
Он идет за мной.
И сколько раз ты сбежишь – столько раз я тебя разыщу. Пока наконец твоя дурацкая башка не встанет на место, и ты не возьмешься за ум.
Продолжаю путь.
Ты не знаешь, кто я, понятия не имеешь, кто я, но имей в виду, у меня есть кой-какие возможности, и я ими воспользуюсь, черт подери. Я буду тебя возвращать снова и снова.
1
Один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет. Преимущественное актёрское амплуа Хэкмена – представители закона и военные. – Прим. пер.
2
Уильям Гриффит Уилсон (англ. William Griffith Wilson) также известный как «Билл У.», вместе с Робертом Смитом создал первое сообщество Анонимных Алкоголиков, которое впоследствии разрослось до более чем 100 тыс. групп во всех странах мира, включающих в себя более 2 млн человек. После смерти Уилсона в 1971 году его имя было включено в список 100 величайших людей XX века, по версии журнала Time. – Прим. перев.