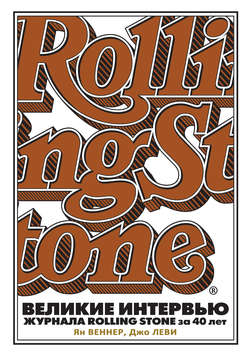Читать книгу Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет - Джо Леви - Страница 8
Рэй Чарльз
Интервьюер Бен Фонг-Торрес
18 января 1973 года
ОглавлениеПятилетним ребенком вы потеряли зрение.
– Это произошло не так, как если бы сегодня я мог видеть за сотню миль, а завтра не мог видеть и на дюйм. В течение двух лет мое зрение с каждым днем все ухудшалось. Мама всегда говорила мне правду: если вы бедны, то вам тем более надо быть честными с вашим ребенком. Мы не могли позволить себе никаких специалистов. Мне повезло, что вообще был врач – он же и специалист.
Когда вы теряли зрение, старались ли вы как можно больше вобрать, запомнить?
– Думаю, я был слишком мал, чтобы действительно этим озаботиться. Я знал, что есть то, на что мне нравилось смотреть. Я любил смотреть на солнце. Это вредно для глаз, но мне нравилось. Ночью я любил смотреть на луну. Выходил на задний двор и не сводил с нее глаз. Луна меня просто околдовывала. И еще одно явление, для многих пугающее, очаровывало меня – молния. Когда я был маленьким, мне казалось, что это красиво. Все яркое, все светящееся. Наверно, из меня мог выйти поджигатель.
И были цвета. Я с ума сходил от красного. Всегда думал, что это самый красивый цвет. Я помню основные цвета. Не имею представления об оттенках цветов. Но я знаю черный, зеленый, желтый, коричневый и все такое. И конечно, я помню маму, она была красивая. Боже, какая она была красивая! Маленькая женщина, должно быть, около 4 футов 11 дюймов ростом – так мне кажется. Помнится, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, я был выше и крупнее моей мамы. И ее прекрасные длинные темные волосы спадали ей на спину. Шикарная цыпочка, приятель. (Смеется.)
Многие просили вас дать определение души. Мне бы хотелось услышать определение красоты.
– Если говорить о физической красоте, то я бы сказал, что для меня красота, вероятно, почти то же самое, что и для большинства. Это черты лица людей, их кожа, а если говорить о женщине, то ее фигура. Ты понимаешь, что я имею в виду? Точно так же я мог бы выйти из дому и ощупать автомобиль. Я положил бы руки на машину и понял бы, какая она, по изгибам ее линий. Как я уже сказал, мне повезло, и я видел почти до семи лет и помню то, о чем люди говорили как о прекрасном.
А красота в музыке?
– Мне кажется, ты сочтешь меня сентиментальным, приятель, правда. Мне нравятся Шопен и Сибелиус. Люди, которые писали романтично, понимаешь, и хотя Бетховен был труден для меня, все же и он написал несколько поистине трогательных вещей, а «Лунная» соната, мне кажется, – несмотря на то что стала очень популярной, – несет в себе нечто такое, друг, что ты просто чувствуешь ту боль, которую довелось испытать этому человеку. Что-то такое происходило у него внутри… Знаешь, он был очень, очень одинок, когда ее писал. Что касается техники, мне нравится Бах. Если действительно хочешь освоить технику исполнения, играй Баха; вот он был мастак – все эти его фуги и прочее, чего только не выделывают при этом руки. Но лично я, если забыть о технике, Баха не люблю.
Пытались ли вы продолжить учебу в средней школе или колледже после школы?
– Нет. Когда я окончил школу, мне пришлось начать вкалывать, как тебе известно, потому что мама умерла, когда мне было пятнадцать лет. Братьев и сестер у меня не было. Но мама всегда наставляла меня: «Послушай, ты должен учиться обслуживать себя сам». И она всегда говорила: «Сынок, однажды я умру, и тебе придется научиться выживать, потому что даже твои лучшие друзья, даже если они захотят что-то сделать для тебя, не смогут быть всегда рядом, в конце концов, у них будет своя жизнь». Поэтому с тех пор я стал стараться сам себя обслуживать. Так что же я делаю, чтобы самого себя обслужить? То, что я делаю лучше всего, или, по крайней мере, считаю, что могу делать лучше всего, – пою или играю на фортепьяно, или делаю одно и другое вместе.
Чему еще вас учили в школе, что могло бы помочь в жизни?
– Ну, не знаю, где бы я мог применить это свое умение, но я печатаю на машинке, вероятно, как любая секретарша. Ну, не любая. При желании я могу печатать со скоростью шестьдесят – шестьдесят пять слов в минуту, что-то вроде того. Потом, я умею многое делать руками. Умею делать стулья, метлы, швабры, половики, бумажники, ремни и многое другое. Поэтому, при необходимости, мне кажется, я бы пошел и купил кожу, чтобы из нее тачать. Я люблю работать руками и уверен, что этим бы и занимался, если бы не исполнял музыку, потому что это такая вещь, в которой участвует воображение, понимаешь? А еще я знаю разные виды швов. Мексиканский шов и обычный шов… Этим, мне кажется, я занимался бы – хотя, полагаю, это была бы очень скромная жизнь. Руками много не заработаешь.
Долгое время и музыка вам обеспечивала только скромную жизнь.
– Да, жить было не весело. Пару раз я тяжело болел. Знаешь, я страдал от недоедания. Я действительно оказался в трудном положении, потому что есть было нечего, а попрошайничать я не хотел. Две вещи не следует делать: попрошайничать и воровать. И это правильно.
Какое музыкальное образование вы получили во Флориде?
– Меня научили музыкальной грамоте, и я должен был играть Шопена, Бетховена, ну, как обычно. Обычные уроки музыки. Никакой собственно теории. Понятия не имею, что это такое. Просто меня научили музыкальной грамоте и, естественно, правильной аппликатуре, а как только этому научишься, то переходишь от упражнений к небольшим пьесам, например к Шопену. Так оно и шло, хотя я пытался играть буги-вуги, приятель. Потому что я всегда мог сыграть почти все, что слышал. У меня всегда был неплохой слух, но учителей музыки у меня было немного, и поэтому я знаю музыку довольно хорошо, если мне будет позволено это сказать. Меня никогда не учили писать музыку, но, когда мне было двенадцать лет, я писал аранжировки для одного оркестра. Черт, зная музыкальную грамоту, можно писать музыку, и я думаю, что мне, конечно, помогало то, что я пианист и знаю аккорды. Естественно, я слышу аккорды, и я всегда мог исполнять почти все, что слышал. Дело лишь в том, чтобы научиться записывать это на бумаге. Самостоятельно я научился только тому, как записывать это для духовых инструментов: например, я понимал, что саксофон записывают в другом ключе. А также, еще в школе, я учился играть на кларнете. Слушайте, я с ума сходил по Арти Шоу[44]. Я думал: «Да у него же был самый красивый саунд», и в свою игру он вкладывал столько эмоций. Я всегда это чувствовал и чувствую по сей день.
Где вы слушали тот самый буги-вуги?
– Несколько лет мы жили в Гринсвилле, во Флориде, по соседству с магазинчиком, где, знаете, дети покупали газировку и леденцы, а взрослые – керосин для ламп. В магазинчике был проигрыватель-автомат, и у хозяина автомата (звали этого парня Уайли Питтмэн) было еще и пианино. Так вот, если я гулял во дворе – мне было года три-четыре, – а он в это время начинал играть на пианино, то я все бросал, мчался туда и забирался на стул. Естественно, не трудно догадаться, что если ребенок так врывается в магазинчик, забирается на стул и начинает бацать на пианино, то его просто выставляют оттуда со словами: «Знаешь что, убирайся-ка отсюда, ты что, не понимаешь?» Но Уайли Питтмэн так не делал. За это я всегда любил этого парня. Мне было лет пять, и в мой день рождения он пригласил туда каких-то людей. Он сказал: «АрСи (так меня тогда называли), послушай, сядь-ка за пианино и сыграй для них».
Ну, теперь представим: мне пять лет, они прекрасно знают, что играть я не умею. Я просто барабанил по клавишам, понимаете? Но так они поощряли меня, и мне кажется, что тот человек чувствовал: если ребенок всякий раз бросает игрушки и развлечения и прибегает, чтобы послушать, как кто-то играет на пианино, то очевидно, что музыка сидит в костях этого ребенка, понимаешь? И он не отбивал у меня охоту, хотя и мог бы, понимаешь, о чем я говорю? Возможно, я вообще не стал бы музыкантом, потому что у меня не музыкальная семья, не забывай об этом.
Ребенком вы, наверное, слушали и The Grand Ole Opry[45]?
– Да, да, всегда – каждый субботний вечер, никогда не пропускал. Не знаю, почему мне нравилась эта музыка. Я действительно думал, что это что-то вроде музыки в стиле кантри, даже будучи подростком – я не мог тогда понять, что это такое, но теперь знаю. Но не знаю, почему она мне нравилась в то время, я просто любил слушать Минни Перл[46], потому что она казалась мне такой занятной.
Сколько вам тогда было?
– О, кажется, лет семь-восемь, и я помню Роя Экаффа[47]. Хотя я был воспитан на блюзах, меня всегда интересовала и другая музыка, и я чувствовал, что эта музыка, правда, ближе всего к блюзам – их гитары плакали и рыдали, и это действительно меня привлекало. Я не знаю, что это. Госпел и блюзы, по сути, если разобраться, почти одно и то же. Дело только в том, говорите ли вы о женщине или о Боге. Я вышел из баптистской церкви, и, естественно, что бы ни случилось со мной в той церкви, это становилось всем известно. Поэтому, мне кажется, что блюз и госпел – вещи, синонимичные друг другу. Биг Билл Брунзи однажды сказал: «Рэй Чарльз освятил блюзы, которые он поет. Он со единил блюзы со спиричуэлс… Ему следовало бы петь в церкви».
Лично я чувствую, что дело не в том, чтобы соединить госпел с блюзами. Дело в том, чтобы петь именно так, как я пою. Неважно, пытался ли я превратить церковную музыку в блюз или на оборот. Я пытался сделать только одно – петь именно так, как я пою. Я вырос в церкви. Ходил в воскресную школу. Ходил на утренние службы – на них молодежь поет в хоре – и ходил на вечернюю службу и посещал все нетрадиционные службы. Мои родители сказали: «Ты будешь ходить в церковь», то есть без всяких «если». Поэтому, слушая с детства хорошее пение в церкви, а также слушая блюзы, мне кажется, я мог петь только так, как поют в церкви, не говоря уже о любви к Нату Кингу Коулу – я всячески старался ему подражать. Когда я только начинал, я так любил этого человека… вот почему я понимаю многих других молодых артистов, которые стараются мне подражать. Понимаешь, когда ты кого-то сильно любишь и чувствуешь, что то, что он делает, близко твоим чувствам, то кое-что перепадает и тебе, – поэтому мне все удалось.
Мы говорили о том, с чего вы начали. Вы играли так называемую коктейльную музыку, играли на фортепиано и пели песни вроде «If I Give You My Love». Но всегда ли вы мечтали создать собственный биг-бэнд?
– Ну, когда я занимался тем, о чем ты сейчас говоришь, я думал только о том, как бы сделать записи – это было моей единственной задачей, моей целью. Вот почему в 1948 году – тогда музыкантам – не членам профсоюза было запрещено записывать пластинки – я все-таки делал записи. Надо сказать, что я ничего не слышал о запрете и, конечно, впоследствии вынужден был заплатить штраф. Но мне было все равно – мне было всего семнадцать лет. В то время я работал в Сиэтле в The Rocking Chair, а из Лос-Анджелеса приехал один парень, Джек Лодердейл, у которого была небольшая компания звукозаписи[48]. Он приехал и как-то вечером попал туда и услышал, как я играю, и сказал мне: «Слушай, у меня компания звукозаписи. Я хотел бы тебя записать». Приятель, я так обрадовался, что даже не спросил, сколько я получу. Мне было без разницы. Я записался бы просто за так. Поэтому он сказал: «Слушай, я повезу тебя в Лос-Анджелес». И… о, Лос-Анджелес – понимаешь? О-о-о, да, да. И меня запишут, парень. Знаешь, ого, мой голос на пластинке. (Смеется.) Я поехал, и мы записали песню «Confession Blues». Моя первая запись. Довольно хорошо продавалась. Потом, примерно через год, в 1949 году, мы записали песню «Baby Let Me Hold Your Hand». Это был действительно отличный хит. «Confession Blues» продавалась довольно хорошо, потому что я слышал ее повсюду. Но когда я отправился в турне с Лоуэллом Фулсомом[49], у него уже была «большая песня» «Every Day I Have the Blues». И вот наши имена – на одном лейбле. Я пел «Baby Let Me Hold Your Hand», а он – «Every Day I Have the Blues», и мы их объединили. Вот тогда-то я и начал гастролировать по стране.
Когда вы уехали из Флориды, почему вы решили отправиться на другой конец страны?
– Это просто: Нью-Йорка я боялся, у меня и в мыслях не было уехать в Нью-Йорк, Чикаго или даже в Лос-Анджелес. Названия так громко звучат, приятель. Кажется, я всегда чувствовал, что довольно хорош, но не был уверен в себе настолько, чтобы объявиться в таком большом городе, как Нью-Йорк. Этого я слишком боялся. Поэтому решил выбрать город подальше от Флориды, но не большой; а Сиэтл, правда, был на другом конце США, и это не был большой город – порядка полумиллиона человек.
Как долго вы работали в компании Swing Time?
– Пока мой контракт не перекупила компания Atlantic. Кажется, это было в 1951 году. Три-четыре года.
В то время, мне кажется, этим занимались Ахмет[50] и Херб Абрамсон. Не знаю, как это вышло. Я познакомился с ними в компании Atlantic, и они сказали: «Нам бы хотелось тебя записать». И я сказал: «Но у меня кое с кем контракт». Они сказали: «Послушай, мы купим контракт». Тогда я сказал: «Прекрасно, покупайте». Вот и все. Дело сделано.
Почему вы порвали с компанией Atlantic? Джерри Векслер сказал мне, что он «испытал шок».
– Ну, ты знаешь людей в компании Atlantic: Джерри, Ахмет, Несухи… Я всех их люблю. Кажется, это случилось, когда ABC Records предложила контракт. Знаешь, я сотрудничал с компанией Atlantic, мы сделали этот потрясающий хит «What’d I Say» и парочку других вещиц; и вот мне предложили контракт, и я сообщил об этом Джерри и остальным. Этот контракт был таким нереальным. То есть дело было в том, что если бы ABC действительно всерьез собиралась заключить его, то Atlantic не смогла бы предложить ничего сверх моего с ними оригинального контракта. Но я сообщил им, потому что мы с Джерри лучшие друзья, потому что я не веду себя подло, втихаря – ничего подобного. Им было все известно, и с моей стороны это выглядело так: послушайте, я ведь не прошу улучшить дела компании Atlantic, а просто говорю о возможности конкурировать. И они сказали нечто вроде: «Слушай, Рэй, для нас это ужасно тяжело».
Понимаешь, ABC предлагала мне контракт, неслыханный для того времени, для 1959 года. Мне даже кажется, что они рассчитывали, что я буду таким же. В их задачу входило создание имени и стимулирование других имен…
Перед уходом в ABC я записал песню в стиле кантри-энд-вестерн на студии компании Atlantic, это была «I’m Movin’ On».
С участием Хэнка Сноу?
– Верно. Именно тогда у меня возникла идея записать песню в стиле кантри. Но просто так случилось, что я приступил к осуществлению этой идеи, как только сменил контракт. В связи с ABC мне стали говорить: «Эй, приятель, Рэй, у тебя много фанатов, ты не можешь петь песни в стиле кантри. Твои фанаты – ты же потеряешь всех своих фанатов». Ну, я сказал: «Ради Христа, я все равно это сделаю». Я не хотел быть исполнителем песен в стиле кантри. Я просто хотел петь песни в стиле кантри. Когда я пою «I Can’t Stop Loving You», я не пою ее в стиле кантри. Я пою ее в моем стиле. Но мне кажется, что слова песен в стиле кантри такие земные, как в блюзах, понимаешь, они приземленные. Они не вычурные, а люди в них очень честны и говорят: «Послушай, я скучаю по тебе, милашка, поэтому я пошел и надрался в этом баре». Вот как они изъясняются. Тогда как Тин-Пэн-Элли[51] скажет: «О, мне не хватало тебя, дорогая, и поэтому я отправился в ресторан, сел за стол и заказал обед на одного». Здесь все пригладили, понимаешь? Но песни в стиле кантри и блюзы такие, какие есть.
Я записал два альбома песен в стиле кантри. Помнишь, я записал первый из них, и, черт побери, если было распродано более миллиона его экземпляров, ты почти обязан, почти вынужден записать еще один. Но я записал всего два альбома песен в стиле кантри.
Atalntic обеспечила вам музыкальную независимость и создала репутацию исполнителя ритм-энд-блюз и джаза. С другой стороны, у ABC не было выдающейся репутации. Нервничали ли вы, переходя из одной компании в другую?
– Нет, потому что я имел дело со звукозаписывающей компанией и думал, что могу продавать записи ABC так же, как мог продавать их компании Atlantic или кому-нибудь еще. К тому же, в конце концов, надо понимать, приятель: я долго работал на полном без рыбье, и это был чертовский шанс для меня, чтобы реально улучшить мое положение; если бы мне действительно повезло, то я стал бы зарабатывать все больше и больше. Я быстро, очень быстро сделал чудовищно много денег.
Как осуществлялся продакшн?
Я сам был продюсером, понимаешь? Иными словами, это был контракт в контракте. Мне платили по высшему разряду как артисту, но в конце производства поступали дополнительные деньги. Вот поэтому каждый цент превращался в семь с половиной центов, а это совсем неплохо, приятель. И это помимо моего контракта как артиста, понимаешь?
А ваше пристрастие к наркотикам – ведь оно почти вышибло вас из музыки?
– Нет. Нет. Нет и нет. Я бы этого не сказал.
На той стадии были взяты музыкальные высоты?
– Точно. Конечно, так мне кажется, хотя можно ли это утверждать?.. Знаешь, оно не вышибло меня, да и не могло вышибить. Дело в том, что когда мои дети подросли… Помню, однажды мой старший сын (он увлекался бейсболом) был на скромной вечеринке, и там раздавали небольшие подарки, а я собрался уйти: так случилось, что в тот вечер у меня была сессия звукозаписи. Я делал трек для фильма «The Cincinnati Kid», и я пел, как ты помнишь, но я все же пошел с сыном на ту вечеринку и должен был уйти пораньше, а он расплакался. И мне стало больно. Я подумал, что он еще ребенок. Для него так важно, чтобы отец был с ним на этой вечеринке. И я подумал: вдруг что-нибудь случится, меня посадят в тюрьму, – и кто-нибудь скажет сыну: «О, твой отец уголовник». Не забывай, что он подрастает. Он маленький мужчина, понимаешь, и он будет из-за этого плакать. И сейчас из-за меня он может попасть в беду. И я сказал себе: «О’кей, с меня довольно – это рискованное дело, опасное дело; если в твою дверь постучат, дважды проверь, кто там».
Все это промелькнуло в голове в канун 1965 года[52]?
– Верно. Именно тогда. Я просто чувствовал, что все плохо, как и было на самом деле. Я пристрастился к героину – вот так; я был молод. Мне было, возможно, лет семнадцать-восемнадцать; мне хотелось общаться со взрослыми парнями, такой уличной стаей, а эти ребята всегда уходили и бросали меня со словами «мы ненадолго», понимаешь? А мне хотелось быть с ними, и я очень просил, и наконец один сказал: «О’кей, приятель, черт с тобой, пошли, ладно». И они взяли меня, и я попал туда, и они занимались этим, и я хотел тоже, понимаешь? Вот так все и началось, а раз уж началось, то все, знаешь ли. Но я не настолько пристрастился к героину, чтобы совершенно сбрендить и не ведать, что творю, понимаешь? Мне рассказывали о людях, которые тратили на него шестьдесят и даже сотню долларов в день. Такого со мной никогда не бывало.
Сколько в день вы тратили?
– О, кажется, я тратил около двадцати долларов. Не больше.
Чему вы научились у венского психоаналитика?
– У кого?
У психоаналитика, которого вы якобы посещали года два?
– О чем мы говорили? Ни о чем. Да он и не психоаналитик вовсе. Он по профессии психиатр. Он не оказал никакого влияния, скажем, на то, что я делаю или не делаю. Я пошел к нему и сказал: «Во-первых, давайте внесем ясность. Вам не надо уговаривать меня бросить употреблять наркотики. Я принял решение. Я больше не буду употреблять наркотики. С этим покончено». И поэтому, когда мы встречались, мы просто говорили обо всем, и, черт побери, мне кажется, я говорил с ним больше о его практике, о том, чем он занимался, чем о себе.
Этот год передышки был труден для вас?
– Я от роду ленив. И легко расслабляюсь. Но я с удовольствием тружусь. Работа, которую я выполняю, для меня не работа. Одно удовольствие. Понимаешь, что-то вроде хобби, за которое мне платят, и, правда, в чем-то это для меня отдых. Настоящий отдых.
Тогда почему вы взяли передышку?
– Ну, я почувствовал, что должен отдохнуть, потому что мне этого хочется. Ну и конечно, в этом была необходимость. Мне показалось, что это может быть полезным. Одно дело, если чувак, употреблявший нечто в течение пятнадцати лет, вдруг заявляет судье, что больше не собирается этого делать… Но если это скажет психиатр, то судья, возможно, и поверит чуваку. Так что задача состояла именно в этом. Потому что, приятель, если парень не захочет расстаться со своими привычками, то с ним никто не справится – ни судья, ни психиатр, ни тюремщик; люди сидят в тюрьме пять лет и однажды выходят из нее, чтобы приняться за старое.
Я скажу тебе, что в больнице у меня был психиатр, и этот человек имел законное право давать мне небольшие дозы, каждый день уменьшая их, постепенно сводя на нет. Но я ничего не принимал. Врач сам в это не верил – никогда в жизни, никогда он не видел ничего подобного. Они даже обыскали меня, приятель. Думали, что, должно быть, кто-то мне украдкой что-то передает. По этому они запретили посещать меня, просто чтобы убедиться, а я вел себя по-прежнему, и тогда они сказали: «Нет, не может быть». Мало того что я ничего не принимал, но они сами спрашивали меня: «Не нужно ли тебе что-нибудь для сна? Какое-нибудь снотворное?» Я сказал: «Нет, я не буду принимать снотворное. Считаю, что сейчас оно мне не требуется». Так вот, и это было как шок. Потому что в больнице в это не поверили, врач в это не верил. И знаешь, они два или три раза обследовали меня, как это обычно делается. Они направили меня в клинику Маклина в Бостоне, потому что этого потребовал суд. Ведь они однажды вызвали меня, а я работаю, как черт, понимаешь, выступаю с концертами. А они вызвали меня и говорят: «Эй, завтра отправляйся на обследование в клинику Маклина». И не просто направили меня туда, но дождались холодов. Им же известно, что если ты сидишь на наркотиках, то не переносишь холода. Просто не выносишь. И вот, приятель, они отключили отопление. Как же я разозлился. Я пошел к медсестре и сказал, что если простужусь, то подам в суд на чертову больницу. Я знаю, чем вы тут все заняты. Мне нужно, чтобы в палате было тепло. Ведь я не глуп. Но я буквально замерзаю. Так включите отопление. Полагаю, эта женщина просто сказала, с этим человеком уже ничего не случится после всех проведенных обследований и прочего и все, на что он способен, это свихнуться, понимаешь? И вот через некоторое время они поверили мне, но сил на это ушло немало, потому что это было необычно, так необычно…
Это произошло после вашего пребывания в клинике Святого Франциска в Линвуде[53]?
– Да, ну, этого потребовал суд. Часть моего дела. Мне не сказали, что я не могу работать, ничего такого, просто сказали: «Послушай, в любой день мы можем вызвать тебя, запомни это». И они наблюдали за моим распорядком и знали, что я работаю, поэтому знали и день, когда я не работаю. Они знали мое расписание лучше меня, и вдруг – бац: шагай, чувак. И так они обследовали меня пару раз, просто чтобы убедиться, что я не употребляю наркотики.
Я не отвыкал от наркотиков постепенно. Я просто бросил – и точка. Некоторые люди кусали простыни и грызли подушки, а я ничего этого не делал, и это их тревожило. Они забрали всю мою одежду. Обыскали ее. А как-то раз при шли ко мне в палату, заглянули под матрас, под простыню. Я сказал: «Не знаю, какого черта вы там ищете, но откуда у меня могут взяться наркотики? Сюда никто не приходит, – где я их возьму?» И знаешь, они наблюдали за мной, как стервятники.
Однажды вам задали вопрос о «месседже» в ваших песнях, вернее, об его отсутствии.
– Нет, речь шла о материале, которым я располагаю. Запомни, сначала я должен почувствовать музыку, что-то сделать с песней. Вот почему появилась такая песня, как «America». Я пытался не просто сказать, что в стране все плохо, потому что все не так плохо. Я люблю эту страну, приятель. И я хотел бы жить только здесь. Понимаешь? Моя семья родилась здесь. Мои предки родились здесь. Думаю, у меня не меньше корней в этой стране, чем у остальных. Поэтому, мне кажется, если что-то не так, то и я должен приложить какие-то усилия. Я говорил, что Америка – прекрасная страна. А вот что порой не нравится нашим людям, так это наша политика.
Вы сказали однажды со сцены по поводу «I Gotta Do Wrong»: это «рассказ о моей жизни», «я буду совершать непотребства, пока на меня не обратят внимания».
– Ну, по-моему, я хотел сказать, что, как мне кажется, все мольбы народа, все крики, разговоры, которые мы вели долгие-долгие годы, ничего не дали. Власти сказали, ну, мол, эти люди счастливы, они улыбаются и танцуют, и поэтому волнений не будет. И никто не обращал на них внимания, пока народ не начал творить непотребства. И разумеется, я говорил, что это не то, чем надо гордиться. Я говорил, что этого надо стыдиться, потому что вас вынудили творить непотребства в такой богатой стране, как наша, – ведь мы самая богатая страна в мире. У нас больше денег и всего остального. Мне без разницы, что есть в других странах, мы получим и это, и есть шансы – девять из десяти, – что получим больше и в лучшем виде. И позор, что для того, чтобы наши лидеры уделили нам хоть толику внимания, нам надо идти и жечь, надо идти и крушить, надо идти и пикетировать и надо идти и стоять на этом газоне – это достойно сожаления.
К несчастью, все, стоящие у власти, кажется, не желают ничего делать, пока их к этому не принудят, пока в них не заговорит совесть. И когда я пою эту песню, я не бравирую, я говорю, что мне очень жаль. Да, грустно, приятель.
44
Арти Шоу (настоящее имя Артур Якоб Аршавски; 1910–2004) – американский джазовый кларнетист, дирижер, композитор и писатель, один из крупнейших музыкантов «эры свинга».
45
The Grand Ole Opry – одна из старейших американских радиопередач (в эфире с 1925 г.), транслирующаяся в прямом эфире в формате концерта с участием звезд кантри.
46
Минни Перл (1912–1996) – американская комедийная актриса, певица. – Примеч. ред.
47
Рой Экафф (1903–1992) – американский автор-исполнитель и скрипач, прозванный Королем Кантри. – Примеч. ред.
48
Swing Time.
49
Ритм-энд-блюзовый исполнитель. – Ред.
50
Эртеган.
51
Собирательное название исполнителя американской коммерческой музыки. – Ред.
52
В это время Чарльза арестовали за хранение героина.
53
Калифорния.