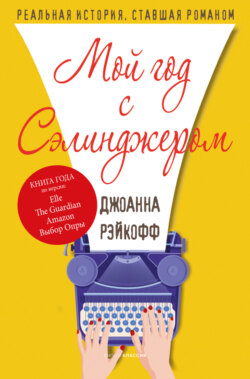Читать книгу Мой год с Сэлинджером - Джоанна Рэйкофф - Страница 7
Зима
Офисная техника
ОглавлениеНеделями я печатала, печатала, печатала. Я печатала так много, что мне стала сниться печатная машинка. Во сне я ударяла пальцами по клавишам, но буквы на бумаге не появлялись, хотя машинка работала и лента была в порядке. Вместо букв на бумаге из машинки вылетали птицы; они чирикали и били крыльями. Белые пыльные мотыльки, гигантские и крошечные, вспархивали роями и расселялись по всему офису. Жужжание машинки заполняло мои дни и становилось фоном для всех разговоров, всех прочитанных текстов; когда в конце дня я выключала «Селектрик» и накрывала машинку пластиковым чехлом, воцарившаяся тишина наполняла меня необыкновенной радостью.
Джеймс разбирался в офисной технике, и его часто звали решать всевозможные технические вопросы – чинить сломавшийся факс или доставать из копировального аппарата застрявшую бумагу. Оба этих прибора появились в офисе относительно недавно; Джеймс рассказал, что еще пару лет назад связь агентства с британским филиалом осуществлялась посредством громоздкого телекса. В документах я нашла письма образца конца 1980-х, напечатанные на длинных узких рулонах бумаги для телекса прелестным старомодным крупным шрифтом, шрифтом, который ассоциировался у меня с другой эпохой – эпохой «Тонкого человека»[16] и пароходного транспорта. Наше агентство, казалось, всеми силами цеплялось за эту эпоху с ее лисьими воротниками и прочими атрибутами и продолжало цепляться до сих пор. Но современность наступала со всех сторон. Несколько лет назад один агент – теперь он был на пенсии, – убедил коллег в необходимости приобретения факсового аппарата, мол, без него никак не получится заниматься правами на экранизацию, а именно этим он и занимался. В Голливуде все общение происходило только по факсу; почта США не успевала за скоростью заключения сделок. Так рядом с кофеваркой появился факс, а телекс отправился на покой, хотя еще много лет лежал где-то в офисе на случай, если вдруг опять понадобится.
Копировальный аппарат тоже был относительно недавним приобретением. Еще несколько лет назад ассистенты печатали все письма в двойном экземпляре, вставляя в машинку «бумажный сэндвич», состоящий из толстой кремовой «хорошей» бумаги, тоненькой черной копирки и мягкой, дешевой желтой бумаги, на которой отпечатывалась угольная копия. Копии всех писем, даже записок, в которых просто говорилось: «Прилагаем подписанный договор», хранились неукоснительно и подшивались в папки; у каждого писателя в агентстве имелась своя такая папка. Теперь нам, ассистентам, больше не приходилось работать с копиркой, мы печатали письмо и делали копию на аппарате. Как нам повезло! Начальница, Хью, Джеймс и другие сотрудники агентства время от времени напоминали нам об этом – мол, ваше поколение избаловано современными удобствами!
Джеймс пришел в агентство шесть лет назад и состоял ассистентом у Кэролин, агента по продаже прав за границу. Кэролин работала в агентстве даже дольше моей начальницы, с 1960-х точно, а то и дольше – точно никто уже не помнил. Миниатюрная, как ребенок, она говорила тихо, с благородным южным акцентом, и красила волосы в оттенок красной ржавчины, который, судя по ее веснушчатому лицу, соответствовал ее натуральному цвету волос в молодости. Молодость ушла, хотя давно ли – было не совсем ясно; я подозревала, что Кэролин лет семьдесят, но она могла быть и старше, и моложе; миниатюрная фигурка и морщины курильщицы – как моя начальница, она курила длинные и тонкие сигареты «Мор», – не давали возможности угадать верно. После обеда Кэролин часто засыпала за столом, уткнувшись головой в подмышку, как птичка, закрывающая голову крылом; когда я впервые застала ее в этой позе, проходя мимо ее кабинета на пути в туалет, то испугалась и решила, что она, возможно, не просто уснула, а кое-что похуже. Но потом она смачно рыгнула.
Хотя Джеймс с тех пор переселился в свой чудесный, уставленный книжными стеллажами кабинет, официально он по-прежнему считался ассистентом Кэролин. Я обнаружила это однажды утром, проходя мимо его кабинета; он спокойно и быстро печатал с диктофона, и наушники на его большой львиной голове выглядели нелепо. Ему было тридцать лет – ровесник Дона; он был женат и все же работал ассистентом, несмотря на диплом университета Лиги Плюща и шесть лет работы в агентстве. И жену!
Когда я это поняла, то стала смущенно отворачиваться, увидев, как Джеймс печатает или подшивает корреспонденцию в папки, хранившиеся в больших металлических ящичках за столами бухгалтеров. Но Джеймс, оказалось, совсем не возражал против того, чтобы печатать письма для Кэролин; он сам мне в этом признался однажды вечером в феврале, когда в офисе было темно, как в полночь, хотя часы показывали всего четыре. Начальница ушла домой по делам, связанным с людьми, которых она часто упоминала в разговоре, Дэниелом и Хелен; я так и не разобралась, кем они ей приходились и какое место занимали в ее жизни, но ясно было, что она тратила на них много времени. Она также часто уходила пораньше, чтобы навестить Дороти. Дороти была бывшим руководителем агентства, знаменитостью в литературном мире и легендарным агентом; ей исполнилось девяносто, и она недавно пережила инсульт. У нее не было ни мужа, ни детей. «Она вышла замуж за агентство», – сказал мне однажды Джеймс. А теперь агентство в лице моей начальницы, ее преемницы, заботилось о ней. Сама Дороти была преемницей основателя агентства и человека, который, собственно, и открыл Сэлинджера. Сэлинджер посылал свои рассказы в «Нью-Йоркер», пока наконец Уильям Максвелл не взял один из них – «Легкий бунт на Мэдисон-авеню» (впоследствии Сэлинджер дополнил его, и получилось «Над пропастью во ржи»). «Это есть на карточке», – взволнованно сообщил Хью. В агентстве существовала странная и очень сложная система учета произведений, как «больших» книг, так и рассказов, печатавшихся в журналах, хотя последние постепенно сходили на нет. Для этого использовали гигантские розовые картотечные карточки, именно их я обнаружила в ящике стола в первый рабочий день. На карточке значились имя редактора, читавшего произведение, дни, когда редактор справлялся о том, как идет работа, дата продажи, условия контракта и так далее. Эти карточки, видимо, изобрел основатель агентства, и изготавливали их специально для нас. Вносить информацию в карточки приходилось, естественно, ассистентам, вмещая огромное ее количество в крошечные таблички и строчки. «Хочешь узнать кое-что интересное? – с озорным блеском в глазах спросил Хью. – Найди карточку „Над пропастью во ржи“». Эту сделку, разумеется, тоже заключила Дороти. Ее кабинет когда-то находился в большом офисе с окнами во всю стену, который мы теперь использовали как переговорную. Когда Хью только пришел в агентство на должность ассистента Дороти, он сидел там вместе с ней и печатал под ее диктовку. Может, и правы были «старички»: нам, современным ассистентам, действительно повезло, ведь у нас были диктофоны и копировальные машины.
– Печать на машинке сродни медитации, – рассуждал Джеймс, закинув руки за голову и водрузив на стол ноги в мокасинах. – В жизни я слишком много думаю. И редактирую. Или решаю сложные задачи. Приятно иногда просто включить машинку, и… – он похлопал ее, как друга по плечу, – попечатать немного. Меня это расслабляет. – Джеймс выпрямился и улыбнулся. Он очень серьезно воспринимал себя и нашу работу. Его улыбка всегда заставала меня врасплох. То же самое было с Хью. – И все же какой абсурд, что в этом офисе до сих пор нет компьютеров.
– Ты так считаешь? – осторожно спросила я.
Я впервые слышала такое мнение от сотрудника агентства и боялась, что это ловушка.
– Естественно, – рассмеялся Джеймс. – А ты разве нет?
Я тоже так считала. Разумеется. И все же в тот момент я не знала, что думать. Я совсем запуталась. Я чувствовала – смутно подозревала и даже сама себе не решалась в этом признаться, – что это имеет отношение к работе и моей начальнице. Я понимала, что, чтобы стать кем-то – а мне отчаянно хотелось стать в этом агентстве своей, мне давно уже так ничего не хотелось, и я толком не знала почему, – я должна отказаться от части себя, от своих желаний и наклонностей.
Мы перевезли всего пару коробок, и тут я поняла, что не так с новой квартирой, почему она казалась такой странной: на кухне не было раковины. Как мы могли не обратить на это внимания, когда смотрели квартиру?
– Я заметил, – признался Дон. – Но какая разница, в самом деле? За пятьсот-то баксов в месяц! Посуду можно мыть в ванной.
– Мне кажется, надо попросить владельца квартиры установить раковину, – возразила я. – Жить без раковины очень неудобно.
– С какой стати владельцу устанавливать раковину? – фыркнул Дон, поражаясь моей наивности. – Найдутся жильцы, которым не нужна раковина. Раз, и найдутся. – Он щелкнул пальцами, подчеркивая, как легко они найдутся. – Можешь спросить, конечно, только сдается мне, этого не будет. И владелец нас возненавидит.
Вечером возникла более насущная проблема: мы не смогли понять, как включается отопление. В полу имелись вентиляционные отверстия, но теплый воздух из них не шел. В коридоре за дверью мы нашли термостат и включили его, но ничего не произошло.
А было холодно. Необычайно холодно для Нью-Йорка в январе. И стены нашей маленькой избушки, кажется, не имели совсем никакой термоизоляции. Я надела самую теплую пижаму, теплый свитер, навалила на кровать гору одеял, но все равно не согрелась.
– Я включу духовку и открою дверцу, – предложил Дон.
– А это безопасно? – спросила я. – А если огонь погаснет? Мы не отравимся газом?
Дон пожал плечами:
– Ничего не случится. Квартира хорошо продувается. Тут хорошая вентиляция даже с закрытыми окнами.
– Ладно, – нервно согласилась я.
Наутро мы проснулись живыми в теплой квартире: она была такая маленькая, что духовка отлично ее прогревала. Но, придя на работу, я первым делом позвонила агенту по недвижимости, и тот пообещал позвонить хозяйке. Ее звали Кристина. «Весьма колоритный персонаж», – добавил он.
Вечером я пришла домой и застала Дона за беседой с приземистой тетенькой, платиновой блондинкой с пышным начесом и складками загорелой плоти, вываливающейся из обтягивающей красной майки на тонких бретельках.
– Драсьте, – сказала она с сильным польским акцентом. – Вы, значит, жена. А я Кристина. Рада знакомству. Хорошо, что вы у меня поселились, такие молодые, такие умные, образованные, работящие ребята. Уже познакомились с парнем из квартиры снизу?
– Мм… нет, – сказала я, снимая пальто.
Духовка по-прежнему горела, и в квартире было тепло. Дон что, оставил ее включенной на весь день? Пока нас не было дома?
– Он мексиканец. Неплохой парень, но пьет. Мексиканцы, знаете ли, работящие, но пьющие. Поляки – те совсем не любят работать, но все равно пьют. Наверху у меня живет поляк, но он нормальный. Старый. – Кристина прищурилась, и ее челюсть выдвинулась, а лицо исказила гримаса отвращения. – Парень, что жил в этой квартире до вас… он ее уничтожил. Оставил дыры в стенах. – Она выпятила губы, ее брыли обвисли, и она с отвращением покачала головой. А потом вдруг повернулась к Дону – тот сидел за письменным столом, в круглых очках в проволочной оправе, в клетчатой рубашке и джинсах, моих, между прочим, мы с ним носили один размер, – и спросила: – Вы еврей?
Это прозвучало скорее как утверждение, чем как вопрос.
– Я? – с улыбкой ответил Дон. – Нет. Не еврей.
– Ну, конечно же, еврей! – воскликнула Кристина и всплеснула голыми руками. – Вы себя в зеркало видели? – Она повернулась ко мне с заговорщической улыбкой: – Он думает, что я не люблю евреев, потому что я полячка. Но это неправда. Я люблю евреев. Евреи – отличные жильцы. Платят вовремя, тихие, книжки читают. – И женщина указала на письменный стол: тот действительно был завален умными книжками. – Лучшие жильцы – евреи.
Она повернулась ко мне и улыбнулась, будто бы и я была хозяйкой дешевого пансиона и знала, какие жильцы лучшие. Я улыбнулась в ответ.
– Он же еврей, да? – спросила хозяйка меня.
– Она еврейка, – ответил Дон, рассмеявшись, и показал на меня.
«О боже, – подумала я. – Он это серьезно?»
– Она? – Кристина задумчиво сморщила нос. – Ну нет. Взгляни на нее. Такая хорошенькая. – И она сурово взглянула на Дона: – Вы смеетесь надо мной. Прекратите.
– Мм… вообще-то, мы хотели спросить, как тут включается отопление, – встряла я, пока этот разговор не зашел слишком далеко. – Мы видели термостат в коридоре, включили его, но теплее не стало.
Кристина горячо затрясла головой:
– Он остался с тех времен, когда дом не был поделен на квартиры. Теперь он не работает. Мы его отключили.
– А… прекрасно, – ответила я. Я по-прежнему стояла у двери, не зная, стоит ли садиться. – И как включить отопление?
Кристина снова затрясла своим платиновым осиным гнездом на голове, причем пуще прежнего:
– Отопление? Зачем вам отопление? Квартира маленькая. Здесь же тепло. Даже жарко. – Она обвела рукой свои круглые телеса. – Посмотрите, что на мне надето. И мне жарко. Здесь нет отопления, да вам оно и не нужно.
Дон начал нервно посмеиваться:
– Жарко, потому что мы включили духовку. Мы не нашли, как включается отопление, включили духовку и открыли дверцу.
Глазки Кристины превратились в щелочки на мясистом лице. Она скрестила руки на груди и вздохнула, неприветливо поджав губы. Кажется, мы перестали быть ее друзьями и лучшими жильцами.
– Я узнаю, как оно включается. Но зачем оно вам? – Кристина широко улыбнулась. – Есть же духовка. Вот и включайте ее. Это ж все равно что обогреватель. – Она взяла красную нейлоновую кофту с белыми полосками на рукавах от спортивного костюма, надела и застегнула на молнию до подбородка. – Еврейка, значит? – Она еще раз посмотрела на меня и улыбнулась: – За дурочку меня держите.
С тех пор как Сэлинджер попросил составить отчет по роялти, он не звонил больше ни разу, и мы так и не узнали, зачем ему понадобился отчет. Джеймс и Хью списали это на очередную его странность. Зато начали звонить самому Сэлинджеру, как и предупреждала моя начальница.
Некоторые из звонивших были пожилыми людьми, ровесниками самого Сэлинджера, и, наверно, просто не знали, каких масштабов достигла его самоизоляция от мира. В их представлении он все еще был страждущим молодым писателем с обложки «Тайм», будущим мэтром американской литературы. Эти звонившие чувствовали с Сэлинджером близкое родство, ибо они тоже сражались во Второй мировой или росли в Верхнем Ист-Сайде в 1930-е. Часто у них имелось к нему личное дело: так, этим людям казалось, что прототипом героя одного из его рассказов стал их двоюродный брат, или их двоюродный брат служил с Сэлинджером в тренировочном лагере перед отправкой на фронт, или они жили на соседней улице в Вестпорте в 1950-е. Теперь, с пришествием старческого слабоумия, они хотели связаться с этим человеком, чьи произведения так много значили для них в юности. Или перечитали «Над пропастью во ржи» и лишь теперь поняли, что в этом произведении Сэлинджер описал пережитое им самим во время войны. Или открыли «Рыбку-бананку» и разрыдались, узнав себя, ведь у них тоже возникали суицидальные мысли после Арденнской операции. Никто не должен был видеть то, что видели они.
Безобидными были и редакторы школьных учебников и антологий, бесхитростно просившие разрешения включить «Тедди» в подборку рассказов о браке и разводе или отрывок из «Над пропастью во ржи» в новое издание «Нортонской антологии американской литературы».
– Можно же разрешить включить кусок из «Пропасти» в Нортонскую антологию? – крикнула я Хью.
– Конечно, нет! – завопил тот. – Нельзя! Ты же не ответила, что можно? – Он аж раскраснелся от негодования.
– Нет, конечно, нет, – ответила я. – Но разве не стоит спросить у него самого, может, он хочет, чтобы отрывок попал в антологию?
Как-никак, то была не какая-нибудь антология, а Нортонская. Программный учебник всех американских университетов.
– Нет, – Хью покачал головой и закусил верхнюю губу. – Никаких антологий. Никаких отрывков. Хотят читать Сэлинджера? Пусть покупают книги.
Последнюю категорию звонивших я называла просто чокнутыми. Эта группа была хоть и не самой многочисленной, но отнимала больше всего моего времени. Иногда с первой секунды становилось ясно, что у звонившего не все дома, и тогда я старалась быстро закончить разговор и бросала трубку с приятным тихим дребезжанием. Но, бывало, я отвечала и завязывала беседу вроде бы с нормальным человеком, говорившим вежливо: «О да, здравствуйте! Большое спасибо, что ответили!» Например, один звонивший представился деканом государственного колледжа из южного Нью-Джерси.
– Мы бы хотели пригласить мистера Сэлинджера почетным гостем на церемонию вручения дипломов. Церемония состоится двадцать восьмого мая; мы, разумеется, можем предложить небольшой гонорар и размещение в очень хорошем отеле.
Он начал рассказывать об истории колледжа, студентах, что ныне там обучались, но я прервала его речь, стоило ему остановиться перевести дух:
– Прекрасно, что вы вспомнили про мистера Сэлинджера в этой связи, но, боюсь, в данный момент он не принимает приглашения.
– Я знаю. – Тут вежливый тон декана мгновенно сменился агрессивным. – Но решил, что для нас он сделает исключение, потому что… – За этим обычно следовала любая причина, вставьте свою; в данном случае причина была следующей: – Как я уже говорил, среди наших студентов много ветеранов войны в Заливе, а поскольку мистер Сэлинджер сам ветеран войны и писал о трудностях адаптации ветеранов к жизни в гражданском обществе…
Звонивший что-то недоговаривал. В этот момент я поняла, что он преследовал свои цели.
– Я вас прекрасно понимаю. Но мистер Сэлинджер сейчас не принимает такие приглашения. Без исключений.
– Но не могли бы вы хотя бы дать мне его контакты, чтобы я лично его пригласил? Уверен, если я объясню ему ситуацию, он будет рад приехать к нам. Всех гостей мы размещаем в прекрасной гостинице…
– Боюсь, я не смогу дать контакты мистера Сэлинджера. Он дал нам четкие указания не раскрывать его адрес и телефон.
– А если я пришлю приглашение в письменном виде, вы перешлете?
Я набрала воздуха. Проще было бы солгать: «Конечно же, перешлем», – а потом выбросить приглашение в мусорку, и пусть винит Сэлинджера за то, что тот так ему и не ответил. Но я продолжала говорить так, как мне велели. Было в этом даже какое-то извращенное удовольствие.
– Увы, не могу. Мистер Сэлинджер просил не пересылать ему почту.
– А если пришлю приглашение, что вы с ним сделаете? – Я буквально чувствовала, как наливаются кровью глаза моего собеседника. Тогда я поняла, что он воспринимает это дело как личное. Речь не о приглашении почетного гостя в маленький колледж; звонивший возомнил, что у него с Сэлинджером есть некие отношения, какая-то только ему известная связь. – Отправите обратно? Что вы с ним сделаете?
Должна ли я была сказать, что его приглашение отправят обратно по адресу, выкинут в круглую мусорную корзину под столом моей начальницы (если оно, конечно, дойдет до нее), или же оно затеряется в груде бумаг на столе Хью?
Да, должна.
– Но разве это не незаконно? Вы разве не обязаны передавать мистеру Сэлинджеру его корреспонденцию, если письмо отправлено Почтой США? – Этот аргумент мне предъявляли часто.
– Мистер Сэлинджер нанял нас как своих агентов. Он нанял нас представлять его интересы. Наша работа – делать все так, как он хочет.
– Но откуда вы знаете, чего он хочет? – Декан уже орал, а у меня под мышками расплывались темные круги. – Откуда вы знаете, чего он хочет? Да кто вы такие?
– Мистер Сэлинджер дал нам подробные указания, а мы просто исполняем их, – спокойно отвечала я. Но в словах декана была доля правды. Откуда нам – и мне особенно – знать, чего хочет Сэлинджер? Что, если он на самом деле хочет отправиться в эти Сосновые Пустыри, куда его зовут, выступить на мероприятии перед ветеранами и остановиться в хорошей гостинице? Вдруг он именно в этот раз решил бы передумать? – Простите, декан… – Я назвала его имя, так как давно обнаружила, что если запомнить имена звонивших и называть их по имени, то это может помочь утихомирить их гнев. – Мистер Сэлинджер недвусмысленно велел нам отвечать «нет» на все подобные предложения. Было приятно пообщаться, уверена, вы найдете другого почетного гостя, который с удовольствием выступит на церемонии.
Я повесила трубку. Свитер под мышками промок насквозь, хоть отжимай, хотя начальница решила проветрить свой кабинет, и ледяной ветер ворвался в ее окно и теперь кружил вокруг моего стола. Сквозняк просочился мне под свитер, и я задрожала. И тут меня осенило: я не разнервничалась из-за звонка декана, я заболела. У меня поднялась температура. В детстве я тоже заболевала на ровном месте, раз – и голова становилась как ватой набитая.
Я встала со стула, и ноги предательски подкосились. Я прошла половину офиса и поняла, что бегу, подгоняемая адреналином. «Тише», велела я себе. Под бледным светом флуоресцентных светильников в ванной я умылась, заметив, что лоб у меня холодный, и взглянула на свое отражение в кривом зеркале с отслаивающейся амальгамой. Мои щеки раскраснелись, глаза блестели. Я была не больна. И не нервничала.
Я была рада!
Наконец в моей жизни начало происходить что-то интересное. Я не становилась частью чего-то большого. Я уже стала его частью.
Дженни, с которой мы были лучшими подругами в школе, работала в паре кварталов от нашего офиса в здании «Макгроу-Хилл»: редактировала учебники по обществознанию. Точнее, один учебник: весь срок своего пребывания в должности она работала над одним громадным проектом – учебником для пятых классов, который адаптировали для общеобразовательных школ Техаса. Очевидно, Техас был настолько влиятельным штатом – протяженным, богатым, с большим количеством школ и учеников, – что мог потребовать, чтобы учебники переделывали специально для него; например, там была целая глава о битве за Аламо[17] и еще одна – об истории штата, а главу о гражданских правах – о ужас! – просто вырезали. Обо всем этом мне рассказала Дженни, которую крайне тревожило такое положение вещей; вместе с тем она очень любила свою работу, а также совещания, где требовалось ее присутствие. В колледже она училась кое-как, дважды переходила с факультета на факультет и приобрела несколько психических расстройств, зато теперь в ее жизни была цель. Теперь у нее был Техас.
– Так здорово вести нормальную жизнь, – призналась подруга несколько месяцев назад, когда я только вернулась из Лондона.
В школе нам меньше всего хотелось вести нормальную жизнь. Мы высмеивали нормальных людей. Презирали всякую нормальность.
– Да, – задумчиво кивнула я, но внутренне не согласилась.
Я все еще не желала быть нормальной. Мне хотелось быть экстраординарной: писать романы, снимать кино, говорить на десяти языках и путешествовать по миру. Я хотела иметь все. И мне казалось, что Дженни раньше хотела того же.
Впрочем, в работе ей нравилась не только ее нормальность, но и деньги, заработанные своим трудом. У нее были плохие отношения с родителями – хуже, чем у большинства наших друзей, – и она раньше всех начала жить отдельно. А редактируя учебники, как выяснилось, можно было заработать намного больше, чем согласившись на любую другую литературную вакансию из тех, что предлагали выпускникам Суортмора[18] со специализацией «поэзия», а у Дженни была как раз такая специализация. Поэтому она приняла взвешенное решение и пошла трудиться в куда менее престижной сфере учебной литературы. Тогда я подругу совсем не понимала, как и ее взвешенное решение переехать в новостройку на Стейтен-Айленде, в скучном, далеком от центра событий и культурной жизни пригороде с одинаковыми квартирками с фанерными стенами. Дорога в центр Нью-Йорка отнимала у Дженни целых полтора часа, и это только в одну сторону, теперь с ней нельзя было встретиться после работы и сходить в «Анжелику» на новый фильм Хэла Хартли, или опрокинуть по рюмочке в «Вон», или сходить на концерт в «Меркьюри Лаунж». Каждый вечер они с Бреттом, ее женихом, встречались на платформе и начинали свой утомительный путь домой.
Но жизнь на Стейтен-Айленде была дешевле, чем в любом из кварталов, куда переезжали мои друзья, в основном в Бруклине: в Кэрролл-Гарденз, Коббл-Хилл, Парк-Слоуп со стороны Пятой авеню, Форт-Грин и Клинтон-Хилл, на туманной площади рядом с Флэтбушем, которую мы в итоге приучились называть Проспект-Хайтс. Но больше всего наших друзей жили в моем районе, Вильямсбурге, и в соседнем Гринпойнте, что тянулся к северу. Их было так много – друзей, друзей друзей, шапочных знакомых и бывших выпускников Оберлина, Барда и Вассара, – что невозможно было купить чашку кофе в «Эль», не наткнувшись на нескольких знакомых. В воскресенье утром я часто ходила завтракать в средиземноморскую кафешку на углу; к столику меня провожала танцовщица, которая училась в моей школе на класс старше, а обслуживал художник, тоже из моей школы, но на два класса старше. По вечерам мы с Доном встречались с Лорен в тайской забегаловке или с Ли и Эллисон – в баре времен «Крысиной стаи» в Бедфорде выпить джин-тоника; там выступал альтернативный цирк с участием всех моих друзей по колледжу – один глотал огонь, другой демонстрировал клоунаду в стиле Жака Лекока, третий катался на уницикле и играл на тромбоне. Я считала свой район раем, но в раю не хватало одного – Дженни на соседней улице.
16
Серия детективных фильмов 1930-х годов по роману Дэшила Хэммета.
17
Самая известная битва Техасской революции между техасскими поселенцами и мексиканской армией (1836 год).
18
Частный гуманитарный колледж в Пенсильвании.