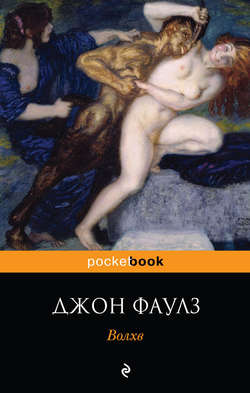Читать книгу Волхв - Джон Фаулз - Страница 13
Часть вторая
11
ОглавлениеНаутро, после завтрака, я подошел к столу Димитриадиса. Вчера он допоздна задержался в деревне, и у меня не хватило терпения ждать, пока он вернется. Димитриадис был низенький, толстый, обрюзгший уроженец Корфу, питавший маниакальную неприязнь к солнцу и красотам природы. Он не уставал проклинать «мерзкое» захолустье, что окружало нас на острове. В Афинах вел ночную жизнь, отдаваясь двум своим слабостям – чревоугодию и разврату. Оставшиеся после сих упражнений средства он тратил на одежду, и вид у него был вовсе не болезненный, сальный и потертый, а розовый и моложавый. Идеалом он числил Казанову. Он сильно проигрывал этому кумиру по части ярких эпизодов биографии, не говоря уж о талантах, но, при всей своей неизбывно-тоскливой развязности, оказался не столь плох, как утверждал Митфорд. В конце концов, он хотя бы не лицемерил. В нем привлекало безграничное самомнение, какому всегда хочется завидовать.
Мы вышли в сад. Прозвище Димитриадиса было Мели, «мед». Он, как ребенок, обожал сладкое.
– Мели, вы что-нибудь знаете о хозяине Бурани?
– Вы с ним познакомились?
– Нет.
– А ну! – зло прикрикнул он на мальчугана, который вырезал что-то на миндальном дереве. Маску Казановы он надевал только на выходные, в школе же был настоящим сатрапом.
– Как его зовут?
– Конхис.
– Митфорд рассказывал, что повздорил с ним. Ну, поссорился.
– Соврал. Он все время врет.
– Возможно. Но они были знакомы.
– По-по. – В устах грека это значит «не вешайте мне лапшу на уши». – Этот тип ни с кем не общается. Ни с кем. Спросите у других преподавателей.
– Но почему?
– Ну… – Он пожал плечами. – Какая-то старая история, Я не в курсе.
– Ладно вам.
– Ничего особенного.
Мы шли по вымощенной булыжником дорожке. Мели, который и секунды не мог помолчать, стал рассказывать, что он знает о Конхисе.
– Во время войны он работал на немцев. В деревне не появляется. Чтобы местные камнями не забросали. И я бросил бы, попадись он мне.
– Почему? – усмехнулся я.
– Потому что при его богатстве он мог бы жить не на этом пустынном острове, а в Париже…
Розовая ладошка его правой руки описывала в воздухе торопливые окружности – любимый жест. То была его заветнейшая мечта – квартира окнами на Сену, с потайной комнатой и прочими изысканными удобствами.
– Он знает английский?
– Должен знать. А почему он так вас интересует?
– Совсем не интересует. Проходил мимо его дома, вот и спросил.
Над деревьями и тропинками сада, окруженного высокой белой стеной, раздался звонок на вторую смену. По дороге в класс мы с Мели договорились, что завтра пообедаем в деревне.
Хозяин лучшей деревенской харчевни, моржеподобный здоровяк Сарантопулос, знал о Конхисе побольше. Он выпил с нами стаканчик вина, глядя, как мы поглощаем приготовленный им обед. Что Конхис затворник и не появляется в деревне – правда, а что он служил немцам – ложь. Во время оккупации его назначили деревенским старостой, и он делал все, чтобы облегчить участь местных жителей. Если его тут и не любят, так это потому, что продукты он выписывает себе из Афин. Тут хозяин разразился пространным монологом. Даже приезжие греки с трудом понимали местный диалект, а я не разобрал ни единого слова. Он проникновенно навалился на стол. Димитриадис сидел с унылым видом и знай себе чинно кивал.
– Что он говорит, Мели?
– Ничего. Одну военную байку рассказывает. Ерунда какая-то.
Вдруг Сарантопулос уставился за наши спины. Сказал что-то Димитриадису и поднялся из-за стола. Я обернулся. На пороге стоял высокий крестьянин со скорбным лицом. Он прошел в дальний конец длинной залы с голыми стенами – в том углу столовались местные. Сарантопулос взял его за плечо. Недоверчиво взглянув в нашу сторону, человек покорился и дал увлечь себя за наш столик.
– Это агойати господина Конхиса.
– Аго… Кто?
– У него есть осел. Он возит в Бурани почту и провизию.
– А как его зовут?
Его звали Гермес. Я уже притерпелся к тому, что двух не слишком сообразительных школьников зовут Сократом и Аристотелем, а недужную старуху, прибиравшую в моей комнате, – Афродитой, и потому удержался от улыбки. Усевшись, погонщик осла с некоторой неохотой принял от нас стаканчик рецины. Он перебирал кумболойи, янтарные четки. Один глаз у него был поврежден: неподвижный, с нездоровой поволокой. Из него Мели, проявлявший гораздо больший интерес к омару на своей тарелке, почти ничего не вытянул.
Чем занимается г-н Конхис? Он живет один – да, один, – с приходящей служанкой и возделывает свой сад (похоже, в буквальном смысле). Читает. У него куча книг. Фортепьяно. Знает много языков. Агойати затруднился сказать, какие именно, – по его мнению, все. Куда он уезжает на зиму? Иногда в Афины, иногда за границу. А куда за границу? Гермес не знал. Не знал и о том, что в Бурани бывал Митфорд. Там никто не бывает.
– Спросите, как он думает, могу я навестить господина Конхиса?
Нет; это невозможно.
Для Греции наше любопытство не было предосудительным – мы скорее вызвали бы подозрение, не проявив его. А вот сдержанность Гермеса – из ряда вон. Тот собрался уходить.
– Ты уверен, что он не прячет там целый гарем красоток? – спросил Мели.
Синюшный подбородок и брови агойати взметнулись в молчаливом отрицании; он презрительно повернулся к нам спиной.
– Деревенщина! – Послав ему вдогонку это худшее из греческих ругательств, Мели похлопал меня по руке влажными пальцами. – Друг мой, рассказывал ли я, как занимались любовью двое мужчин и две дамы, с которыми мне довелось познакомиться на Миконосе?
– Рассказывали. Но я могу еще раз послушать.
Я ощущал смутное разочарование. И не только оттого, что мне предстояло в третий раз выслушать, каким именно способом ублажала себя эта четверка акробатов.
До конца недели мне удалось кое-что разузнать в школе.
С довоенных времен здесь осталось только двое преподавателей. Тогда Конхис попадался им на глаза, но после возобновления занятий в 1949 году они его не встречали. Первый считал его бывшим музыкантом. Второй находил, что он законченный циник, атеист. Оба сходились в том, что человек он очень замкнутый. Во время войны немцы заставили его переселиться в деревню. Однажды они изловили бойцов Сопротивления – андарте, – заплывших с материка, и приказали ему собственноручно казнить их. Он отказался, и его включили в группу сельчан, назначенную к расстрелу. Но он чудом не был убит наповал и спасся. Эту-то историю, несомненно, и рассказывал нам Сарантопулос. По мнению многих местных, особенно тех, у кого немцы замучили родственников, ему следовало тогда подчиниться приказу. Но дело давнее. Его ошибка – если то была ошибка – послужила к вящей славе Греции. В деревню он с тех пор, впрочем, и носа не казал.
Потом выяснилась одна незначительная, но странная вещь. Димитриадис работал в школе всего год, и о том, упоминали ли Леверье, предшественник Митфорда, и сам Митфорд о своем знакомстве с Конхисом, пришлось спрашивать у других. Все как один говорили «нет»; в первом случае это еще можно было объяснить излишней скрытностью Леверье, его «важничаньем», как выразился, стуча пальцем по лбу, какой-то преподаватель. Вышло так, что последним, к кому я обратился с расспросами, был учитель биологии, пригласивший меня к себе выпить чашечку кофе. Леверье никогда не был на вилле, заявил Каразоглу на ломаном французском, «иначе я знал бы об этом». Он ближе других зрителей сошелся с Леверье; их объединила любовь к ботанике. Порывшись в комоде, вытащил коробку с цветочным гербарием, который Леверье старательно собирал. Пространные примечания, написанные удивительно четким почерком, с употреблением сложных научных терминов; несколько мастерских зарисовок тушью и акварелью. Из вежливости просматривая содержимое, я уронил на пол лист бумаги с засушенным цветком, к которому была прикреплена пояснительная записка. Скрепка ослабла, и записка упала отдельно. На обороте оказалось незаконченное письмо: строчки зачеркнуты, но что-то разобрать можно. 6 июня 1951 года – два года назад. «Дорогой г-н Conchis, боюсь, что невероятные события…» На этом текст обрывался.
Каразоглу я ничего не сказал, а тот ничего не заметил; но в этот момент я твердо решил наведаться к г-ну Конхису.
Не знаю точно, почему меня вдруг одолело такое любопытство. Частью из-за того, что любопытного вокруг попадалось мало, из-за надоевшей рутины; частью – из-за таинственной фразы Митфорда и записки Леверье; а частью – видимо, большей – по собственной уверенности, что я имею право на этот визит. Оба моих предшественника были знакомы с отшельником и не желали о том распространяться. Теперь, похоже, моя очередь.
А еще на этой неделе я написал Алисон. На конверте указал адрес Энн из нижней квартиры дома на Рассел-сквер с просьбой переслать письмо Алисон, где бы та ни находилась. Письмо вышло коротким: о том, что я вспоминаю о ней; выяснил, что означает «зал ожидания»; и что она может ответить, если захочет, а не захочет – я не обижусь.
Я понимал, что, живя на Фраксосе, поневоле цепляешься за прошлое. Здесь так много пространства и молчания, так мало новых лиц, что сегодняшним днем не удовлетворяешься и ушедшее видится в десятки раз ближе, чем есть на самом деле. Вполне вероятно, Алисон вот уже много недель обо мне не вспоминает, с полудюжиной мужчин успела переспать. И письмо я отправил, как бросают в море бутылку с запиской, – не слишком рассчитывая на ответ.