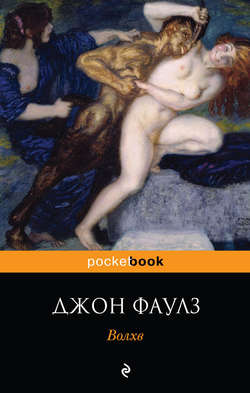Читать книгу Волхв - Джон Фаулз - Страница 29
Часть вторая
27
ОглавлениеПройдя за ним в концертную, я сел и выслушал Английскую сюиту ре минор. За чаем я все ждал, когда он намекнет, что знает о том, что я видел девушку, – а он не мог не знать, ведь ночной концерт, очевидно, и был затеян, чтобы обнаружить ее присутствие. Я, со своей стороны, придерживался прежней тактики: не упоминать ни о чем, пока он сам не даст к этому повод. Беседа наша текла как по маслу.
На мой дилетантский взгляд, Кончис играл так, словно между ним и музыкой не стояли ни «трактовка», ни необходимость усладить чей-то слух или утолить собственное тщеславие. Так, вероятно, играл сам Бах – по-моему, медленнее, чем большинство нынешних пианистов и клавикордистов, но не сбиваясь с темпа и не искажая рисунок мелодии. Сидя в прохладной, зашторенной комнате, я наблюдал за его склоненной над черным блестящим инструментом лысиной. И внимал баховской мощной целеустремленности, бесконечным секвенциям. Он впервые играл при мне высокую классику, и я был потрясен, как при виде картин Боннара; хоть и по-иному, но не менее сильно. В нем вновь возобладало человеческое. Слушая, я понимал, что в этот миг ни в коем случае не хотел бы оказаться в другом месте, что переживаемое теперь оправдывает все, что я здесь вытерпел, ибо терпел я для того лишь, чтобы прийти и сегодня. Кончис, рассказывая, как прибыл в Бурани, упомянул о встрече с будущим, о точке поворота. Сейчас я чувствовал то же, что он тогда; новый виток самосознания, уверенность, что эти душа и тело с их достоинствами и пороками пребудут со мной всегда, и нет ни выхода, ни выбора. Слово «возможность», до сих пор означавшее честолюбивые притязания, раскрыло свой новый смысл. Вся моя путаная жизнь, весь эгоизм, ошибки и предательства могут-таки послужить опорой, могут-таки стать фундаментом, а не взрывчаткой – и именно потому, что иного выбора нет. Это нельзя было назвать духовным перерождением. Ведь принимая себя такими, каковы мы есть, мы лишаемся надежды стать теми, какими должны быть; и все же я, кажется, сделал серьезный шаг вперед – и вверх. Он уже закончил играть и смотрел на меня.
– Вы превращаете слова в пустой хлам.
– Не я, а Бах.
– И вы.
Он поморщился, но я заметил, что он польщен – хоть и попытался это скрыть, утащив меня на послеобеденную поливку огорода.
Через час я вновь оказался в своей спаленке. Книги на столике были заменены. Тонкая французская книжечка – переплетенная брошюра без имени автора, изданная им за свой счет в 1932 году в Париже под названием «De la communication intermondiale». Я легко догадался, кто автор. Затем фолиант «В дебрях Скандинавии». Как и «Красоты природы», дебри оказались женского пола – нордические девушки, разнообразно стоящие, бегущие, обнимающиеся на фоне тайги и фьордов. Лесбийский оттенок не пришелся мне по вкусу; вероятно, потому, что та сторона многогранной натуры Кончиса, что питала явную склонность к «запретным» предметам и книгам, начинала меня раздражать. Я, естественно, не был – или, по крайней мере, уверял себя, что не был, – ханжой. По молодости лет я не догадывался, что чем больше себя уверяешь, тем меньше контролируешь; а давать волю собственным любовным порывам – вовсе не то же самое, что исповедовать сексуальную терпимость. Я был англичанином; следовательно, ханжой. Я дважды перелистал альбом; снимки резко диссонировали с музыкой Баха, еще звучавшей у меня в ушах.
И последняя книга – роскошное специальное издание «Le Masque Français au Dixhuitième Siècle»[54]. Над обрезом торчала белая закладка. Припомнив антологию на берегу, я открыл страницу, где кто-то отчеркнул карандашом абзац, в переводе с французского гласивший:
За высокими стенами Сен-Мартена посетитель имел удовольствие наблюдать на зеленых лужайках и в рощах танцующих и поющих пастухов и пастушек в окружении белорунных стад. Они не всегда были облачены в современные наряды. Подчас носили костюмы в римском или греческом стиле; тем самым оживали оды Феокрита и буколики Вергилия. Рассказывали даже, что там разыгрываются и более сомнительные сцены – летними ночами очаровательные нимфы спасаются бегством от странных темных фигур, получеловеческих, полукозлиных…
Наконец что-то разъяснилось. Происходящее в Бурани выдержано в духе домашнего спектакля; а отчеркнутый абзац подсказывал, что я, дабы не показаться невежливым и не испортить себе удовольствие, не должен совать нос за кулисы. Я смутился, вспомнив свои расспросы в Айя-Варваре. Умывшись, я, из уважения к светскому тону, которого Кончис придерживался по вечерам, надел белую рубашку и летний костюм. Выйдя из спальни, заметил, что дверь его комнаты отворена. Он пригласил меня внутрь.
– Сегодня выпьем узо наверху.
Он сидел за столом, просматривая только что законченное письмо. Любуясь холстами Боннара, я подождал, пока он надпишет адрес. Дверь в маленькую комнатку распахнута настежь, сквозь нее видны вешалка, гардероб. Всего-навсего туалетная. Со стола у раскрытых окон смотрит фотография Лилии.
Мы вышли на террасу. Там стояли два стола, один с бутылкой узо и бокалами, другой – накрытый к ужину. Я сразу заметил, что за этим столом – три стула; и Кончис понял, что я это заметил.
– Вечером у нас будет гостья.
– Какая-нибудь деревенская? – в шутку спросил я, и он, улыбаясь, покачал головой.
Вечер был чудесный, истинно греческий, когда небо и земля медленно сливаются в яркой точке заката. Серые, как шерсть персидской кошки, горы, огромный, не прошедший огранки, желтый алмаз небосклона. Я вспомнил, как в деревне, в такой же вечерний час, люди на верандах таверн разом повернулись к западу, точно сидели в кино, а всезнающее, красноречивое небо было им экраном.
– Я прочел в «Le Masque Français» абзац, который вы отметили.
– Всего лишь метафора. Но и она может пригодиться.
Протянул мне бокал. Мы чокнулись.
Кофе принесен и разлит, лампа перекочевала мне за спину и освещает лицо Кончиса. Мы оба ждем.
– Надеюсь, вы не лишите меня рассказа о ваших дальнейших приключениях?
Он вскинул голову, что в Греции означает «нет». Чуть ли не робко взглянул на дверь спальни; это напомнило мне мой первый визит. Я обернулся – никого.
Он заговорил:
– Догадываетесь, кто сейчас появится?
– В воскресенье ночью я не знал, можно ли к вам войти.
– Вам можно делать все, что заблагорассудится.
– Только не задавать вопросов?
– Только не задавать вопросов. – Слабая улыбка. – Вы прочли мою брошюрку?
– Нет еще.
– Прочтите внимательно.
– Конечно. В самом скором времени.
– И тогда завтра вечером проведем эксперимент.
– Полетим на другую планету? – спросил я, не сдержав сарказма.
– Да. Вон туда. – Звездная россыпь. – И еще дальше.
Он перевел взгляд на черные хребты западных гор, точно дальние светила будут для нас всего лишь перевалом.
– Там, наверху, говорят по-английски или по-гречески? – рискнул пошутить я.
Секунд пятнадцать он молчал; не улыбался.
– На языке чувств.
– Не слишком точный язык.
– Наоборот. Самый точный. Для тех, кто его изучит. – Повернулся ко мне. – Точность, о которой вы толкуете, важна в научных исследованиях. И совсем не важна…
Но я так и не узнал, где она не важна.
Знакомая легкая походка, шаги по гравию, приближающиеся со стороны берега. Кончис быстро взглянул на меня.
– Ни о чем не спрашивайте. Это самое главное.
Я улыбнулся:
– Как вам будет угодно.
– Ведите себя с ней как с больной амнезией.
– К сожалению, я никогда не общался с больными амнезией.
– Она живет сегодняшним днем. И не помнит о прошлом – у нее нет прошлого. Если вы спросите о прошлом, она только расстроится. Она очень ранима. И больше не станет встречаться с вами.
Мне нравится ваш спектакль, хотелось мне сказать, я не испорчу его. Но вместо этого я произнес:
– Хоть и не понимаю зачем, начинаю догадываться как.
Покачал головой:
– Вы начинаете догадываться зачем. А не как.
Он вперился в меня, подчеркивая каждое слово; потом повернул голову к двери. Я тоже обернулся.
Теперь меня осенило, что лампу поставили за моей спиной, чтобы осветить ее появление; и появление удалось ошеломляюще.
Она была одета, должно быть, по светской моде 1915 года: темно-синяя шелковая вечерняя шаль поверх легкого, цвета слоновой кости с отливом, платья, сужавшегося книзу и доходившего до середины икр. Тесный подол заставлял семенить, что прибавляло ей грациозности; приближаясь, она покачивалась, робея и спеша одновременно. Волосы подобраны кверху в стиле ампир. Она не переставая улыбалась Кончису, но с холодным любопытством взглянула, как я поднимаюсь со стула. Кончис был уже на ногах. Она казалась до того ухоженной, подтянутой и уверенной в себе – даже чуть заметная пугливость рассчитана до мелочей, – словно только что выпорхнула из ателье Диора. Во всяком случае, так я и подумал: профессиональная манекенщица. А потом: старый прохиндей.
Поцеловав ей руку, старый прохиндей заговорил:
– Лилия, позволь представить тебе господина Николаса Эрфе. Мисс Монтгомери.
Она протянула руку, я ее пожал. Холодная, недвижная ладонь. Я коснулся призрака. Заглянул ей в глаза – в глубине их ничто не дрогнуло.
– Добрый вечер, – сказал я.
Она ответила легким кивком и повернулась, дабы Кончису было удобнее снять с нее шаль, которую он и повесил на спинку собственного стула.
Обнаженные плечи; массивный браслет из золота и черного дерева; длиннейшее ожерелье из камней, похожих на сапфиры, но скорее всего – стразовое или ультрамариновое. По моим расчетам, ей было двадцать два или двадцать три. Но в облике сквозило нечто более зрелое, покой, присущий людям лет на десять старше, – не холодность или безразличие, но кристальная отчужденность; о подобной прохладе вздыхаешь среди летней жары.
Она поудобнее устроилась на стуле, сжала руки, слабо улыбнулась мне.
– Тепло сегодня, не правда ли?
Произношение чисто английское. Я почему-то ожидал иностранного акцента, но этот выговор узнал безошибочно. Тот же, что у меня; плод частной школы и университета; так говорят те, кого какой-то социолог назвал «господствующие сто тысяч».
– Да, не холодно, – ответил я.
– Господин Эрфе – молодой учитель, о котором я рассказывал, – произнес Кончис. В его тоне появилось нечто новое: почти благоговение.
– Да. Мы встречались на той неделе. Вернее, столкнулись в прихожей. – Еще раз слабо, без малейшего озорства, улыбнулась мне и опустила глаза.
Я чувствовал в ней беззащитность, о какой предупреждал Кончис. Но то была лукавая беззащитность, ибо в лице, особенно в очертаниях губ, светился ум. Она искоса смотрела на меня так, будто знала нечто мне неизвестное – не о роли, что ей приходится играть, а о жизни в целом; словно тоже тренировалась, сидя перед скульптурой. Подобные скрытность и самоуверенность захватили меня врасплох – потому ли, что в воскресенье она предстала передо мной в иной ипостаси, не столь салонной?
Раскрыв миниатюрный синий веер, принялась им обмахиваться. Невероятно бледная. Похоже, совсем не бывает на воздухе. Повисла внезапная неловкая пауза, точно никто не находил что сказать. Она нарушила молчание – так хозяйка по обязанности развлекает стеснительного гостя:
– Должно быть, учить детей очень занимательно.
– Не для меня. Я просто умираю со скуки.
– Все достойные и честные обязанности скучны. Но кому-то же надо их выполнять.
54
«Французский усадебный театр XVIII века» (фр.).